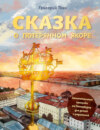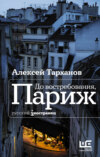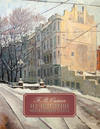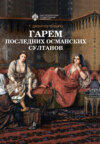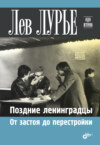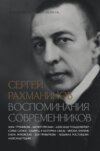Читать книгу: «По следам Дягилева в Петербурге. Адреса великих идей», страница 2
ГАЛЕРНАЯ УЛИЦА, 33. ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ БАРОНА ФОН ДЕРВИЗА
Кроме кузена Димы и Валечки Нувеля соседом Дягилева по Галерной были два весьма примечательных персонажа: княгиня Тенишева и Сергей Павлович фон Дервиз. Правильнее сказать, что они проживали на Английской набережной, а вот служебные флигели их особняков выходили на Галерную. На Галерной, 13 позже находилась рисовальная школа княгини Тенишевой (об этом пойдет речь далее). А на Галерной, 33 – театральный зал барона фон Дервиза.
Сергей Павлович фон Дервиз – наследник огромного состояния своего отца, известного концессионера и строителя железных дорог, Павла Григорьевича фон Дервиза, в полной мере был сыном своего отца по части того, что касалось культуры и, прежде всего, музыки. Павел Григорьевич в силу обстоятельств (здоровья детей) переехал в Ниццу, где, купив землю, выстроил потрясающую резиденцию и разбил парк с гротами, фонтанами и скульптурами. Был предусмотрен и театральный зал, куда хозяин мог спуститься прямиком из своих личных покоев. Примечательно, что Дягилевы были знакомы с Дервизами и даже посетили их виллу Вальроз по приглашению хозяина: он был приятелем Валериана Панаева. Елена Валериановна после перенесенной болезни по совету врачей и настоянию родных отправилась на зиму 189 года на юг Франции, Павел Григорьевич, узнав, что семья дочери его друга находится в Ницце, пригласил их пожить у него какое-то время и, конечно же, посетить его знаменитые концерты. Так что музыка сопровождала Дягилевых везде, и в Петербурге, и в Перми, и даже за границей в Ницце.
После смерти Павла Григорьевича его сын Сергей с матерью и младшим братом вернулись в Россию. Занявшись строительством собственного дворца (в 1885 году, то есть, когда Сергей Дягилев приезжает в столицу, здание уже имеет нынешний современный вид) в Петербурге на Английской набережной, Сергей фон Дервиз решил использовать служебный корпус вдоль Галерной не как доходный дом (что было бы логично, хотя в таком виде доходов Дервизы не нуждались), а как собственный театр.
Говорили даже, что молодой барон иногда просил прислугу вынести все стулья из театрального зала, приглашал лучшую труппу и сам, в одиночестве, наслаждался спектаклем. Действительно, театральный зал особняка фон Дервиза как нельзя лучше подходит для свиданий с музами.
В начале 1900 годов фон Дервиз продает свой дворец и переезжает за границу. Здание было разделено на три части, и каждая досталась разным хозяевам: часть корпуса по Галерной приобрел шталмейстер (начальник гаража и конюшен) императорского двора Николай Шебеко и стал сдавать бывший театральный зал Дервиза в аренду различным труппам и антрепренерам. Так, например, здесь появляется театр Интермедий Всеволода Мейерхольда, который выступал под псевдонимом «доктор Даппертутто» (в переводе с итальянского языка – «везде, повсюду». В то время режиссер был связан контрактом с Александринским театром и не мог работать в других местах под своей настоящей фамилией). Выступала в театральном зале Шебеко и Айседора Дункан. Кстати, известно, что Дягилев со своей компанией посещали ее спектакли (правда, в зале Дворянского собрания, а не на Галерной) и были в восторге от идей свободного танца и новой хореографии. Более того, в интервью 1910 года он будет подтверждать духовное родство с творчеством этой танцовщицы.
А в 1911 году в театральном зале Шебеко состоится примечательное мероприятие, непосредственно связанное с «Русскими сезонами». Речь идет о показе мод! Причем, устроит дефиле моделей и прочитает лекцию о современной моде известнейший французский кутюрье Поль Пуаре. К моменту приезда в Россию Пуаре Дягилев проведет уже 6 сезонов русского искусства в Париже, и они с Пуаре познакомятся лично. Галерная улица помнит Сергея Дягилева студентом, юношей с большими планами на жизнь и мечтами о будущей карьере, а спустя 15 лет на той же самой Галерной, в особняке по соседству с его когда-то съемной квартирой, лучший парижский модельер показывает коллекцию, вдохновленную проектами Дягилева.
Когда Пуаре со своими моделями прибыл в Петербург из Москвы, пресса уже написала о нем, и некоторые обозреватели подчеркивали связь моделей французского кутюрье с русской тематикой. В особенности это было заметно в фасонах манто и костюмов для прогулок, но и другие туалеты с вышивкой и декоративной отделкой, совершенно очевидно, были заимствованны из России. Корреспонденты подчеркивали, что уже не в первый раз нужно благодарить иностранцев за то, что они напоминают об эстетических ценностях, исконно присущих русским людям, но ценностями этими, увы, часто пренебрегают.
Одна из газет вообще проводит параллель между русским балетом, творчеством Бакста (знакомство Льва Бакста и Поля Пуаре произошло на выставке художников, участвовавших в оформлении спектаклей «Русских сезонов», открывшейся 20 июня 1911 года – до поездки Пуаре в Россию – в парижской галерее Бернхейма) и модными находками Поля Пуаре: автор прямо заявляет, что Россия оказала значительное влияние на творчество кутюрье.
Во время демонстрации моделей и затем в ходе лекции о современной моде стало ясно, что помимо этнографического элемента, едва ли не во всех туалетах читалось влияние русского балета, некоторые силуэты перекликались с «Шехеразадой», другие же вызывали в памяти изящные образы полотен художника Леона Бакста.
Думается, что если бы Сергей Дягилев в тот период находился в России, он бы обязательно почтил своим присутствием театральный зал на Галерной, однако ни в Москве, ни в Петербурге Дягилева тогда не было.
О московском показе свидетельствует письмо художника Игоря Грабаря к Александру Бенуа, в котором он восторженно рассказывает о вечере, проведенном в особняке Надежды Петровны Ламановой (московской портнихи, поставщицы двора Ее императорского высочества великой княгини Елизаветы Федоровны) на Тверском бульваре. Надежда Ламанова – коллега Поля Пуаре, друг с другом они были знакомы уже некоторое время, так как Ламанова минимум раз в год посещала Париж для закупки тканей. Именно она пригласила знаменитого француза к себе в Москву, после чего он также решил посетить и Санкт-Петербург. Грабарь советовал своему другу-художнику обязательно оказаться на показе мод в столице, так как московское дефиле произвело на него самого неизгладимое впечатление. Кстати, забавно, что Пуаре в мемуарах писал, будто в Россию он привез шесть манекенщиц, Грабарь же вспоминает о дюжине «пробир-мамзелек», то есть девушек было двенадцать. То ли кто-то из них ошибается, то ли дамы быстро переодевались, создавая ощущение, что их больше, то ли у художника от изумления двоилось в глазах.
Бенуа, конечно же, не пропустил такое событие! Да еще об этом модном показе он написал статью, в которой назвал представителя портновского искусства художником. Впервые именно в Петербурге мастерство модельера вообще стало восприниматься не как ремесло, а как искусство, а портной стал наделяться качествами настоящего художника. Александр Бенуа в своей статье говорит о том, что давно пора отказаться от академических различий между «большим искусством» и искусством прикладным. Это разделение, и без того условное, изжило себя и должно уйти в прошлое. Кроме того, Бенуа называет Пуаре своим коллегой и подчеркивает, что из его речи-лекции, прозвучавшей в театральном зале Шебеко, можно сделать вывод, что сам кутюрье обладает всеми признаками настоящего художника. Он натура чувствующая и думающая, уже то, как он описывал античную статую в своем парижском саду, – сближает его с поэтами своего времени. В его «произведениях» можно обнаружить куда больше эстетики, нежели в большинстве традиционных «художественных» работ. Известно, что петербургское дефиле посетил и Роман Петрович Тыртов – в будущем известнейший художник Эрте, который будет работать с Пуаре в Париже. Эрте получит предложение о сотрудничестве и от Дягилева, но в итоге выберет другой проект. О несостоявшейся работе с «Русскими сезонами» Роман Петрович будет вспоминать с сожалением…
Итак, уже в 1911 году «русский балет Сергея Дягилева» добрался из Парижа до Галерной улицы в Петербурге, где за 15 лет до этого юный Сережа начинал свой творческий путь. Через французскую моду, Поля Пуаре и «Шехеразаду» Дягилев как будто бы преодолел законы и механизмы времени.

Глава 2
Первые кураторские предприятия. Выставки современного искусства
ЛИТЕЙНЫЙ, 45. НОВАЯ КВАРТИРА СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА И БУДУЩАЯ РЕДАКЦИЯ
Дягилев окончил университет последним из своей компании – летом 1896 года. К тому моменту он уже вступил в наследство своей покойной матери, получив около 60 тысяч рублей (учитывая, что по нынешним меркам это более 60 млн., понятно, что унаследованный капитал был весьма внушительным), и проживал по другому адресу: Литейный, 45. В 1894 году умер отец Философова, и через полгода Анна Павловна с семейством оставили квартиру на Галерной и переехали на Фонтанку к Летнему саду. Дягилев, обычно обедавший у родственников и не желавший жить слишком далеко от них, переехал тоже, сняв квартиру на Литейном проспекте в доме 45. Произошло это осенью 1895 года. Именно в этой квартире на Литейном родится «Мир искусства», но позднее: первый номер журнала выйдет только в 1898 году. Тем не менее, за три года до этого Сережа многое успеет сделать.
Возможно, на данном этапе возникает вопрос: почему и Дягилев, и Философовы так часто меняли адрес пребывания? Дело в том, что в Петербурге до революции домовладельцами были единицы, большая часть населения, даже весьма обеспеченные люди, обычно снимали квартиры, а летом – дачи. Именно поэтому существует выражение «доходный дом», с которым мы встречались, говоря о Галерной улице. Дом, в котором квартиры и комнаты сдаются в аренду, разумеется, приносит доход своему хозяину – отсюда и название.
Переехав в другую квартиру, да еще и обладая средствами, Сергей решает задуматься об обстановке, в которой он будет жить, и во время путешествия по Италии летом 1895 года покупает старинную мебель эпохи Возрождения, картины, лампы и вазы. Помогал ему с покупками двоюродный брат Павка – Павел Корибут-Кубитович, увлекавшийся антиквариатом и имевший среди приятелей определенный авторитет в этом вопросе. Посещая старьевщиков и антикваров, молодые люди искали подходящие предметы, и в итоге это предприятие увенчалось успехом: Дягилев привез для своей квартиры кожаные кресла, кресла «Савонарола», стол с ящиками и несколько стульев, бронзовые вазы и статуэтки. Когда покупки прибыли в Петербург и заняли свои места, квартира преобразилась настолько, что друзья Дягилева не скрывали свой восторг, оказываясь там. Сам хозяин был невероятно горд проделанной работой. Несложно представить эту гордость! Ведь Сергею Дягилеву тогда всего-то 23 года, но его квартира – почти музей и прелестный образец хорошего вкуса.
Безусловно, такое поведение не могло не вызвать обсуждений. Сплетни из Петербурга, преодолев больше тысячи километров, добрались до Перми: всех интересовала квартира Дягилева стоимостью 950 рублей в год, мебель, привезенная из Венеции, картины, купленные за границей. Конечно, Дягилеву предрекали скорое разорение. А он все не разорялся. Сам герой этих сплетен был осведомлен о том, что про него говорят и что ему пророчат.
Сохранилось несколько его писем к родителям, где он в ироничной манере успокаивает мачеху, чтобы она не переживала за его благополучие, и как бы невзначай напоминает ей о своих встречах с немецким живописцем Ленбхом и писателем Львом Толстым. Стоит ли после подобного рассуждать о мебели? Зачем тревожиться по пустякам?
Дело в том, что Дягилев во время своего заграничного путешествия был принят многими за богатого русского аристократа (видимо, облик молодого человека был соответствующим). Когда Сергей купил у Ленбаха картину для своего «музея», художник сделал на полотне дарственную подпись – «меценату». Что касается Толстого: Сергей с кузеном Димой застали писателя у него дома в Москве и даже были удостоены беседы.
В январе 1896 года в печати выходит статья Дягилева об акварельной выставке, правда подписана она псевдонимом «Любитель». Можно себе представить, как 23-летний Сергей, еще студент, предоставивший на вернисаж несколько полотен из собственной коллекции, сидел в своей квартире за 950 рублей в год и писал этот обзор выставки, с трепетом ожидая реакции публики на свои мысли. Реакция последовала: княгиня Мария Тенишева была в восторге от статей Сережи: она хлопотала по поводу места для него в газете «Новая Русь», Дягилев должен был работать в художественном отделе. Из этого, увы, так ничего не получилось. Однако за год Дягилев опубликовал 4 статьи, а в следующем году еще 6. Бенуа, который в некоторой степени считал себя наставником своего друга, тоже был восхищен, так как, по его собственному признанию, ничего подобного не ожидал от человека, на которого сам он меньше всего возлагал каких-либо надежд. Вероятно, что более всего друзей и близких Сережи восхищала его смелость, ведь в статьях 1896 года и были сформулированы основные принципы устремлений Дягилева и его планы на будущее. Почва для «Мира искусства» еще только подготавливалась, а он уже знал и понимал, что нужно делать: идти напролом, поражать, выступить сразу, показать себя полностью, со всеми национальными качествами и со всеми недостатками. Нужно отвоевать себе место на мировой художественной арене, сделаться постоянными участниками европейского искусства. Дягилев писал о необходимости не только показываться в Европе русским художникам, но и привозить европейское искусство в Россию.
Привлечением европейского искусства Дягилев и занялся в следующем году. У него уже были планы относительно организации выставки в Санкт-Петербурге, так что с осени 1896 года Сергей предпринимает активные действия. Сначала он пытался найти покровителей в лице какого-нибудь учреждения, но, получив отказ от общества акварелистов, а затем и от академии художеств, обратился к княгине Тенишевой, которая как раз занималась коллекционированием и предложила устроить выставку у себя в особняке.
Уже здесь Дягилев ведет себя очень активно, если он сталкивается с трудностями, он не отступает и все равно доводит дело до конца. Препятствия как будто только подзадоривают его, а не вызывают страх и желание отступить. Там, где его друзья лишь мечтали о великих свершениях и изменении общественного вкуса, Дягилев предпринимал реальные действия.
Действительно, энтузиазм Сережи не знал пределов, его активность была так высока, что в итоге отношение к его затее начинает меняться. Императорская академия художеств выразила готовность содействовать устройству выставки: вице-президент Императорской академии граф И. И. Толстой поддержал идею молодого человека, которого считал способным справиться с подобной задачей. По его распоряжению Дягилеву были выданы рекомендательные письма и удостоверение. Более того, академия позволила ему отправлять в ее адрес акварели, которые будут на выставке. В благодарность доход от выставки (около 500 рублей) был пожертвован в пользу учеников Высшего художественного училища при академии, которым требовалась финансовая поддержка. Практика благотворительных сборов была довольно распространена, так как это помогало снизить затраты на таможенные пошлины при ввозе картин из-за границы.
СОЛЯНОЙ ПЕРЕУЛОК, 15. АКАДЕМИЯ ШТИГЛИЦА
Поскольку Дягилев планировал проведение выставки в доме княгини Тенишевой на Английской набережной, для экспозиции было отобрано более двухсот работ, которые вполне могли бы разместиться в гостиных ее особняка. Однако все получилось еще лучше: за пару недель до открытия Дягилев нашел другое, более просторное место в Музее училища технического рисования барона А. Л. Штиглица. Извинившись перед Тенишевой за неудобства и поблагодарив ее за оказанное содействие и всяческое участие, Дягилев занялся подготовкой к открытию.
В итоге, мероприятие удалось устроить в одном из самых лучших выставочных залов Петербурга, ведь музей открылся буквально за несколько месяцев до описываемых событий: 30 апреля 1896 года. Центральное училище технического рисования барона А. Л. Штиглица было основано в 1879 году и тогда же началось строительство учебного корпуса. Спустя два года было решено открыть и музей, который, естественно, потребовал отдельного здания. Руководил строительством профессор архитектуры и первый директор училища, Максимилиан Месмахер, такой же целеустремленный энтузиаст, как и Дягилев. Пока строился музея, Месмахер ежедневно присутствовал на стройке: давал указания рабочим, часами разговаривал со своими учениками, которые расписывали потолки или работали над мозаикой, проверял, как идут дела в мастерских. Работа училища при этом тоже продолжалась и требовала от директора максимального внимания, спал он всего лишь четыре часа в сутки.
Кстати, образ Максимилиана Месмахера можно увидеть на фасаде музея: в центральной части здания над входом расположен треугольный фронтон с фигурами, символизирующими живопись, скульптуру, архитектуру, прикладное искусство и, предположительно, историю искусств. В центре между ними стоит мужчина-художник: в его облике – портретные черты архитектора.
На дягилевской выставке английских и немецких акварелистов помимо иностранных экспонатов были показаны и акварели из петербургских частных собраний, а также серия работ из Императорского Эрмитажа. Это говорит об определенном уровне доверия организатору, хотя известно, что выставка проходила без высочайшего покровительства (то есть никто из членов императорской семьи ею не занимался), император также выставку не посещал.
Уже упомянутый нами знакомый Дягилева Платон Львович Ваксель предоставил для выставки портрет знаменитой певицы Марчеллы Зембрих работы немецкого художника Ленбаха (сейчас он находится в Государственном Эрмитаже). Кроме того, Ваксель, который заведовал музыкальным отделом газеты «Journal de St. Petersbourg», где он печатался и сам под псевдонимом V.P., опубликовал несколько заметок о выставке в музее Академии Штиглица. Так что круг общения, который так тщательно формировал Сергей Дягилев в период своего студенчества, начал приносить свои плоды. Учитывая, что Ваксель служил в Министерстве иностранных дел, а также был действительным членом Академии Художеств, можно предположить, что Дягилева с вице-президентом академии И. И. Толстым познакомил именно он.
На выставке за месяц побывали почти 7 000 человек, и, хотя она не была чем-то грандиозным (пока), организована была прекрасно. Дягилев успел подготовить и издать каталог. Академия художеств, очевидно оценив потенциал этого «просвещенного любителя искусств» и недавнего выпускника, предлагает Дягилеву организовать еще два мероприятия.
Рецензии на выставку появились во многих петербургских изданиях. Корреспонденты отмечали, что это первая иностранная выставка, устроенная частным лицом, а не каким-либо обществом. Однако в том, что касалось художественной жизни в России, последнее слово всецело принадлежало критику Владимиру Васильевичу Стасову. Идейный вдохновитель демократического движения в искусстве, опора художников-передвижников и современных русских композиторов, Стасов считал, что задача творческой элиты – говорить о реальных проблемах общества и высказываться на остро социальные темы. Поиски красоты, то есть «искусство для искусства» Стасов не только отрицал, но и порицал. Разумеется, выставка английских и немецких акварелистов его заинтересовала не более, чем умеренно. Стасов высказывается весьма сдержанно и вполне корректно, а вот что будет дальше, мы узнаем чуть позже. А пока в 1897 году про предприятие Дягилева он напишет довольно спокойно, выделив некоторые произведения, отметив в них творчество, поэзию, красоту, новые световые эффекты и новые технические способы цветопередачи. Большинство же работ Стасову все-таки не понравились, он назвал их картинами и картинками без сюжета и содержания.
Поскольку Дягилеву предложили заняться еще двумя выставками, скандинавской и английской, он активно продолжает работу. Однако в итоге Дягилев сосредоточился на выставке скандинавских художников, а от английской отказался.
БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ УЛИЦА, 38. ОБЩЕСТВО ПООЩРЕНИЯ ХУДОЖЕСТВ
Выставка скандинавских художников открылась в залах Общества поощрения художеств 11 октября 1897 года. Этому предшествовала тщательная подготовка, начавшаяся еще летом. Уже было отмечено, что этим мероприятием Дягилев занимается по поручению художественного учреждения, хотя, увы, не сохранился письменный документ с этим предложением. Но есть письмо к Александру Бенуа, которое косвенно подтверждает, что заказ был, и есть ответ Дягилева И. П. Балашову – вице-председателю Общества поощрения художеств, в котором оговариваются основные детали подготовительного периода организации выставки.



Дягилев просил всю художественную часть предоставить исключительно ему: он настаивал, что сам будет отвечать за выбор художников и картин, а также за их размещение в выставочном пространстве. При этом он отказывался от хозяйственных обязательств.
Кроме того, надо было решить финансовые вопросы: Дягилев ходатайствовал о выделении ему суммы в 500 рублей на транспортные расходы (необходимо было посетить выставку в Стокгольме) и просил оказать ему содействие в общении с датским и шведско-норвежским правительством.
Обратим внимание на то, как Дягилев четко обозначает свою заинтересованность именно в художественных вопросах. По сути, здесь он выступает уже как настоящий куратор, который будет выбирать участников, комплектовать экспозицию и планировать ее размещение в залах. Это само по себе было событием, так как обычно подготовкой выставки занималась целая комиссия, состоявшая из нескольких человек. Да и сроки подготовки были рекордными: письмо к Бенуа датируется апрелем, выставка открылась в октябре! Надо отметить еще одну деталь, необычную для русской выставочной практики: в каталоге выставки обозначались цены на экспонируемые произведения, то есть выставка носила характер коммерческого предприятия, что отечественного зрителя несколько удивило. Работы стоили от 100 до 3640 рублей, а на Стокгольмской выставке цена на эти же работы была указана в кронах – учитывая обменный курс, цены были одинаковыми.
Летом Дягилев едет в Стокгольм, так как в это время там проходит Всеобщая художественно-промышленная выставка, приуроченная к двадцатипятилетию восшествия на престол короля Оскара II. Важно отметить, что Сергей Дягилев не перевозит выставку в Петербург из Стокгольма и не создает ее уменьшенную копию, он именно отбирает, опираясь на свой вкус, произведения, которые кажутся ему интересными и которые могут заинтересовать публику в России. Кстати, осенью в «Северном вестнике» он опубликует очень подробную статью под названием «Современная скандинавская живопись» – что это как не пресс-релиз собственной выставки? Или, возможно, продуманная рекламная кампания? Поскольку статья опубликована как обзор на уже закончившуюся выставку, а дягилевское предприятие только открылось, можно предположить, что даты публикации были выбраны не случайно и наверняка были спланированы заранее.



Итак, картины были отобраны, формальности улажены и залы Общества поощрения художеств приняли посетителей. По приглашению Дягилева на вернисаж в Петербург приехал знаменитый шведский художник Андерс Цорн, причем, он остановился у него в квартире на Литейном проспекте, 45 (когда Дягилев был в Швеции, он тоже останавливался в доме Цорна). Художник считал Дягилева выдающимся молодым человеком и в своих автобиографических заметках вспоминал, как радушно был принят в России. Забавно, что это «радушие» несколько иначе помнит Философов: Цорна окружили вниманием и заботой, друзья по очереди дежурили около художника, стараясь обеспечить ему максимальный комфорт, в общем, это все было весьма утомительно и они порядком устали.
В честь Цорна Дягилев организовал банкет на 95 персон недалеко от места проведения выставки в престижном ресторане «Донон» на набережной Мойки, почти напротив Зимнего дворца! Специально для банкета Илья Репин расписал акварелью меню, он же открывал мероприятие торжественной речью. Чтобы поприветствовать Цорна, из Москвы приехали Мамонтов, Серов и Коровин. Дягилев, естественно, подготовил целую речь о скандинавской живописи. Вечер прошел весьма удачно, внимание, которое получил художник в России, несомненно, льстило ему. Единственное, что портило Цорну настроение – бесконечные поцелуи, которыми каждый из почти сотни человек хотел одарить иностранца.
Наверняка сейчас возникает вопрос, почему Дягилев так радел за скандинавское искусство. Почему ему интересно было именно такое направление в выставочной деятельности? Зачем было везти в Россию не самых популярных в Европе художников? Ответ может звучать так: скандинавское искусство в определенный момент своей истории было весьма провинциальным и бедным с художественной точки зрения. Все в один момент изменила Всемирная Парижская выставка 1878 года, которая это наглядно показала. Пресса буквально загрызла несчастных художников, однако они не сломались и не обиделись, а, выучив урок, влились в общеевропейскую живопись. То же самое планировал и Дягилев для художников из России.
SALZBURG, СОЛЯНОЙ ГОРОДОК
Скандинавская выставка закончилась в ноябре 1897 года, а уже в январе 1898-го снова в Музее училища барона Штиглица Дягилев открыл Выставку русских и финляндских художников. Это мероприятие задумывалось как программная демонстрация новых молодых творческих сил. Сергей не раз подчеркивал, что для него будущая выставка имеет некое «символико-политическое значение». Подготовка, как и в случае со скандинавским проектом, была проведена в крайне сжатые сроки.
Дягилев вместе с Философовым успел съездить в Москву, чтобы предложить художникам участие в будущей выставке. Поход по мастерским дал свои результаты: Серов, Нестеров, Коровин и Левитан поддержали затею. Интересно, что при выборе работ последнее слово всегда было за Дягилевым, он проявил себя как настоящий диктатор, не особенно считавшийся с мнением и авторитетом авторов.
Развеской картин он тоже руководил самостоятельно: Дягилев носился по залам, как вихрь, иногда не ложился спать ночью, чтобы все успеть, наравне с рабочими распаковывая ящики, таская картины и перевешивая их по несколько раз, пока не оставался доволен результатом. Рабочие Дягилева побаивались, но уважали и подчинялись ему беспрекословно.
Дягилев позаботился даже о рамах: дубовые или бронзовые, а иногда и белые – они подбирались под каждое произведение отдельно. Стены на выставке были закрыты тканью, которая гармонировала с цветовым настроением каждого представленного художника. Пол перед картинами тоже был затянут сукном.
В итоге в залах музея было представлено около трех сотен работ тридцати авторов. Из России были Л. Бакст, А. Бенуа, О. Браз, А. Васнецов, М. Врубель, К. Коровин, И. Левитан, С. Малютин, М. Нестеров, Л. Пастернак, А. Рябушкин, В. Серов, К. Сомов, М. Якунчикова. Интересно, что сейчас мы относимся к ним как к признанным мастерам, их картины стоят огромных денег, коллекционеры на аукционах бьются за возможность покупки, а тогда, в 1898 году, это все – никому не известная молодежь.
От Финляндии выставлялись А. Галлен-Каллела, А. Эдельфельт, В. Бломстед, В. Валлгрен, М. Энкелл и другие. Как и в прошлый раз, Дягилев вместе с Тенишевой ездил в Гельсингфорс (Хельсинки) и лично отбирал картины для своего мероприятия. Одна из особенностей выставки состояла в том, что почти все произведения были отмечены поиском национального стиля. Если финны обращались к эпосу «Калевала», то русские художники – к народному фольклору, сказкам и допетровскому периоду.
Выставка имела определенный успех, ее хвалили многие художники, в основном, Репин, Нестеров и Остроухов. Зрителей же выставка поразила изысканностью и утонченной эстетикой. Весь месяц залы музея Училища Штиглица украшались букетами из свежих гиацинтов и декоративными композициями из оранжерейных растений. Некоторые журналы тоже вполне позитивно оценили старания устроителя: выставку признали интересной, отметили присутствие многих хороших экспонатов, а главным ее достоинством назвали то, что она давала понятие о новых путях творчества, о новых тенденциях, исканиях и устремлениях. Ведь задача каждого нового поколения в искусстве – писать новое и по-новому, а не повторять уже существующее.
Денежный сбор от выставки был передан «недостаточным» ученикам Высшего училища при Академии художеств – об этом сообщалось в афише, которую нарисовал Сомов. «Петербургская газета» писала, что многие произведения, показанные на выставке, были проданы, причем, среди покупателей значились Русский музей, финский Национальный музей Атенеум, П. М. Третьяков, М. А. Морозов, С. И. Мамонтов, М. К. Тенишева и С. П. Дягилев. Обратите внимание, что среди покупателей – три очень крупные музейные институции, две из которых государственные.
Акварель Сомова купил дядя императора президент Академии художеств, великий князь Владимир Александрович. Этот поступок вызвал удивление у всей августейшей родни, но Владимиру Александровичу, который коллекционировал работы в основном русских художников, было все равно. Обратим внимание, что на этот раз Дягилев добился высочайшего присутствия: на вернисаж прибыла почти вся императорская семья, причем обе императрицы и император возглавляли этот визит. Когда они вошли в зал, оркестр на хорах заиграл приветственный марш, что произвело очень приятное впечатление на всех собравшихся.
Важно, что Выставка русских и финляндских художников вызвала международный интерес. Когда она завершилась, Дягилеву предложили показать ее в Мюнхене в рамках русского отдела ежегодного Сецессиона. В итоге выставка была показана в Мюнхене, Кельне, Дюссельдорфе и Берлине.
Центром экспозиции стали работы Врубеля и Галлен-Каллелы. Очень необычные и непривычные для зрителя, они олицетворяли собой зарождающуюся эпоху модерна. Для Врубеля это была дебютная выставка в Петербурге и, к сожалению, ему от критиков досталось больше всех: его декоративное панно «Утро» (также известно под названием «Русалки») назвали «самой громадной и самой безобразной картиной». Но именно ее в день открытия выставки сразу же приобрела для своего дома на Английской набережной княгиня Тенишева. Известно, что Врубель писал эту работу для московского особняка Морозова на Спиридоновке, но заказчики от нее отказались. Художник хотел уничтожить панно, однако по совету Репина не стал этого делать и отправил его на выставку русских и финляндских художников. Из собрания Тенишевой панно попало в Русский музей, где и находится сейчас. Покупка врубелевской работы навлекла на княгиню страшные неприятности, в особенности потому, что Тенишева превратилась в объект для шуток, от которых не защищал ни статус, ни искреннее желание продвигать современную русскую живопись.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе