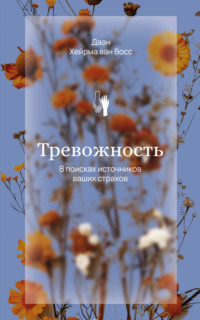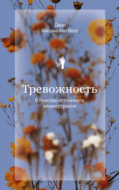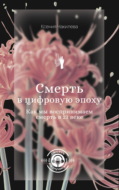Читать книгу: «Тревожность. В поисках источников наших страхов», страница 4
Но как назвать то, что лежало в основе этого раздвоения?
Почтенный ярлык «меланхолия» никогда не предназначался для женщин. Для них существовала особое понятие «утробная меланхолия», или истерия, происходящая от греческого слова hysteron, означающего «матка»28. На самом деле истерия была сродни меланхолии, но без связанных с ней положительных коннотаций необычности и гениальности. Представление о том, что матка, самопроизвольно двигаясь, оказывает негативное влияние на психическое здоровье, существовала еще в Древнем Египте (1900 год до н. э.). В одном из самых ранних медицинских документов, папирусе Эберса (около 1600 года до н. э.), уже упоминался основной «истерический» симптом: чувство удушья. По мнению древних египтян, помочь могло возвращение матки в ее «естественное положение», иногда после того, как вокруг влагалища размазывалось едкое, зловонное вещество. Первым, кто использовал термин «истерия», был Гиппократ. Из-за перемещений (блуждания) матки, утверждал Гиппократ, внутреннее равновесие женщины нарушается. По его мнению, тело женщины холодное и влажное, оно может быстро гнить, что приводит к страхам, ощущению удушья и тремору. Согласно Гиппократу, женщине нужен секс с мужчиной, чтобы «очистить» свое тело. Только в XVII веке благодаря усилиям французского ученого Шарля Ле Пуа (который считал, что истерия на самом деле то же самое, что ипохондрия) и оксфордского ученого Томаса Уиллиса было признано, что матка не играет никакой роли в том, что принято называть истерией.
Во времена Шьювке термин меланхолия (включая «меланхолию матки») почти потерял свою научную значимость. Для старой болезни появилось новое название – депрессия, от латинского deprimere, «подавлять».
Слово «депрессия» для описания подавленного состояния появилось в медицинских словарях с 1860-х годов. По мнению историков, именно этот элемент (подавленное состояние) и породил новый медицинский термин. С одной стороны, понятие «меланхолия» представлялось слишком широким, но, с другой стороны, оно не подходило для подавленности, которую врачи наблюдали у пациентов. Таким образом, у меланхолии появилось несколько разновидностей, из которых депрессия была наиболее важной. В первом издании Regis Handbook, авторитетного медицинского справочника, опубликованном в 1885 году, депрессия описывалась как «состояние, противоположное возбуждению», варьирующееся от «незначительных трудностей с концентрацией внимания до полного паралича»29. Врач сэр Уильям Галл, основатель концепции нервной анорексии, уточнил это понятие, заявив, что депрессия может возникнуть «лишь на первый взгляд без адекватной причины»30. В начале ХХ века, когда психиатрию постепенно начали признавать самостоятельной областью медицины, термин «меланхолия» окончательно уступил более точной, научно обоснованной «депрессии». Если меланхолия все чаще рассматривалась как смутное настроение, которое, по мнению Фрейда, больше всего похоже на траур по близкому, депрессия стала в медицинской сфере общепризнанным понятием31.
Моей бабушке Шьювке тоже пришлось иметь дело с этим относительно новым термином, к ее большому огорчению. «Врач назвал это депрессией, но толку-то. Он отправил меня к психиатру, тоже не помогло. Это было просто утомительно. Никакого проку от такого лечения», – рассказывала она. Лекарства ей казались чем-то ужасным. Ее пытались лечить сном – метод, изобретенный швейцарским психиатром Якобом Клези, при котором пациента вводят медикаментозно в состояние сна на 18–20 часов в день в течение двух недель. Для его успокоения. Лечение ей выбило ее из колеи. Она пробовала снотворные, потом антидепрессанты: «Это было химическое отравление». Она до сих пор не доверяет парацетамолу.
В свои 96 лет бабушка все еще время от времени страдает нервными расстройствами, но провалы стали значительно менее глубокими. Она ждет, когда это пройдет, а тем временем слушает в доме престарелых радио, классическую музыку, фортепиано и кларнет. И, конечно, скрипку.
Из-за чего же Шьювке страдала от таких тревожных расстройств? Из-за недостатка саморазвития, из-за того, что ей пришлось пожертвовать талантом к рисованию ради семьи, из-за ее желаний, подчиненных, как было принято pater familias, главе семьи? Дочь Шьювке, моя мать, регулярно задавала себе этот вопрос. Самореализация, подчинение – это слова из другого времени, из 1960-х, когда стоическое молчание периода послевоенного восстановления сменилось свободой самовыражения, феминизмом, огромным вниманием к личности, к психике, к себе, к подлинному «я», к движениям души.
Моя мать училась в Амстердамском университете, как и я позже, на улице Аудеманхейспорт. Она поступила туда точно по той же причине, что и я через 30 лет: потому что она хотела больше узнать о себе и о мире, но не знала, с чего начать. Чтобы никогда не теряться в темном, иррациональном внутреннем мире своей матери, она цеплялась за науку, за разум. В 17 лет она познакомилась с известным архитектором, который был на 13 лет старше ее. «Мне еще предстояло сдавать выпускные экзамены, – рассказывала она мне. – Я часто ходила к нему обедать. Он готовил яйца с сырным соусом и чесноком, а потом отвозил меня обратно в школу. От меня воняло, но мне было все равно. Как будто все границы рухнули, как будто мир открылся передо мной. Он возил меня в Венецию, в Рим. Мир оказался веселее, чем я себе представляла. И я могла наслаждаться миром вместе с ним. Меня замечали».
Ее мать, Шьювке, сшила свадебное платье из образцов светло-голубого вельвета текстильной фирмы Barotex. Накануне свадьбы мама пожаловалась, что ей совсем не хочется замуж. Она думала, что она слишком молода и сомневалась, стоит ли ей вступать в брак. «Чего тебе еще желать», – сказала моя бабушка. Моя мама стала юной невестой, которая должна была изо всех сил стараться не выглядеть слишком мрачной. Во время медового месяца в Венеции у нее случился первый приступ паники.
В течение нескольких лет дела у молодой пары шли хорошо. Но в какой-то момент муж начал ее раздражать. «Лучшие времена были, когда он был отцом, а я дочерью, – говорит она. – Мы так и не смогли перейти к равноправным отношениям». Вскоре ее восхищение полностью сменилось разочарованием. В 24 года она была не только студенткой, но и молодой разведенной женщиной, которая могла выглядеть сколь угодно мрачной. После столь раннего развода она оказалась в центре внимания. Популярный в то время журнал Haagse Post взял у нее интервью о «новом разводе»; «новизна», видимо, определялась тем фактом, что развод был инициирован женой, а не мужем. Одним из авторов этой статьи был некий журналист Haagse Post из Брабанта, сочувствовавший брошенному мужу, который, «казалось, был подавлен сложными разговорами». Этот журналист тоже сыграет определенную роль в этой истории, хотя он и не знал об этом в то время.
Поскольку моя мать отказалась от алиментов, ей пришлось сразу же начать зарабатывать на хлеб самой. Она стала ассистентом Йоопа Хаудсблома и Абрама де Свана, известных и к тому же харизматичных социологов. Помимо социологии, она изучала скульптуру в Академии Ритвельда и играла в небольшом оркестре. Она жила на продуваемых сквозняками верхних этажах в узких двориках амстердамского района Йордана, ложилась спать поздно, обычно после нескольких часов в кафе, где она выпивала, играла в шахматы, курила дешевые самокрутки. Она была единственной женщиной, удержавшейся в кругах мужчин-социологов, но это требовало усилий, а груз, который мать взвалила на себя, был тяжелым. Чтобы противостоять этому давящему чувству, она читала еще больше и работала еще усерднее.
После нескольких благополучных месяцев всегда наступал срыв. Она больше не осмеливалась выходить на улицу, встречаться с друзьями, читать книги. Свернувшись калачиком под одеялом, она снова и снова слушала успокаивающую музыку Эрика Сати и вставала только для того, чтобы сходить в туалет и перевернуть грампластинку, когда заканчивала играть одна сторона. Со временем чувство времени, ощущение часов и дней пропадало напрочь, она ориентировалась только по сторонам пластинки. Она чувствовала, что у нее «нет почвы под ногами». Когда мать говорит об этом сейчас, ее голос подрагивает. «Тогда я боялась, что не справлюсь с жизнью. Вещи, которые обычно помогали, теряли смысл, свет тускнел. Страх перед внешним миром усиливал страх внутри и наоборот, – она перевернула пластинку. – Я знала, что выберусь из этого, но это было больше самоуспокоение, чем настоящая вера». Когда она рассказывает об этом, ее голос прерывается. «Я была бледной, под глазами круги. У меня постоянно наворачивались слезы. Я чувствовала себя отгороженной от мира, как будто между нами было стекло или какая-то завеса». Все это длилось несколько недель. Потом она снова приходила в себя. Предвестники, срыв, потом восстановление, таков был цикл.
И вот Абрам де Сваан, у которого помимо социологических были еще и психоаналитические амбиции, посоветовал ей обратиться к психотерапевту. Ей же не хочется всю жизнь повторять один и тот же сценарий и постоянно переживать одни и те же срывы, не так ли?
Основоположником психоанализа был Фрейд, считавший, что этот метод должен занять «среднее положение между медициной и философией»32. Психоанализ был подобен полевым исследованиям: он позволял Фрейду проверять свои теории и в то же время делать новые открытия, которые он включал в свою теорию. Итак, постепенно Фрейд навсегда изменил наше представление о страхе.
Раздосадованный расплывчатостью понятия «неврастения», которое насчитывало слишком много симптомов, Фрейд в 1894 году предложил понятие «тревожный невроз». По его мнению, основной симптом тревожного невроза – это «тревожное ожидание». В этом описании он опирался, возможно, неосознанно, на две давние традиции: традицию, которая характеризовала страх как болезнь воображения, и традицию, рассматривавшую страх как реакцию на будущее зло.
Наибольшее влияние на историю концепции страха оказала так называемая «вторая теория страха» Фрейда, которая рассматривала страх как реакцию на сигнал (триггер) во внешнем мире. Хотя этот сигнал является более или менее случайным, он способен затронуть внутреннюю проблему и, следовательно, вызывать ощущение опасности. В качестве примера можно привести фобии: испуг при виде безобидного предмета или существа, такого как паук или мышь.
Согласно Фрейду, корень проблемы чаще всего лежит в сексуальном возбуждении, одном из многих ощущений, которые мы испытывали в детстве и которым нет места во взрослой жизни. Вот почему Фрейд, который когда-то хотел стать нейробиологом и изучал мозг в лаборатории с целью понять, где именно в этом матово-сером комке долей скрывается безумие, уделял так много внимания раннему детству. Он считал затрудненное дыхание, обычный побочный эффект страха и паники, остатком нашего плача при рождении33. Еще дальше пошел современник и близкий коллега Фрейда Отто Ранк34. Ранк считал, что страх вызван травмой нашего рождения, эту теорию даже Фрейд считал умозрительной и не заслуживающей внимания. Лейтмотивом в размышлениях Фрейда является Эдипова ситуация: опасность в реальном мире исходит от отца-собственника, царя Лая, который приказывает убить своего новорожденного сына, боясь, что однажды он женится на его жене, своей матери. Согласно Фрейду, все мы в большей или меньшей степени чувствуем внутренний страх, который это вызвало у маленького Эдипа.
Возможные виды страха и психических заболеваний, в которых страх играл главную роль, были подробно описаны до Фрейда, но мысль о том, что мы сами порождаем свои страхи, была совершенно новой. Только о таких озарениях, которые были настолько революционными, что навсегда изменили наш образ мышления, мы можем сказать: настоящее открытие! Но рассматривать страх как отдельную медицинскую категорию, называть ее самостоятельным расстройством Фрейду, вероятно, показалось бы очень странным. Для Фрейда страх был разменной монетой, которая использовалась в каждом внутреннем конфликте.
Когда моя мать училась в школе, психоанализ обычно считался чем-то непонятным. Но во время ее в университете психоанализ приобрел авторитет в социологических кругах, в основном из-за интереса, проявленного де Свааном и Хаудсбломом. Более того, в то время все известные психиатры были также психоаналитиками; эти границы были менее жесткими, чем сегодня. Первая номенклатура DSM была опубликована в 1952 году, но потребовались десятилетия, прежде чем она стал общепризнанным справочником. Друзья моей матери считали странным, что она решила обратиться к психоаналитику, они скептически относились ко всем фрейдистским рассуждениям о гиперсексуальности. Но ей была очень нужна связная история, которая могла бы дать ответы на мучившие ее вопросы. И более того: де Сваан и Хаудсблом знали, о чем говорили, не так ли?
Однажды днем я позвонил маме (она тут же подумала, что со мной что-то случилось; я всегда думаю так же, когда она звонит). Я рассказал ей о задуманной поездке, о Джакарте и Бандунге, о Яапе и ее матери. Но у меня тоже была просьба: мне хотелось бы услышать ту связную, отвечающую на вопросы историю.
И вот, в холодный дождливый вечер четверга это произошло. Я сижу с ней в амстердамском клубе художников, членом которого был мой дедушка. Он умер здесь, за своим любимым столом, где он часто обедал. Передо мной папка с ее анамнезом, напечатанным на машинке, ошибки исправлены. Мама запросила этот документ много лет назад, недавно наткнулась на него во время уборки и согласилась обсудить его со мной. Она вычеркнула абзацы сексуального содержания синим маркером, придав документу вид доклада ФБР. Но, если поднести страницы к лампе, иногда можно прочитать слово «оргазм». Покрывшись испариной, я переворачиваю страницы, сначала подкрепляя свои силы чашкой кофе, а потом бокалом вина.
Странное ощущение возникает, когда читаешь о том, какой раньше была твоя мать. В детстве ты в каком-то смысле всегда являешься вершиной повествования, в тебе естественным образом сходятся линии биографий твоих родителей. Эта нарциссическая иллюзия разрушается, когда ты сталкиваешься лицом к лицу с реальностью: твоя мать могла бы прожить другую жизнь, у нее мог бы быть совсем другой ребенок или вообще не было бы детей.
Когда я просматриваю эти записи, я смотрю на нее глазами диагноста, собравшего о ней информацию (с целью решить, будет ли целесообразен психоанализ в ее случае), и вижу перед собой молодую неуверенную в себе женщину. Он описывает ее как «женщину в очках с чуть затемненными линзами и металлической оправой, с правильным лицом, в вельветовом жакете, одетую несколько грязновато. Бросается в глаза, что ногти на левой руке накрашены, а на правой нет». Почему это бросается в глаза, остается неясным, взгляд аналитика столь же расплывчатый, сколь и наводящий на размышления, не отраженные в отчете. Чуть дальше он называет ее «растерянной, взволнованной, беспокойной, раздраженной». «Сегодня она не смогла найти дорогу. Позвонила мне из овощного магазина, свернула не туда».
Ее жалобы: «трудно жить». «Она все время чувствовала, что не справляется с жизнью». У нее были «суицидальные мысли, даже навязчивые идеи, не склонность к суициду, а ярко выраженные мысли». Кроме того, она боролась с «базовым чувством одиночества». Она боялась потерять контроль. «Она очень боится потерять свою независимость». Она описала свою мать Шьювке, игравшую на ангклунге, как «домохозяйку, сострадательную, очень сердечную, хорошо рисующую, но отказавшуюся от этого занятия. Весьма лабильную». «У матери бывают периоды сильной нестабильности: она многое забывает, сбивается с толку, ее приходится успокаивать». История ее матери, отказавшейся от своих увлечений после замужества, стала поучительной. Она поступила бы иначе.
Аналитик продолжает: «Она боится всех форм зависимости, включая влюбленность». Физически она смертельно устала. Слово «депрессия» используется часто, иногда ему предшествует слово «хроническая». А еще фигурирует страх, принимающий то один, то другой облик. Страх не справиться. Она все время «сомневается». «Приступы тревоги с мышечными спазмами, от которых дрожат все мои конечности». Она часто чувствует «угрозу, не понимая почему».
Страх – главная тема рассказов. В детстве она отмечала в дневнике, что боится быть «некрасивой, толстой, с горбатым носом, никому не нужной». Она боялась чертей под кроватью и монстров. Боялась быть глупой и боялась покинуть безопасную квартиру. Другие дети ее пугали, она ненавидела детские праздники. При этом она была очень фанатичной: «Вам нельзя терять время!» Я читаю и про события, о которых не знал раньше. Что ее первый бойфренд утонул, а второй бойфренд хотел покончить с собой, и первый бойфренд после развода тоже. Я читаю о двоюродных бабушках, которые покончили жизнь самоубийством или провели жизнь в сумасшедшем доме. И все же этот рассказ меня скорее успокаивает, чем смущает. Ее жалобы настолько похожи на мои, что это как смотреться в зеркало, в кривое зеркало, но все же. Как ни странно, я редко чувствовал с ней такую же связь, как сейчас, когда читаю о ее полной отчаяния юности. Затем следует фраза, которую я могу считать первым семенем своей жизни: «Я хотела детей, но не была готова к этому». Она еще не была готова. Но уже было робкое осознание того, что когда-нибудь она будет готова стать матерью. Эта надежда, это позитивное сомнение будут крепнуть в последующие годы, пока в возрасте 36 лет, через 13 лет после того, как она оказалась на приеме у этого аналитика, она не забеременеет.
По мере того, как беседы с аналитиком продолжались, его предположения становились все более резкими. «Она очень неуверенная и уязвимая; быстро пугается и теряется. Часто краснеет; производит мечтательное впечатление». Иногда она ясно мыслит. «Она продолжает давить на меня и лишать меня уверенности». Окончательное впечатление аналитика неожиданно агрессивно: «Она играет со мной и использует для этого все, включая свою неуверенность. […] Фаллически». Да, фаллически, то есть в связи с пенисом. Чуть дальше по тексту это расширяется до «фаллически-нарциссического». Внезапно оказалось, что моя мать почувствовала «желание убить мужа», переход от «убийственной ярости к матери». Уточняю, ничто в записях не указывает на это. «В фаллическом функционировании, – заключает этот милый психоаналитик, – пациентка сможет наконец смириться с тем, что она родилась женщиной». Мы молча смотрим друг на друга, затем заливаемся смехом и заказываем еще вина.
Мама в итоге получила одобрение аналитика, ей разрешили пройти психоанализ. Но чему она в результате научилась, за те 1200 часов, что она провела на диване?
Она поняла, что страх и излишняя самоуверенность, два полюса, между которыми ее постоянно швыряло, не были противоположностями. Они образовывали единство. Это понимание сделало ее, по ее собственным словам, «более цельным человеком». В благодарность психоанализу, тому способу мышления, который раскопал (или сконструировал) историю становления ее личности из хаоса, она решила, в свою очередь, описать историю развития психоанализа в Нидерландах. Это решение вылилось в диссертацию, которой она завершила свое обучение, этот период страха и поиска себя. Она опубликовала ее в 1984 году, за два года до моего рождения.
В преддверии моего рождения и мама, и бабушка испытывали большие страхи. Это были реальные опасения, о возможных последствиях моего тазового предлежания – за две недели до моего рождения мама записала в дневнике: «Сегодня боюсь, я себя плохо чувствую, беспокоюсь о родах, он лежит поперек. […] Почему он не хочет лечь нормально?», а также иррациональные страхи. За несколько недель до моего рождения мама записала: «Страхи возникают, становятся сильнее: чувство беззащитности перед другими людьми, их желаниями, просьбами, их агрессией». И о моей бабушке: «Бедная Шью снова не в себе. Странные страхи, вроде того, что игла сломается, когда она шьет лоскутное одеяльце для ребенка. Вытряхнули одеяльце, проверили ткань, ничто не может ее успокоить: она снова и снова заговаривает об этом, пока действительно не сойдешь от нее с ума, говоришь ей, чтобы она прекратила, чего она совершенно не выносит, от этого снова чувствуешь себя виноватой: набрасываться на того, кто так мило шьет одеяло для твоего малыша». Затем, 20 января 1986 года, простое восклицание: «Родила!»
С тех пор, как я существую, моя мама меньше страдает от срывов. Не то чтобы я вылечил ее или что-то поэтическое в этом роде. У нее по-прежнему были периоды уязвимости, когда она лежала на кровати, а я боялся подняться на второй этаж. И если мне очень нужно было сделать это, я крался мимо ее спальни на цыпочках. Нет, я был не лекарем, а бегуном, принявшим у нее эстафетную палочку.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе