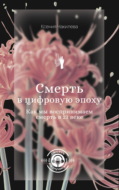Читать книгу: «Тревожность. В поисках источников наших страхов», страница 3
4. Волшебные звуки Гамелана
В Джакарте жаркий душный день, и на улицах висит запах горячего бензина Pentamax3. С башни, на которой я стою, со смотровой площадки в гавани, я, наверное, увидел бы, как они отправляются в плавание, Яап Кюнст и его семья – мои родственники.

После 14 лет в Голландской Ост-Индии они вернулись в Нидерланды в марте 1934 года на «Сибаджаке» компании «Роттердамс Ллойд», одном из самых больших и роскошных кораблей, плававших в Индию. Яап говорил, что во время путешествия на корабле чувствовал себя ужасно. Он страдал от внезапных приступов плача, хватаясь за перила, когда боролся с «тем, что немецкие психиатры называют frei flottierende Ängste»4, как он сам описал в своем дневнике. Яап Кюнст, мой прадедушка, оставил самый первый след страха, который я могу найти, оглядываясь на историю своей семьи. Через Яапа тропа ведет к бабушке, к маме, ко мне. Их жизни имеют значение для меня, потому что они могут пролить свет на то, в какой степени генетическая предрасположенность играет роль в передаче страха. Откуда взялись те страхи, которые терзали Яапа на борту корабля? Чтобы понять это, мы должны вернуться немного раньше во времени, в 1919 год, когда Яап прибыл в Голландскую Ост-Индию. Причина – музыка.
Яап (Якоб), родившийся в Гронингене в 1891 году, был, по его собственным словам, «обременен по наследству» музыкой. Яап раньше научился читать ноты, чем писать, и обладал фонографической памятью. В возрасте трех лет он услышал, как его отец играет интересную мелодию, которую он полностью запомнил, и только через полвека снова услышал ее на музыкальном вечере и сразу узнал ее. В тот день, когда у Яапа случилась истерика, когда он развернул свой подарок и нашел игрушечную скрипку вместо настоящей скрипки. В возрасте шести лет Яап получил свою первую скрипку, инструмент, на котором он играл до самой смерти. В старших классах он учился не очень хорошо, по его собственным словам, из-за «внутреннего напряжения».
Когда в 1914 году разразилась Первая мировая война, Яап сразу же записался добровольцем в народное ополчение «Ландсторм». К сожалению, они учились стрелять только из оружия, стрелявшего холостыми патронами для отпугивания собак. Что еще хуже, все учения заканчивались слишком рано, причем в кафе, так как их лейтенант хронически страдал от «жажды». Как только в 1918 году закончилась Первая мировая война и море снова стало безопасным, Яап задумал амбициозное путешествие. Вместе с артистом разговорного жанра и пианистом он решил создать музыкальное трио. Сам он исполнял двойную роль скрипача и имитатора звуков животных. Заняв денег, они отправились в путь в 1919 году из Роттердама. План состоял в том, чтобы окупить эти деньги выступлениями в Голландской Ост-Индии, и этот план им быстро удалось осуществить. Яап был очарован индонезийским архипелагом, и в мае 1920 года, когда остальные члены трио вернулись в Нидерланды, Яап остался там. Он поступил так по двум причинам.
В канун Рождества 1919 года, во время визита к султану Джокьякарты, он познакомился с яванской музыкой гамелана, музыкой, которую он в письме к своей матери назвал «священной», «древней» и «ошеломляющей». Решив «раскрыть тайны гамелана», он нашел то, что дало направление его жизни, успокаивало его внутреннее напряжение. В последующие годы, как только его должность служащего в органе правления Нидерландской Индии позволила это, он стал путешествовать, чтобы записать яванскую музыку.
Наполовину исследователь, наполовину хранитель коллекции, он вырастет в местного Алана Ломакса5. Яап Кюнст стал первым в стране этномузыковедом, всемирно известным в узких кругах.
Вторая причина остаться в Голландской Ост-Индии была еще более поэтичной. Если верить семейным рассказам, он встретил свою большую любовь, Кэти ван Вели, во время одного из своих выступлений, предположительно, при дворе Паку Алам VII, монарха Джокьякарты. «Прекрасная Кэти» была дочерью высокопоставленного государственного чиновника смешанной крови, который больше всего боялся, что его дети не будут отличаться от местного населения.
Вскоре Яап и Кэти начали посылать друг другу письма17. В первом письме, отправленном Яапом в апреле 1921 года, он предлагал ей довериться ему, если она захочет, если с ней что-то пойдет не так. «Думаю, я могу понять практически все, через что может пройти человек, переживший конфликты и внутреннее страдание», – пообещал он ей. В своем пятом письме к Кэти он указал на конфликты, которые регулярно преследовали его. «Утром мой старый враг вдруг опять поднял голову: это проклятое беспокойство, если не сказать страх, с которым было до сих пор неразлучно для меня всякое сближение с другим человеком. Застенчивость, отсутствие психологической устойчивости, сужение сознания: я не знаю, что это такое, но несколько раз в жизни оно заставляло меня думать, что лучше бы я умер, потому что иногда и другие, и я сам были очень несчастны». Но Кэти, возможно, заставит его измениться, подумал он. «О, если Вы так хорошо это понимаете, – писал он в том же письме, – Вы, с которой я чувствую такую внутреннюю близость и которая так хорошо меня понимает, – если Вы дадите мне свою привязанность и дружбу, как я хочу Вам их дать от всей души, – Вы поможете мне преодолеть этот дисбаланс, этот мой психологический недостаток: я мог бы стать другим человеком, это могло бы означать для меня новую жизнь». Предупреждение, мольба и любовное письмо в одном. Слова Яапа понравились Кэти, она никогда не встречала такого чувствительного человека. Но это была не дружба. Позже в том же году, 4 октября 1921 года, они поженились среди моря цветов. Тогда страхи не давали о себе знать, то есть любовь была сильнее.
Вскоре после свадьбы Яап и Кэти переехали в более высоко расположенную местность, относительно прохладный и сухой Бандунг. Там была закрытая канализационная система, которая сводила к минимуму распространение инфекционных заболеваний, таких как брюшной тиф и дизентерия. На фотографиях того времени видны чистые улицы с новыми белыми домами, как будто бумажный макет в натуральную величину. 11 августа 1922 года у них родился первый ребенок, Шьювке, моя бабушка. В дневнике о ребенке Яап отметил: «С первого дня она реагирует на звуки: игра на флейте останавливает ее плач. Будет ли она музыкальна? Ее маленькие ручки с длинными, гибкими пальцами открывают перспективы скрипачки». Он писал о годовалой Шьювке в письме: «Наша дочь проявляет большой интерес к музыкальным инструментам». По мнению Яапа, анклунг, традиционный музыкальный инструмент XIII века, сделанный из бамбуковых трубок, вызывал у нее наибольшую радость. У Кэти была несколько иная интерпретация поведения их дочери: «Она по-прежнему находит музыку очень неприятной, и это вызывает приступы горького плача. Пение она уже хоть как-то выносит, но именно скрипка ее раздражает».
Через несколько дней после моей поездки в Джакарту, во время которой я боролся с комарами и спасал копии писем моего прадедушки, размякшие от влажной жары, я стою в этом макете, в Бандунге, городе, где семья Яапа провела самые счастливые годы, но где он также испытал много страхов, ибо старый враг не оставил его. Он ждал своего шанса и в тот момент, когда у Яапа было слишком забот, нанес удар.
Я достаю из сумки копию фотографии Яапа. Я долго смотрю на его лицо, надеясь увидеть фамильное сходство, но его скулы слишком острые, лицо слишком узкое. У меня за спиной долгий день. Я заблудился, читал названия улиц на табличках, качая головой, шел дальше и снова не мог найти дорогу. С трудом мне наконец удалось соединить мою дорожную карту и историю моей семьи. После обретения независимости почти все названия улиц изменились – весь город стал настоящей загадкой.
Из трех домов в Бандунге, в которых жила семья Кюнст, два стоят до сих пор. В одном здании, перестроенном так, что историческое ядро еле заметно, размещается мутная фирма по защите конфиденциальности. В другом, отремонтированной лачуге, расположен маникюрный салон, который привлекает внимание в основном из-за услуги «вагинальноеспа», № 14 в каталоге. Третье здание было снесено, чтобы освободить место для гигантского белого банка. В доме, где сейчас находится фирма по защите конфиденциальности, в жизнь семьи вошел страх. Там Кэти впервые стала свидетельницей одного из «эпизодов» Яапа, который, по мнению их дочери Шьювке, случался каждый год. Все проходило по одной и то же схеме: сначала был период, когда Яап работал с почти маниакальным упорством, и никому не разрешалось его беспокоить. А потом у него происходил срыв. Шьювке рассказывала: «Тогда он целыми днями неподвижно сидел в кресле. Он ничего не делал для нас, ни для мамы, ни для меня. Через несколько дней он вставал и выходил из дома со скрипкой за спиной, не сказав, куда идет. К друзьям, как потом выяснялось, заниматься музыкой. Через несколько недель он звонил и тихим голосом спросил маму: “Не заедешь за мной?” И она приходила, всегда. Это был сигнал, что отец вернулся. Что он снова принадлежит ей».
Кэти опять и опять помогала ему подняться. За время их почти 40-летней совместной жизни она вела домашнее хозяйство и поддерживала Яапа в его исследованиях. Его срывы они почти не обсуждали и уж тем более не вызывали врача. Обычно считалось, что его «чувствительность» была частью его гениальности, он был, особенным. «Люди находили его депрессию очень интересной», – вспоминает Шьювке. Как только Яап возвращался к своему прежнему, нормальному состоянию, то отправлялся на полевые исследования. С помощью своего ультрасовременного фонографа Edison Amberola модель 50 он сделал бесчисленное количество музыкальных записей на восковых валиках, которые позже были использованы в матрицах в Берлине, после чего записи можно было размножить. Как правило, он ездил верхом, с этим тяжелым «эдисоном» на спине, по джунглям и проселочным дорогам, подкупая местных певцов сигаретами, зеркалами и прочими подарками, чтобы уговорить их спеть. Куда бы Яап ни отправлялся, он покупал инструменты, которые с гордостью привозил домой или в архив в Батавии, где Кэти их расставляла по порядку. Все деньги уходили на его исследования, которые у него дома были столь же весомы, как религиозная миссия. Лучше всего он сам выразил этот восторг в письме от ноября 1923 года, в котором признавался, что «безрассудно повиновение внутреннему побуждению, которое гонит меня по дороге, этому влечению и предрасположенности, направляющим меня».
В письмах к друзьям и коллегам мой прадед объяснял свои срывы конкретными внешними ситуациями. В мае 1922 года он охарактеризовал трудный финансовый период, в котором они находились, как «время недомогания». В сентябре того же года Яап написал о проблемах, возникших в результате «сочетания исследований гамелана, рождения ребенка, уплаты налогов за полтора года, переезда и обустройства», но они «старались изо всех сил». Он регулярно опаздывал с оплатой квитанций и рассылал десятки писем с извинениями. 18 февраля 1924 года у Кэти и Яапа родился второй ребенок, Якобус, или Япи. Через два года, 2 января 1926 года, семья приняла свой окончательный вид: родился третий ребенок, Эгберт Дидерик. Растущая семья, работа, постоянно расширяющиеся исследования, небольшие деньги – Кэти и Яап были измотаны. Страх пополз по дому.
В письмах от октября 1926 года Яап говорил о «недомогании из-за усталости» и даже о «постоянном переутомлении». Лучше не становилось. «Неопределенность – которая продолжается так долго – губительна для настроения и сна», – писал он в сентябре 1928 года. После биржевого краха 1929 года, когда началась мировая экономическая депрессия, жизнь семьи Кюнст стала еще тяжелее. Тем не менее в 1931 году в семье было 237 восковых валиков и 245 инструментов. Лишь однажды Яап рассказал о своих опасениях без связи с внешними факторами. В письме своему другу-историку Йохану Хейзинге в 1932 году он писал: «Я должен быть осторожен, чтобы не переутомляться. […] Знахарь говорит, что моя нервная система пережила тяжелые времена». Я прочитал это письмо несколько раз. По его словам, все дело было в нервной системе.
Если бы он проконсультировался не со знахарем, а с европейским врачом, тот, вероятно, поставил бы Яапу диагноз: неврастения, нервная слабость. В Англии XVIII века нервная слабость, известная тогда как «английская болезнь», считалась недугом высших классов или преуспевающих капиталистов18. Но остальной западный мир стал использовать этот термин только в XIX веке, когда люди оказались во власти современности во всех ее новаторских ужасающих обличьях: поезд, телефон, урбанизация, фотография. Говорят, что люди, не успевавшие за всеми этими изменениями, страдали неврастенией.
Впервые неврастения была упомянута как психопатологический термин американским психиатром Э. Х. Ван Дейсеном, который после обхода в приюте Каламазу, где он работал, отметил в отчете, что возникла «новая болезнь», «расстройство нервной системы», вызванное «беспокойством» и «переутомлением от работы»19. Джордж Миллер Бирд, первый успешный американский специалист по психиатрии, популяризовал этот термин в 1869 году. Болезнь стали в шутку называть «американитом». Некоторые из многочисленных симптомов: общее недомогание, головная боль, расширение зрачков, головокружение, звон в ушах, онемение, тошнота, покраснение лица, бессонница, алкоголизм или наркомания, озноб, истерия, вялость, раздражительность, тревога, навязчивые действия и сексуальные проблемы. Неврастению часто считают историческим эквивалентом эмоционального выгорания. Но страх, тревога или фобии, которые в то время еще не были отдельными категориями, с самого начала играли важную роль в заболевании. До того, как неврастения стала обычным явлением, некоторые врачи и ученые выступали за изучение страха изолированно, но они, как правило, сосредотачивались на его физических проявлениях, таких как головокружение и респираторный дистресс, поэтому их отчеты редко встречались в изданиях по психиатрии20. Менее острые и физические формы страха, т. е. общий страх (то, что мы теперь называем тревогой), в XIX веке часто рассматривались как «нормальные» и обычные.
По поводу источника сильных страхов в то время велись споры. В середине XIX века влиятельный венгерский врач-отоларинголог Морис Крисхабер считал, что чрезмерное беспокойство вызывается нестабильностью кровяных телец. Современник Крисхабера, австро-венгерский врач Мориц Бенедикт считал, что основной причиной панических атак являются патологические изменения в ухе. Но теории, рассматривавшие чрезмерный страх в первую очередь как физическое заболевание, в конечном счете проиграли теориям невролога и основателя психоанализа Зигмунда Фрейда, который в 1894 году призвал выделить в неврастении новую категорию – тревожный невроз. Его призыв был полностью услышан, почти никто не критиковал идею Фрейда, что на самом деле удивило его, потому что, по его собственным словам, он «почти не использовал никаких примеров или статистик».
Термины «неврастения» и «тревожный невроз» нигде в письмах Яапа не упоминаются. То же самое относится и к популярному в то время термину «меланхолия», который – здесь уместно небольшое путешествие в древность – был придуман Гиппократом Косским (460–370 годы до н. э.)21. Суть весьма влиятельного учения Гиппократа заключалась в том, что наше здоровье зависит от баланса между четырьмя различными жидкостями, или гуморами, которыми, как считалось, наполнены наши тела. Четыре жидкости: слизь (флегма), кровь, желтая желчь и черная желчь (melaina cholê). Оптимальным состоянием является баланс, идеальное соотношение смешения (krasis) гуморов, которое приводит к гармонии. Слишком много флегмы приводит к чересчур спокойному и невозмутимому темпераменту. От этого определения произошло слово «флегматик». С другой стороны, избыток черной желчи лежит в основе мрачного, ностальгического настроения. Такой темперамент свойственен меланхолику.
Учение Гиппократа, с некоторыми изменениями, оставалось общепринятым стандартом вплоть до Средневековья и было раскритиковано только в XVI и XVII веках, когда ученые благодаря занятиям анатомией стали лучше представлять себе, как на самом деле функционирует человеческое тело. Но термин «меланхолия» остался. Во времена Яапа меланхолия, считавшаяся раньше явлением, связанным с телесными жидкостями, стала более широким предшественником того, что мы сейчас называем депрессией. Меланхолия вызывала грустное настроение и ограниченную подвижность. Но термин «меланхолия» также охватывает все виды симптомов, которые мы теперь связываем с другими психическими синдромами, такими как тревога, компульсии и бред. В XVIII веке страх становился все более важным компонентом зонтичного понятия «меланхолия», как видно из работы ведущего французского врача Ф. Дюфура, который писал, что «тревога и депрессия» являются главными признаками меланхолии22, 23. Некоторые врачи даже использовали страх как средство сделать человека более меланхоличным, то есть уменьшить возбуждение человека. «Страх – это страсть, которая уменьшает возбуждение в мозгу и, таким образом, успокаивает его эксцессы, особенно приступы ярости, в том числе маниакальные», – писал в 1785 году Уильям Каллен, личный врач философа Дэвида Юма. Врачи пришли к выводу, что раскаленная кочерга, в частности, отлично подходит для повышения страха24.
Немаловажно и в случае Яапа: в отличие от сегодняшней депрессии, меланхолия была широко распространена среди ученых, творческих и интеллектуальных людей со времен Аристотеля как досадный побочный эффект их склонности к созерцанию25. Тот факт, что ни в письмах Яапа, ни в воспоминаниях его детей нельзя найти слово «меланхолия», заставляет меня подозревать, что ему было очень трудно признать, что его проблемы были связаны не только с экономическими обстоятельствами его жизни (Ява был на грани финансового краха), но и с его внутренним состоянием. Только в своих письмах к Кэти он казался вполне честным.
В 1930 году казалось, что у Яапа и его семьи появилась какая-то надежда. Он получил должность музыковеда при правительстве: его призвание и работа слились воедино. Семья снова переехала в Бандунге на другую квартиру. Открытый фургон с собранными благодаря местному населению инструментами выглядел, как «оркестр на лошадях под солнцем». Яап был в разъездах больше, чем когда-либо, Кэти оставалась дома с детьми. Он путешествовал по джунглям, по шатким бамбуковым мостам, был свидетелем праздников в пустыне, танцев мужчин и женщин в красочных одеждах адат, украшенных белыми петушиными перьями, красными и белыми бусами, с посохом, луком и стрелами, с «колокольчиками вокруг лодыжек и на ягодицах». Пока он двигался, страхи не могли настигнуть его.
В декабре 1931 года дамоклов меч пал. Музыковедческие исследования Яапа были прекращены. Ему была назначена «какая-то административно-правовая должность», которую он так и не дождался. В письме к другу он писал: «…внезапные перемены и перспектива снова заниматься этой безнадежно утомительной административно-правовой работой угнетали меня психологически. […] Моя исследовательская работа теперь будет снова остановлена. Как тут не плакать». Кэти стала чаще болеть, похудела, дети дрожали, и этого было достаточно. Пора было задуматься о возвращении в Нидерланды. В то время в доме находились почти 12 сотен инструментов.
«Мне будет любопытно, – писал он другу накануне своего отъезда в 1934 году, – увижу ли я снова Индию в этом году, вернусь ли я вообще на Яву. По разным причинам мне более желательно попытаться построить новую жизнь в Европе. И я, и моя жена плохо переносим климат; и я все еще чувствую, что моя нервная система пострадала от тяжелой работы». Яап почувствовал это. Он никогда не вернется в Индию.
* * *
И я тоже собираюсь в дорогу. Я провел три недели в Индонезии в компании старых источников и фотографий моего предка, о котором я раньше почти ничего не знал, но его жизнь, очевидно, тесно связана с моей. В мой последний вечер в Бандунге я решил посетить традиционное яванское музыкальное представление. Это праздник гамелана и ангклунга, инструмента, на котором, по мнению Яапа, любила играть моя бабушка, когда ей был год. Оба инструмента звучат маняще, тепло, используют вибрации и реверберацию. Это гармоническая какофония, которую вы понимаете только до тех пор, пока слышите ее, но которая исчезает, становится непонятной, как только она прекращается. Возможно, именно это и привлекало Яапа в яванской народной музыке: ее непонятность, загадочность, в ней можно заблудиться, можно на время потерять себя. На кассе я решаю оставить себе подвеску на шею, мини-ангклунг, – бессмысленный, хрупкий, украденный сувенир, воспоминание о знакомом, которого я никогда не встречал.
* * *
Как уже говорилось, путешествие Яапа обратно в Нидерланды было насыщено событиями. В первую очередь возникли проблемы с Яапом-младшим. Во время отплытия из Коломбо, Шри-Ланка, Япи спрятался в углу машинного отделения, уставившись на те удивительные дизельные двигатели, которые заставляли корабль двигаться. Остальные неприятности были вызваны поведением Яапа-старшего. Внезапные приступы плача, хватание за перила – те самые Ängste. Уже во время поездки он начал мечтать о возвращении в Индию, когда все будут готовы к поездке. Семья обосновалась в Роттердаме, крупнейшем портовом городе страны, которую они отныне называли своей родиной. Они были голландцами.
После года, проведенного в Нидерландах, личный врач Яапа настоятельно рекомендовал ему никогда больше не отправляться в тропики, не говоря уже о таком путешествии в компании жены и детей. Яап смирился с этим, надеясь, что наконец избавится от своей «мучительной бессонницы». Но бессонница не прошла. Ему было тяжело снова жить в Нидерландах. Денег было мало, и он не чувствовал особого интереса к своим исследованиям. И каждый раз, когда он совершал поездку за границу, он все больше скучал по Нидерландской Индии: пространству, свободе и особенно музыке, волшебным звукам гамелана. Примерно в 1939 году, вопреки рекомендациям личного врача, он начал строить планы вернуться в Голландскую Ост-Индию, как только семья почувствует себя лучше. В мае 1940 года время возвращения настало. Тропическое снаряжение закуплено, чемоданы, отправленные раньше, были уже в Генуе. Но вот 10 мая началась война, и лодка больше не двигалась. Чемоданы вернутся в Нидерланды несколько месяцев спустя, потрепанными, но в общем уцелевшими.
В Нидерландах только музыка могла утешить страдавших от войны людей. Голодной зимой, когда не было ни топлива, ни электричества, ни газа, ни еды, Яап и его друзья встречались регулярно. «Мы все не замечали этого, когда играли», – написал Яап. Слушатели и исполнители приносили с собой деревяшки или несколько торфяных блоков, чтобы пальцы музыкантов совсем не онемели, потому что тогда, конечно, они не смогли бы играть. Но по мере того как война подходила к концу, страхи продолжали нарастать. На самом деле Яап все больше и больше страдал от срывов, которые теперь были настолько болезненными, что не осталось идентифицируемых причин, связанных с работой или войной, и никого вокруг, кто мог бы приписать это состояние его гениальности. В 50-е годы Яап путешествовал по миру с лекциями. Куда бы он ни приходил, он играл на скрипке. Очень редко ему удавалось раздобыть где-нибудь «хороший местный» завтрак: кофе, зеленые бананы, папайю, хлеб и масло из банки.
В 1956 году он почувствовал приближение смерти. Пришло время написать мемуары. Только теперь, когда конец был близок, он осмелился честно рассказать о «внутреннем напряжении», мучившем его в старшей школе, о страхах на корабле, плывшем из Голландской Ост-Индии в Нидерланды, о своих обязательствах перед Кэти, которые закончились неописуемой «катастрофой страха». «Остаток этого страха, – писал он, – в виде беспокойства, которое иногда внезапно возникает, мешает мне наслаждаться жизнью в полной гармонии». Он мог существовать благодаря своей «милой и разумной» жене, которая понимала «ненормальность» его «внутреннего устройства», благоговела перед ним. Яап умер 7 декабря 1960 года, в серый, холодный типично голландский день. Он оставил после себя переписку из 8500 писем, стопки научных книг, папки и тетради, полные рисунков, бесконечные телеграммы о безденежье, множество фотографий инструментов. Каждая неровность древесины, каждая трещина в лаке были записаны, все тщательно пронумеровано и спрятано в прохладной архивной комнате амстердамского музейного собрания. Так труд всей жизни становится каталогом, а человек – источником.
* * *
Из детей Яапа я знаю только Шьювке, мою бабушку, игравшую на ангклунге. По сей день между нами существует настоящая близость. Часто, когда я навещаю ее в доме престарелых, достаточно одного взгляда. Наша связь в значительной степени основывается на нашем общем опыте страха, как если бы мы ОБА знали один и тот же секрет. Благодаря Шьювке индийская история страха стала нидерландской историей страха.
Как и у ее отца, у Шьювке всегда было сильное «внутреннее стремление». В раннем возрасте Яап заметил, что она, по ее собственным словам, умеет «замечательно хорошо» рисовать. Она окончила деревенскую школу на Терсхеллинге, школу HBS для девочек в Арнеме, лицей Монтессори в Лесдене. По ее собственному признанию, она была порядочной, трудолюбивой девушкой, всегда рисовавшей. Однажды она уехала на несколько месяцев в Эйсден в Лимбурге, в Восточный замок, колонию художников. Те месяцы в Восточном замке, возможно, были для нее самыми счастливыми, настолько прекрасными, что она всю жизнь страстно желала туда вернуться. Пока Нидерланды воевали с Германией, пока уезжали поезда, она каждый день плавала в прохладном чистом Маасе, ездила на велосипеде по холмистой местности Лимбурга, рисовала леса, деревья, дороги, воду. Время от времени какой-нибудь юноша ухаживал за ней, но ей это было безразлично.
Все изменилось в 1941 году, когда она встретила моего деда Хейрта на вокзале в Амерсфорте. Вернее, они уже знали друг друга, она дружила с его сестрой. Но в 1941 году, на той станции, она вдруг увидела зрелого и привлекательного мужчину. Херт вернулся из Рима, где он, начинающий художник, обратился в католицизм, настолько его впечатлили церкви, сами здания и вековые традиции. «Мы ехали несколько дней на поезде, в опломбированном вагоне», – описал он позже26. «На родине было холодно. Я тащил свой чемодан по замерзшему снегу. Первым знакомым лицом был одноклассница моей сестры Эльзы Шьювке Кюнст, которая ехала мне навстречу на велосипеде, но не помахала в ответ». Дело было так: когда она увидела, что он стоит там с тяжелым чемоданом, она поняла, что у нее на голове грязный теплый платок, а с носа свисают сосульки. Девушка не хотела, чтобы он увидел ее такой, поэтому она проехала мимо него. Они оба с удовольствием рассказывали мне этот анекдот. Он гордился тем, что наконец завоевал ее, она – что за нее боролись.
Хейрт и Шьювке поселились в узком доме со сквозняками на амстердамском канале Лейнбаансграхт. Это были трудные времена. Хейрт был медальером, Шьювке – художницей и скульптором, профессии, не слишком-то нужные в военное время (впрочем, и до войны, и после тоже). У них было четверо детей, сын и три дочери. Моя мама, третий ребенок, родилась в 1949 году.
Война закончилась, но горе и нужда – нет. Почти миллиону нидерландцев принадлежала только та одежда, которую они носили, и мои бабушка и дедушка не были исключением. Они еле сводили концы с концами, Шьювке не стыдилась шить детскую одежду из старых тряпок. Иногда, когда дом казался слишком маленьким, когда не хватало еды, Шьювке отводила детей к своей матери, красавице Кэти, которая теперь жила на Валериусплейн, в доме, у индонезийских тотемов и пыльных памятных вещей.
Послевоенная жизнь отняла у бабушки много сил. Она страдала от нервных расстройств, которые иногда длились месяцами. Она не любит об этом говорить до сих пор. «Я словно впитывающая стресс губка, – говорит она. – У меня чувствительная нервная система, как и у моего отца». Она описывает это как своего рода истощение. «Я старалась изо всех сил. Но оно не проходило. Потом у меня вдруг появилось ощущение, что я теряю контроль. Это была своего рода атака в моей голове. Мое равновесие было нарушено. И тогда у меня появилось чувство бессилия, что я не могу, что у меня такая дурацкая голова». Прошло много времени, прежде чем она рассказала мне о том, что она почувствовала, когда «оно» грозило нанести новый удар. «Оно» начиналось с мучительного беспокойства, волнения и страхов, которые не проходили: «Оно охватывало меня, неотвратимо настигало». Она чувствовала себя угнетенной, пойманной в ловушку, не могла заснуть всю ночь. На следующий день бабушка боялась вечера, боялась ночи. Она знала: если не заснет, станет уязвимой. Требовалось все больше и больше усилий, чтобы терпеть все это. Она боялась не заснуть и одновременно не смыкала глаз. В конце концов она почти не спала.
«Я видела это в детстве, когда приходила домой из школы, – вспоминает моя мама. – Она сидела за столом, голос ее дрожал, глаза бегали туда-сюда, взгляд растерянный. Она опять ничего не могла делать, чувствовала себя совершенно измотанной. Обычные дела по хозяйству были для нее непосильны, каждая мысль вызывала тревогу. Успокаивающие слова не доходили до нее, здравый смысл и реальность ускользали. Иногда казалось, что она вдруг начинала понимать нас – что мы ее очень любим и что это пройдет, – но едва мы переставали говорить, она снова уходила в себя, будто мгновенно забывала все сказанное. Это было зловеще, будто она была одержима темной силой».
Эти периодические срывы наложили свой отпечаток на молодую семью. Спокойный, практичный Хейрт старался изо всех сил, был добр к ней, но ничего в этом понимал. А дети уж тем более не видели связи между своим поведением и настроением матери и чувствовали себя бессильными. Иногда они задавались вопросом: это из-за нас? Дочь Клара помнит, как Шьювке искала у нее защиты, как мать прижималась к ней в кровати, прося успокоения. Может быть, это их вина, ведь мама говорила, что больше всего счастлива, когда рисует?
Было что-то непонятное, приходившее извне, таившееся месяцами, а потом вдруг превращавшее их обычно милую и заботливую мать в испуганную, мрачную тень, что-то, что разрывало ее на две половинки, двух совершенно не похожих друг на друга людей. Моей матери это «что-то» казалось монстром. «А потом оно исчезало так же внезапно, как появилось, – говорит она. – страх и хаос исчезали27. Голос Шьювке снова становился тверже, взгляд менее растерянным, свет и пространство возвращались. Это происходило так же внезапно и необъяснимо, как и срывы, и она не хотела, чтобы ей об этом напоминали. Моя мать была как бы двумя разными женщинами».
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе