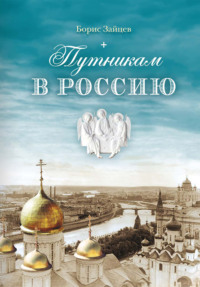Читать книгу: «Путникам в Россию», страница 17
Русская слава99
Время идет, близится годовщина. Десять лет! Знойный конец августа, афиши о мобилизации, а там затемнения, сирены, убогие газовые маски. «Drole de guerre»83… но потом она показала себя иначе.
Все переживали ее тяжело. Из нас, русских во Франции, многие были призваны. Другие пошли добровольно100. И многие не вернулись.
Предо мной горестный лист, но и лист славы, список погибших. Просматриваешь его с чувством грусти и преклонения.
Почти все молодежь. Двести имен! Есть совсем неизвестные, есть, кого знал лично. О некоторых более подробные сведения – в приложении.
Вот этот учился у нас в Шавильском общежитии101, был милый мальчик, а теперь всю войну воевал, кончил дни начальником отряда легких танков, – Владимир Булюбаш102 («храбрости исключительной, вызывающей восхищение всех при всяких обстоятельствах», – из посмертного приказа по Армии). 27 ноября 44 года его танк был разбит огнем противника, он остался цел. Это и был его последний день. 28-го вызвался сам командовать в следующем бою, там и сложил головушку. Вот Станиславский103, сосед по квартире, отец семейства, – пошел добровольцем, оставил жену и троих детей (беленькая сиротка, девочка, стоявшая на панихиде в храме, стала уж скромной, славной девушкой). Адвокат Трахтерев убивался о погибшем сыне104 и не надолго его пережил: самого тоже немцы забрали, увезли, уничтожили…
Рассказ французского офицера, рядом с молодым Аитовым боровшегося и рядом с ним тяжело раненного, нельзя читать без волнения.
Аитов105 был офицером связи в английской армии. 3 июня 1940-го года, под Аббевилем, он познакомился с французским капитаном Переттом, вызвался идти с ним в атаку, заменяя отсутствовавшие английские кадры. Перетт называет его «другом». «Я говорю, мой друг Аитов, хотя я его знал всего несколько часов». Но это были часы, когда оба непрерывно находились пред лицом смерти, как завороженные шли от успеха к успеху… – и гибели. «В 6 часов мы достигли, частью в штыковом бою, той позиции, которая и являлась нашей целью. Мы шли в первых рядах, увлекая за собой уцелевших шотландцев, под адским артиллерийским огнем».
Потеряли половину солдат, позицию взяли – могли бы остановиться. Но правый фланг в замешательстве дрогнул. Дело плохо. Аитов предложил поддержать. «Я согласился, хотя это было почти самоубийством. Мы пошли снова в атаку. Подле небольшого леса, к которому подбежали, Аитов находился еще рядом со мной. Но тут я был ранен тремя пулями и упал, на несколько минут потеряв сознание». Когда очнулся, Аитова уже не нашел. Капитан добавляет, что Аитов добровольно пошел с ним («из чувства братской солидарности и рыцарской храбрости») – и ни на минуту не оставлял его. Кончает капитан так: «Молю Бога, чтобы его нашли».
Таких сообщений немало приложено к списку – это уж дело рук уцелевших товарищей – Содружества резервистов Французской Армии106. Собрано с тщанием и любовью – разумеется, лишь малую часть и имен, и деяний можно привести здесь, предмет же таков, что заслуживает целой книги.
Где, где не гибли только русские в эту войну, сражаясь во французских войсках! Вот кладбище Карфагена. Длинный ряд светлых, обложенных мрамором русских могил с белыми крестами уходит овально вдаль. На каждой боевая каска. Отдельно снята могила безвестного рядового Игоря Танаса107, во время панихиды (взорвался на мине со своим джипом. «Смерть была ужасная»). Родился в Константинополе, прожил двадцать два года, приял венец мученический в другом знаменитом городе древности… Такова уж Судьба его, Крест.
Погибали в Египте, Тулоне. Рядом с нами, в Исси-ле-Мулино, расстреляли немцы Зубалова108 за «сопротивление», а Пухлякова109 за то же обезглавили в Германии. Русские полегли доблестно и в Эльзасе, и в Сирии, и в Ливане, Индокитае.
Одни были офицеры, которым вверялась жизнь французов. Другие – солдаты. Одни легли в первые же дни войны, другие накануне мира («16-го апр. 1945 г.»), одни спокойно и твердо шли под убийственным огнем в атаку, другие в критическую минуту (Александров-Дольник110), на отчаянный крик ротного в лесу: «Шестая рота, вперед!» – выходили с единственным своим взводом… чтобы уж с земли не подняться. А вот на Корсике, в Бастиа, полузатонул корабль, и на нем неприятель заложил мину с часовым механизмом, – Стецкевич111, «унтер-офицер, храбрости исключительной», подымается на корабль, разыскивает часовой механизм, «который с минуты на минуту должен был произвести взрыв», и обезвреживает мину, чем спасает и пароход, и самый порт. Но и за ним самим вскоре пришла Смерть (Тулон, август 44-го. Военный Крест с двумя звездами, приказ по Армии и бригаде. Все из-за могилы).
«Вкушая вкусих мало меду и се аз умираю»112. Поражаешься, как рвались иногда эти юные жизни к смерти: сами вызывались в разведку, добровольно шли в атаку, добровольно примыкали к кучке безнадежно защищавших позицию (Ножин113) – все за землю Франции, которую, очевидно, считали уж и своей.
Но они все русские, наши, эмигранты. Кровь их пролилась не только за Францию, но и за Россию, за нас, наше доброе имя. Мы у них в долгу. Ныне распространен на Западе взгляд на русских презрительный, как на kalmouks, mongols84. Нам остается лишь показать наших героев и самим перед ними почтительно преклониться.
Хорошо бы увидеть им памятник здесь же, в Париже. Поставить его должны сами русские. Надмогильный на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа уже есть114 – это очень хорошо. Но небольшой сад перед храмом на Дарю так подходит для вечного поминовения всех двухсот убиенных – с именами их, высеченными на камне, обращенном на улицу, лицом к городу Парижу! Он бы удерживал забвение и напоминал проходящим о России геройской и жертвенной.
Десять лет115
…Славный вечер, сентябрь. Тишина, золото, прозрачность. На скамье в сквере под виргинийским явором116 в каемчатых бело-зеленых листьях читать неплохо. Вокруг бегают дети, мамаши упорно вяжут – иногда вскакивают, наводят порядки среди разных Жаков и Моник, Ивонн. Чтение далеко от нехитрых забав детей. Все пишут о Югославии. Разные «наблюдатели» наблюдают и советуют «сохранять хладнокровие». Какие-то «дипломатические круги» что-то думают и ничего не говорят. А журналисты стараются угадать, что́ они думают.
Сербия, опять Сербия… теперь называется она Югославией, но название дела не меняет. Странная, даже отчасти загадочная страна. (Есть наблюдение над историей ее: всё противоположно, в судьбе, России. Когда у нас Киевская, блестящая Русь, сербы в затмении. У нас татарщина, они в силе. Мы от татар освобождаемся, у них Косово поле и стон под турками. И дальше в том же роде – до Новейших времен: у нас революция, у них расцвет, объединение – Югославия).
Но никогда нет с Россией вражды. Да и удивительно бы было: их спасали от турок, за них в четырнадцатом году пошли на Голгофу.
Но Россия, как и Сербия, бывает такая и этакая. «Осведомленные наблюдатели полагают, что все передвижения русских войск близ югославской границы являются лишь эпизодом войны нервов»… Однако другие «круги» находят, что покончить с Югославией Россия решила117 не позже шести месяцев, и это тревожно. И что тон русских нот очень похож на обращение Гитлера с поляками десять лет назад.
* * *
Что было в Европе десять лет назад, все помнят отлично. У маленькой человеческой жизни тоже есть свой горизонт, скромный объем виденного, испытанного.
Для нее август 39-го года – это вот что: последнее мирно-артистическое странствие той жизни. Папские дворцы, Вильнёв, художник Ангерран Шарантон, Мистраль118, красота Прованса… и там же прочитано о зловещем «союзе» двух друзей119, от которого похолодело в сердце.
На вокзале в Арле отправляли уже «куда-то» мобилизованных. Но всё еще верилось, что «обойдется». Как-нибудь и уладится, в последний день, как в 38-м году.
Теперь вера эта кажется наивной. Для политика и тогда, наверно, была наивной.
Но какие же мы политики? Мы просто люди. И очень уж не хотелось еще раз влезать… («На наше поколение довольно: пережили одну войну, революцию…» – но человеческий счет не в счет.)
В Париже застали волнение, ах, как всё было нервно. Сухие теплые дни, ветер, вздымающий пыль и бумажки с тротуаров, чувство тягостного напряжения… А потом белые афиши на стенах – общая мобилизация, кажется, в день нападения на Польшу. Какой-то маршал Рыдзь-Смиглый120, которого считали страшным воякой, но что же он мог сделать со своей «гусарией» против немецких танков? Геройски, бесполезно гибли. А 3 сентября в 5 часов вечера Франция оказалась «в состоянии войны с Германией»121.
Не дай Бог вновь испытать тоску и тревогу, безвыходное томление тогдашнее. Мужчины молчали сумрачно. Женщины слабее и нервней – иногда «беспричинно» плакали. Вот действие души на тело: питались еще хорошо, а худеть начали катастрофически в первые уже недели. Опасности пока никакой. Но ужас предчувствовали, в этом не ошиблись. Только срок иной – много позже, чем ждали.
Было, конечно, и напрасное. Ложные ночные тревоги, загонявшие в подвал, паника с газовыми масками. Но ведь новый тип войны, ничего никто точно не знал, апокалиптический же дух чувствовали. Никто еще не налетал, а казалось – вот-вот налетит, каждый думал, что его-то именно и обстреляют. По вечерам темнота, патрули, наблюдающие за «щелками» света в окнах, разговоры о том, что кто-то дает световые сигналы с крыш немцам. А днем закрашивали стекла синим, клеили на них бумажные полосы – будто бы защищает при сотрясениях!
Газовые атаки… страшная вещь. К счастью, ничего не было, кроме волнений. Можно, вспомнив, и улыбнуться. Люди с воображением думали, что непременно задохнутся в газах. Масок не хватало. Их стали готовить сами: вата, чем-то смоченная и пропитанная, сода, нечто вроде карнавального убранства на лицо – это и есть защита. (До сих пор сохранилась сода, закупленная для такого спасения.) Появились «сигналы газовой атаки» – всё это изучено было точно, по газетам. Однажды в подвале, при несостоявшемся налете, молодая чета надела уже маски эти доморощенные – и крестили друг друга, как бы прощаясь: а проезжал просто камион и гудел слишком «по-газовому».
Но прошло время, ничего будто не случалось. Ну что же это за война! Сидят друг против друга в окопах и даже не стреляют122. «Drole de guerre!» Назвали, да будто и успокоились… Вот именно «будто».
Так было в сентябре 39-го года. А в сентябре 43-го было уже совсем по-другому. О drole de guerre никто более не говорил. Война оказалась настоящей.
В этом 43-м и я, мирный обыватель Булони, человек, далекий от войны, должен был быть убит 15 сентября, на этой самой скамейке сквера. Но милостью Божьей, а может быть и по молитвам чьим-то, ее избежал.
Был тоже отличный, погожий день, как и теперь.
Как и теперь, я нередко приходил вечерами, именно в эти часы, сюда и читал или просто сидел, смотрел. Собрался и 15-го, в седьмом часу. Но в последнюю минуту жена настояла, чтобы вместо нее я поехал в центр города к дочери, а она пойдет здесь поблизости около Porte St. Cloud. Я и поехал.
Около же семи и от сквера, и от скамьи, где я должен был сидеть, ничего не осталось. Всё было выбуравлено бомбами. Ничего не осталось и от земляных убежищ, рухнула и грибовидная беседка. Жена отсиживалась в подвале больших домов на площади, рядом с пылавшим заводом. Возвращаясь домой, видела среди других окровавленных тел, как из-под упавшего гриба торчала рука женщины.
* * *
Но в конце концов всё прошло. «Свидетели истории», мы видели невероятные зверства, свирепость, дикость собратьев наших по роду человеческому – иногда просто невообразимую. Приобрели опыт не из сладких. Убавилось сентиментальности, наивности. Ничем больше не удивишь. Всё-таки выжили и оживаем, в основном же ничто не изменилось. Всегда была Истина – и осталась. Ее не поколеблешь истребленьями. Всегда был грех – он и остался, лишь теперь показан в исключительном виде.
Всегда был Промысел, и вел и ведет таинственными путями как жизнь единичную, так и народа, человечества. Не нам угадать путь его. Если сейчас ярче выступило апокалиптическое, то это нечто «вообще». Но не нам предсказать, столкнется ли маленькая и странная Югославия, вопреки всей своей истории, с могущественной Россией – тоже вопреки истории становящейся ей врагом. Произойдет это или нет, будет ли это началом нового коня бледного123, и кто погибнет, и оправдается ли и тут подмеченное соотношение судеб – этого мы не знаем. Но будет ли война или не будет, Нагорная проповедь не изменится и навсегда останется Истиной, а бесовское так и останется бесовским, может быть, лишь обильнее в жизни раскроется. Нам же, как всегда, будет предложен путь – Христов ли или «другого». И как всегда, будем мы путаться, падать, совершать преступления… Нам, простым смертным, остается только желать того, чтобы не потерять облик человеческий. Будто бы и немного. Но времена страшные.
Слеза ребенка124
Где ты был, когда Я основал землю?
По Книге Иова 38, 4
Балкон шестого этажа на бульваре Распай. Листва каштанов по бульвару, уходящему влево, тронута коричневатым. Над Парижем купол Инвалидов125 – смутно поблескивает золотом в осеннем небе. В садах через улицу некогда жил Шатобриан126. Теперь ходят монашки, опекают каких-то убогих.
Эрна Дем, молодая веселая художница, с мужем Маркушей и Верой хохочет в столовой, за моей спиной, накрывая к обеду.
«Пройдет тридцать лет, всё такой же бульвар будет и Инвалиды, но нас никого не останется – ни меня, ни Маркуши, ни Эрны, ни Веры, рассказывающей им еврейский анекдот».
Стало жаль и себя, и близких. Что же, это бывает. Приходит, уходит. Через пять минут чокались уже с хозяином – вечность не уйдет, а мы продолжаем еще жить и, несмотря ни на какие войны и нашествия, садимся обедать.
Но к хозяевам милым вечность пришла раньше, гораздо раньше, чем померещилось на балконе… всего через год. Как ко многим в то страшное время: заточение, вывоз в Германию – смерть.
«Сентябрьский свеженький денек…»127 – помню его, очень помню. И на днях, на посмертной выставке погибших художников, снова увидел и купол Инвалидов, и буреющую листву каштанов: с того же балкона и вид, гуашью, всё той же живой и веселой Эрны.
– Какая грусть эта выставка, – сказала Вера, выходя на улицу, – точно панихида. Не могу забыть Эрны, Маркуши.
* * *
На тридцать лет вперед нечего загадывать. Но на тридцать назад прикидываю.
И вот зрелище (иное или всё такое же?).
Конец февраля 1917 года. Москва, Александровское училище128. С лекции вызывают юнкера вниз – там в приемной сообщают, что убит в Петербурге Юра, близкий мой родственник129. Только что выпущенный из Павловского училища, был он в тот день – первый день «бескровной» революции – дежурным по Измайловскому полку. Загородил дорогу врывавшейся толпе, тут же и был заколот.
Мать получила в провинции телеграмму о его смерти. Сестра, с нею жившая, закричала от ужаса130. Но она сказала: «Кричать не надо». И выехала в Петербург.

Памятник юнкерам на Братском военном кладбище героев Первой мировой войны близ храма Всех святых в Москве
Тело сына любимого нашла во дворе полка, в конуре. Он был наг, всё сорвали с него и украли – весь пронзенный штыками, окостенелый в морозе.
Под улюлюканье толпы она похоронила всё-таки его и возвратилась. В Москве я ее видел – маленькая, с огромными карими глазами, спокойная, как всегда. Только сказала:
– Значит, так Богу угодно было. Значит, так лучше. Плохо Господь не сделает.
А через много лет от сестры, вскрикнувшей при известии, узналось, что, вернувшись, она говорила еще: «Особенно я жалею убийц его. Что они сделали…» Добавила ли «с собой»? Этого я не знаю. Сама же она давно скончалась. Ее жизнь после смерти сына стала совсем монашеской – думаю, приняла она тайный постриг – скончалась в «ангельском образе».
* * *
С тех пор так вот мы и живем в тридцатилетней войне. Были и перемирия. Казалось временами, будто затишье. Но только казалось – потому что далеко от родины и мало знали. Теперь знаем больше. Кровь не меньше лилась и в тридцатых годах, теперь не одних интеллигентов кровь, а и крестьян, разных колхозников, и рабочих, и беспризорных. Те же пытки, о коих уж лучше и не читать. Те же проклятые лагеря, каналы Беломорские на человечьих костях (Горький восхищался некогда «моральным воспитанием», которое там получают заключенные131).
А потом подошел Гитлер со всеми своими прелестями – способный ученик. Всё вывернул наизнанку, но по свирепости той же школы. И притом: «нет истины, всё дозволено» – это насчет высшего, идейного. А жизненно, ученики с учителями на родственной утвердились морали: «что нам выгодно, то и хорошо. То и есть истина».
Мы же пережили и войну, и «нашествие иноплеменных», и все ужасы истребления неповинных – все эти Эрны, Маркуши, Оли, Мелитты съедались чудовищем за то, что принадлежали к неподходящей расе – как ни в чем не повинные Юры, и барские, и крестьянские, и мещанские, всякие гибли на родине нашей и продолжают гибнуть: за неподходящесть тоже. Да и вообще жертвоприношение в разгаре. Человек ничего уж не стоит. В минуту сожжена Хиросима, в двадцать минут – Дрезден с живыми людьми. (Начнешь перечислять ужасы, среди которых живешь, – не остановишься.)
Вопль Иова не умолкает. Тысячелетний вопль звучит, «разумные» друзья дают разумные советы и ответы и научают, вплоть до жены, вовсе «разумно» посоветовавшей Иову от Бога отвернуться. Иов, как известно, не послушался. А Бог на разглагольствования эти дунул вихрем и возгремел: «Кто этот, помрачающий Промысл речами без смысла?»
И началось, и началось… Где ж человеку вопрошать Бога? Пигалице бездну? «Знаешь ли ты законы неба и можешь ли уставить порядок его на земле?» «Открылись ли для тебя врата смерти?» «Обозрел ли ты широту земли?» «Твоим ли велением подымается орел и вьет высоко гнездо свое?» Невелик ты, человек, с Богом не спорь. Иов склонился. «Знаю, что Ты всё можешь…» «Отрицаюсь и раскаиваюсь в прахе.
* * *
О слезинке замученного ребенка Жуковский сказал ранее Достоевского. Но не бунтовал и билета почтительнейше не возвращал»132. Вот вычитал в <18>47 году среди «происшествий»: ребенок скакнул с копны сена и напоролся на вилы, которых не видел. Они пронзили ему внутренности, и так как концы их загнуты, то нельзя было вынуть. Дитя скончалось в мучениях – за что они? Есть от чего помешаться. Но Жуковский спокоен (так же отнесся и к незаслуженным горестям собственной жизни). В его философии неколебимо смирение. То, что кажется нам бессмысленным, имеет смысл, только не открыт он нам.
Для этого нужна огромность веры. Ничем не смущаться – для каких-то неведомых нам целей Господь делает всё к лучшему, хотя бы и облик (внешний) дел представлялся ужасным133.
У Достоевского не было такой меры доверия. Не всегда мог он приять. Но всегда был именно брат наш, человек пестрый. Сердце его так же кровоточило и раздиралось, как наше. Истина выше, конечно. Но не всякому дано последнее спокойствие смирения.
…Троицын день, еще на всенощной в субботу «Радуйся, Царица…»134. А всё воскресное богослужение – свет и радость, вся церковь в цветах, даже березки наши украшают стены, образа, иконостас. «Земля-именинница» – удивительный праздник135, вроде обручения с Природой, тварью, или венчание. Свет и в молитвах коленопреклоненных – моление за себя, и за мир, и за скончавшихся, даже в аду сущих. Только сим светом и можем подкрепиться в печали нашей.
Ответ Мюллеру136
У вас же в Берлине, г. Мюллер, я встретил одного русского, из Москвы. Может быть, вы думаете, что всё нынче в России состоит из политики, собраний, пропаганды? Далеко нет. Россия очень сложна и пестра, не так легко охватить ее облик.
Мой знакомый вращается в довольно странном мире – духовном. Он не духовное лицо, а светское и по специальности своей много работает. Работник хороший, его ценят. Но не в этом дело. Для меня гораздо интересней самый образ его бытия. Опять-таки ничего исключительного в этом «образе» нет, всё-таки не совсем похоже на здешнее. Благочестиво он живет, и только.
Вы скажете, что это не ново. Не со вчерашнего дня люди так устраиваются. Я с вами согласен. Но может быть, то, что встретил я его именно в Берлине, городе, столь далеком от всего такого, или что он из Москвы, или что эпоха наша особенная, – я как-то чрезвычайно остро его и ему подобных воспринял. Главное ощущение, которое у меня от него осталось, – чувство сосредоточенной силы, внутренней глубокой жизни. Душевная воспитанность! – это редко бывает, дается, я думаю, долгим опытом. Аскетизм? В некотором роде да. Много церкви, много молитвы, много труда. Забота о душе. Наблюдение над ее жизнью, частые исповеди. Мало житейских радостей и развлечений, но очень твердая установка: на Бога, вечность.
Интересно, что на мой вопрос, хорошо ли ему в Берлине, он ответил:
– Скучно тут.
– Почему скучно?
– Да никак здесь… Ни то ни се. И борьбы нет.
Я поглядел на него: человек вида слабого, болезненного. Какая же там борьба?
– Ну, может быть, слово «борьба» вам не нравится, заменим его другим: «противостояние».
Он объяснил мне, что́ это значит. Тоже, если угодно, ничего особенного.
«Они» живут своей жизнью, строят свое царство. «Мы» отстаиваем свое. У «нас» – церковь, приходы, мы стараемся жить христианской жизнью. «Мы» не занимаемся вовсе политикой. Но ненавидят «они» больше всего «нас», ибо только у нас противопоставлено им нечто – вернее говоря, особый мир противопоставлен: живое, светлое бытие. Более всего их раздражает этот мир… «Они» идут на него непрерывно, а «мы» неукоснительно к нему приникаем – и он нас укрепляет, и мы в бытии нашем пытаемся его утвердить, означить.
Я несколько раз встречался с этим человеком. Вот она, родина-то, Москва! Вот она, подспудная Русь! Не один он живет так – совсем не один. Сколько понял я, это целый разряд, «партия», что ли, я бы определил: скромных людей, вокруг церкви, ушедших в тишину, доброту, бедность, взаимно друг друга поддерживающих, поддерживающих всех неимущих и страждущих. Государство гремит, «устрояет», «карает», производит вечный грохот Кесаря, всегдашние гонения – они же созидают свою обитель.
Вот и вышло, что древняя Москва вновь оказалась твердыней благообразия. По мню, еще в революцию поражала меня несхожесть двух миров: идет служба в церкви, и ее торжественно-медлительный тон, ее пение, ее золото (внешнее и внутреннее) до такой степени отрицают улицу, хамство, хаос действительности. Хаос же отрицает это благозвучие. Ну, а теперь оба мира укрепились, каждый по-своему, пустили корни, живут и творят: один – одно, другой – другое. У одного – власть, деньги, войско, полиция, у другого… лишь Истина. Один издевается над Христом и Его служителями, устраивает безбожнические хулиганства, запрещает преподавать Закон Божий, облагает священников непомерными налогами. Другой – с особой любовью создает церковные хоры, украшает храмы, по грошам собирает деньги и вносит за своих священников. Один не хочет признавать никаких церковных праздников – они для него будни. Другой в эти дни начинает раннюю обедню в пять часов утра, а к семи из церкви идет уже на гражданскую службу. Один грохочет, нападает, злобствует, другой… как будто ничего не делает, помалкивает, просто живет, но самое бытие его распространяет особые ультрафиолетовые лучи. Интересны флюиды нынешней Москвы!
Если бы поставить прибор, который на манер аппарата покойного Шарля Анри137 (отмечавшего излучение души отдельного человека) мог бы дать картину излучений целого города, – что получилось бы от Москвы? Бури, плотный туман и тьма, прорезаемые удивительно певучими и нежными струениями. Оттого там и «нескучно» жить. Еще бы скучно было на поле сражения!
Если вообще мир – поле битвы, то она ведется с разным напряжением в разных местах. Где – просто ничего нет, полурастительная (в духовном смысле) жизнь, а где – «ключи позиции» – с обеих сторон двинута туда и тяжелая артиллерия, и танки, и авиация, и лучшие корпуса пехоты. Не Россия ли и не Москва ли именно сейчас Верден этой борьбы?138
Я рассказываю вам, г. Мюллер, обо всем этом для того, чтобы яснее показать, кому и чему сочувствую – и не я один, а многие среди нас. Вам хочется, чтобы мы были отставными «капиталистами и помещиками», мечтающими о восстановлении былого. Мы же в действительности вовсе не такие. «Нам потому легче жить, чем другим, – говорил мне мой знакомый в Берлине, – что мы верим, что революция и все бедствия ее посланы нам за наши же грехи». Это душевное настроение очень близко и нам здесь, в эмиграции (не всем, но многим). В нем нет озлобленности (хотя оно вовсе не означает примирения со злом). Зло есть зло, им и останется. Борьба с ним должна вестись и ведется – внешне и внутренне. Для нас самая важная доля борьбы – внутренняя. Здесь и есть та «партия», которой мы сочувствуем. Никакие социализмы, республиканизмы, монархизмы мне не интересны. Я ставлю на «пневматиков», духоносных людей. Это надпартийная партия. Я понимаю ее очень широко: не только все христианские исповедания, но и вообще все идеалистически настроенные люди, все, чувствующие небо, звезды, имеют уже к ней отношение. Вот в вашем городе, в Берлине, мало я этого почувствовал и оттого огорчился. Ибо ведь без отблеска, как бы сказать, звездного света на делах человека самые эти дела – серы. (Звезды над городом! Знаете ли вы, что в каждом городе звезды имеют особое выражение лица? Звезды Москвы не те, что звезды Рима, Флоренции или Парижа. Самые горькие звезды – над Берлином.)
Мне отшельник, мудрец и святейшей жизни человек на Афоне139 сказал про Россию: «Сильнее покарал ее, потому что возлюбил больше. И больше послал несчастий. Чтобы дать нам скорее опомниться. И покаяться. Кого возлюблю, с того и взыщу и тому особенный дам путь, ни на кого не похожий…» И вот так-то и кажется, что великие страдания России начинают давать плод. Что сейчас нужно миру, глубже, глубже угрязающему в материальности? сильней, сильней замирающему под напором машины, физики, низше-удобного? Нужно, разумеется, «противостояние» духовных людей. «Я иду против мира, и мир идет против меня». Так вот, не в России ли из крови, хаоса и ужаса вышло, оперяется, подрастает новое племя, носитель по-новому зацветшего духовного сознания? В нем-то, в новом российском душенастроении, родившемся из мученичества, – в нем я и вижу главную надежду, главное благовестие теперешней жизни. Весьма уважаю католицизм, ценю многое в протестантстве, но думаю, что вот этот «особенный», свой и истинно обновляющий путь идет из православной России. Этого доказать нельзя. Чувствовать – можно. Вот потому-то и трогает так, и волнует, и дает радость встреча с человеком оттуда, который и собою самим (обликом, жизнью), и рассказами о других подтверждает, что есть на родине подвижничество и подвижники, есть праведники, малозаметные и подпольные, выносящие на себе бремя новой жизни. Есть это и здесь, за рубежом, но, думаю, меньше – ведь Верден-то всё-таки там… Герр Мюллер улыбается:
– Так что вы предлагаете – записываться в партию праведников? Вы что же, и сами со своим искусством, литературой, артистическим темпераментом тоже выправляете себе членский билет?
– Многоуважаемый г. Мюллер, не улыбайтесь столь победоносно. У меня членского билета партии праведников нет, и я не собираюсь поступать в нее, и ни малейших прав на то не имею. Но могу я, принадлежа к артистическому цеху, к разряду людей никак не праведнического, а даже весьма грешного типа, – могу или не могу искренно благоговеть перед праведниками, искренно считать: найдется у мира десять заступников, десять ходатаев и предстателей – и будет он оправдан? Если могу – а вряд ли вы станете это отрицать, – то и улыбаться вам нечего.
И если еще раз вернуться к нам, к эмиграции русской, о которой вы, г. Мюллер, столь неправильно судите, то надо сказать: судьба ее еще не вполне разгадана и «миссия» не совсем установлена (во всяком случае, всё гораздо сложнее и не так лубочно, как вы себе представляете).
По-вашему, эмиграция – это Монмартр, «остатки аристократии, прожигающие свои дни в кабаках», тунеядцы, разложение и т. п. О трудящихся на заводах, о женщинах русских, гнущих спину над шитьем, делающих шляпы, куклы, игрушки, вы понятия, конечно, не имеете. О русской церкви, о литературе, о художниках, профессорах, учащихся, о просветительных и медицинских делах русских вы молчите, это мешает вашей схеме. Вам бы хотелось, чтобы все мы были выходцами с того света. Но вот, представьте себе, приходится вас огорчить. Во-первых, мы вовсе не бывшие князья и дюки, а обычные средние русские люди. Живем небогато, ни о каких помпах и блесках для себя в будущей России не думаем, пока что видим весьма много бедноты и жизнь знаем сейчас лучше, чем знали в России мирной (это тоже наша выгода). А главное: живем! Легко ли, трудно ли, но живем и кое-что делаем. Заноситься нам не приходится, меру сил и возможностей не станем преувеличивать. Но раз есть труд, бодрость, раз есть укрепление в церкви, в добре и посильном делании его, то жизнь, значит, есть. Вас не удивляет, г. Мюллер, что у этой самой «разлагающейся» эмиграции с каждым годом растет число храмов, школ, больниц, приютов? Что с упорством издаются книги, журналы, газеты? Что появился даже русский театр? Как это странно, что «отжившие» русские только тем и занимаются, что собирают, строят, общества основывают.
Политические формы старой России рухнули легко: видимо, себя пережили. Дух России оказался вечно жив. В бедах, крушениях он еще сильней расцвел. Насколько есть в нем дуновение Духа Святого, настолько и жизнь. Я говорил уже вам, г. Мюллер, что радостно мне было ощутить живую Россию еще раз, из первоистока зачерпнуть нечто от сегодняшней Москвы. Думаю, теперь вам более ясно, о чем я говорю и чего желаю обеим частям России: той, коренной, в Москве и на земле Родины, и нашей, западноевропейской, – всё веяния того же Духа Свята. Есть оно – всё будет, всё приложится. Нет – тогда вообще ничего не надо.
И в частности, о здешних, нашем поколении: суждено ли нам вернуться и там начать, сызнова, нелегкую просветительно-одухотворяющую работу или же наша «миссия» – просачивание в Европу и в мир, своеобразная прививка Западу чудодейственного «глазка» с древа России, – тот или иной вариант взять, на нас возлагается ответственность. Быть «на высоте России», на высоте задачи… Это не так легко. Но если будем – и жизнь наша, и деятельность не угаснут. И может быть, вы сами, г. Мюллер, попав однажды на русскую службу в церкви, в русский приют, на русскую лекцию, призадумаетесь и со свойственной вам добросовестностью про себя скажете:
Очерк написан к десятилетию начала Второй мировой войны.
Запись входит в состав дневникового цикла Б. Зайцева «Странник» (1925–1929). Он жил в Берлине после отъезда из России, с июня 1922 по декабрь 1923 г.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе