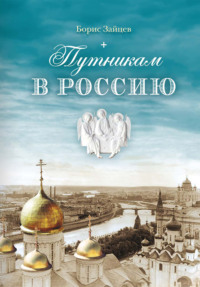Читать книгу: «Путникам в Россию», страница 16
Крест77
Восемь лет назад выезжали мы из России… Двадцать второй год, первый после нэпа. Стали открываться магазины, появились рестораны, частная торговля, частные издатели – могло казаться, что вот приоткрылось что-то, кончилась революция, наступает «жизнь», «быт». На границе бросила моя дочь, тогда маленькая девочка, на родную землю букетик фиалок. Самая умная из нас – не верила, что скоро вернемся. Мы же, взрослые, всё надеялись, пройдет год, два, здравое одолеет, что-то перекипит и, отдохнув, оправившись за границей, мы вернемся на родину для жизни, для работы новой – тяжкой, конечно, но нужной.
И вот годы шли. Берлин, Италия, Париж – уже в Париже стало ясно, как далека родина. Уже в Париже видели мы торжество наших врагов – засели они на Гренель78, и самые «интеллигентнейшие», самые «передовые» целовались с ними. Человеческая глупость, подлость и продажность мило расцветали. Земля же родная орошалась, всё по-прежнему обливалась кровью: на щедро утучненную почву пали девочкины цветочки!
Годы долгой, крестной муки российской – вот подходят они к пределам. Что такое произошло с татарами?79 Чувствуют они свою близкую гибель? Последние судороги? Или – чувствуют безнаказанность, торгашескую тишину Европы? «Всё сойдет!» Мир – пустыня. «Нет истины, всё позволено».
Ну что же, закроем сотни церквей. Будем расстреливать священников – отправим на мученическую смерть батюшку Колерова со всем приходским советом80. Засадим в Соловки и Сибирь епископов – и того удивительного старика, что у Ледовитого океана, в простой избе ежедневно совершает литургию о всех и вся, у ледяных волн в светлом веселии молится за Россию. Ничего, будем сжигать иконы, снимать колокола, запрещать звон в Москве, взрывать Симонов монастырь81 – в 1933 году не останется у нас религии82.
Будем резать детей в Трехречье83, выселять «кулаков», отправляя их в дальние края на голодную смерть, – кулаков пять миллионов – извести их надо постараться, требует времени. Поздно ночью проезжал я в Москве раз мимо чеки. Старичок извозчик вез меня. «Ну как, – сказал я, – по ночам небось стараются?» – «Известное дело, – ответил он с простотою и равнодушием гомеровскими, – работы много, ране как к пяти, к шести никак не управиться». Теперь, может быть, седобородый мой олимпиец на своей шкуре узнал в деревне, как много хлопот, как трудно до зари «управиться». Что же, время найдется. Друзья Макдональды и Блюмы поддержат, «на Западном фронте без перемен». Будем расстреливать в день по пяти человек, это немного, конечно – не способ «управиться», но остальных разорим, переморим и «переплавим», так, чтоб из кулака выплавить, скажем, Яновича84. Пусть Милюков с Керенским читают доклады парламентариям о нашем терроре: всё это правильно, но ни к чему. Всюду у нас есть свои, хорошо закупленные, наши гости на банкетах в Гренель, у нас всё поставлено, всё предусмотрено: постановят «изучить положение» в России, уж десять лет изучают, а наше дело тем временем вольное.
* * *
На Кресте наша Родина, что говорить: распинают ее, на наших глазах распинают, что ни день, глубже вбивают гвозди. Не снегами занесло, страшная, клубящаяся туча, с дьявольским заданием: в пять лет всё «дезинфицировать», всё уничтожить, выморить более крепкое крестьянство, извести интеллигенцию, мораль, религию – голого дикаря посадить на престол славы.
Только уж мало становится и самой Русской земли. Хорошо бы забраться и под голубой воздух Франции, и в старинно-джентльменскую Англию.
«Голубой воздух Франции!» – воздух свободы и культурной жизни, человеческой, а не дикарской. Иду в голубом этом воздухе, чудесным утром по Булонскому лесу, и дышу им, глаз любуется синеющей дымкой Мон Валерьяна, а сердце тяжело, вспухло сердце, как говорят итальянцы про бурное море: «mar grosso». В каждом автомобиле точно бы «те»: ложный ажан85, недели стоявший на перекрестке, где ему вовсе не полагается стоять, дама в бежевом, бритый господин лет пятидесяти пяти. О, всех Яновичей не переберешь! Не опросишь всех дам и барышень в бежевом (цвет как раз модный).
Сейчас страдные дни для нас, русских. На какое ни гляди небо, на какие каштаны, озера – облик Креста заслоняет всё. Он дан нам теперь здесь просто, зрительно: человек с черной бородой, которого на днях еще встречали в церкви, сильный, крепкий, упорный, – ныне принял этот Крест, за Россию и за нас всех. В хмурый вечер, сырой и туманный, был я на молебне в церкви Галлиполийцев86 на рю Мадемуазель. Вот уж где нет «туалетов». Шоферы, рабочие, барышни, дамы в потертых пальтишках, странники русские, тело и душа России страждущей, все мы без завтрашнего дня, без текущих счетов, – мы стояли и молились «о здравии воина Александра», и надо верить, и надо молиться, сколько бы ни было сердце «mar grosso».
«Слышишь ли меня, батько?» – отвечал Остап. «Слышу, сынку!» – отвечал Тарас Бульба. Было ощущение: да поддержит ток добра, из Церкви излучавшегося, «воина Александра» в горчайшие, может быть, самые грозные минуты его. Если же жизни физической, страшного марева, в котором бьемся, уже для него нет, то в ином, верим, светлейшем, чем наш, мире да сольются наши чувства, в таинственных излучениях своих, с его душою.

Братский памятник в Галлиполи
Я почти не знал лично Кутепова87 – раза два-три приходилось здороваться. В церкви Галлиполийцев видел супругу его – Л. Д. Кутепову – Голгофу живую. И теперь всё это стало своим, как бы родным. Мне не важно знать, такой или этакий был Кутепов, сколько у него врагов, сколько друзей. Сейчас он – знамя мученичества, знамя России распинаемой, он не может, не может не быть своим каждому русскому, каких бы взглядов тот ни был.
Горе сближает, но и проводит грань. Кто с тобой чувствует, тот свой. Кто против тебя, от того отойду. Пусть он отличнее, он уж не мой.

Генерал Александр Павлович Кутепов
* * *
– Ну и что же дальше? – спрашивает некто. – Что делать с этой общностью чувств? Вообще: что делать, чего ждать?
– Делать… всё то же, что делали. Шофер возит, рабочий работает, писатель пишет. Кто в состоянии – помогает следствию. Все – дают что-то, какой-то обол88 на ведение розысков. И главное – все сдерживаются, все на высоте спокойствия и силы. Сила и здоровье. Вот чем завоевывается жизнь.
А дальше идет вера. В силе – ждать. Не вечно так будет. Из скопившегося может грянуть такой гром, такая молния, что зашатается сатанинский престол. Когда это будет – не знаем. Но нас этот час должен застать бодрствующими, нерасслабленными и непадшими.
Кутепову дан Крест тягчайший. У каждого из нас есть свой, меньше и больше, но отказываться от него нельзя – а друг друга поддерживать и ободрять, живить – необходимо.
У Короля89
Осень 1928 года оказалась праздником для нас: съезд в Белграде, «слет» литераторов русских со всего зарубежья, под покровительством и при благословенной поддержке покойного короля Александра90. Кто побывал тогда в югославской столице, сохранит благодарную память о днях светлых, торжественных, о внимании, ласке, оказанной нам. Но и глубокая горечь напитывает теперь эти воспоминания: так ясно видишь короля Александра и так невозвратно ушел он!
* * *
…Завтрак во дворце. Мы собрались в гостиной, вышла королева. По очереди нас представляли ей, мы целовали ее руку – несколько застенчиво подавала она ее нам. А потом двинулись к столу. Кроме русских писателей, несколько сербских профессоров, городской голова Белграда. Король сидел против королевы, а за ее креслом «телохранитель»: высокий и стройный худощавый старик в национальном костюме, с белыми усами, с пистолетом за поясом и с кинжалом. Как ястреб, поводил сухенькою головкой. Готов мгновенно взлететь, впиться в каждого, кто осмелился бы…
Но кругом сидели люди почтительные, уже покоренные и обвороженные. Завтрак протекал ровно, в том воздухе приветливости и дружелюбия, который еще больше ценишь, когда его уже нет.
После завтрака вновь перешли в гостиную. Помню ребяческое желание: попросить короля сделать надпись на открытке с его портретом – он был снят в профиль, вышел очень молодым, почти юным, чистым, свежим. Романтический принц с неким соколиным оттенком. Под этим югославским соколом хотелось видеть подпись собственноручную. Но… попросить всё же не решился. И теперь жалею.
Разговаривали о России, русской жизни, характере бытия нашего в эмиграции. Люди, королю малознакомые, говорить с ними приходится во второй раз в жизни. Это не так легко. Но, глядя на острый профиль, на внимательные глаза хозяина, сразу можно было понять, что и опыт, и знание жизни у него огромны и с каждым он умеет обойтись так, как его чувствует.
При спокойствии, приветливости и воля огромна. Он мило и просто улыбается, разговаривая с Куприным, и вот он здесь «интеллигентный» хозяин среди литераторов, но через час с иною внимательностью будет разговаривать с министром иностранных дел, а завтра привычно сядет на коня, не как собеседник литераторов, а как вождь, и этой самой сухощавой рукой двинет войска куда надо, а войска пойдут умирать и побеждать как надо.

Александр I Карагеоргиевич
В небольшой же гостиной белградского дворца он общением своим, вниманием и участием нас подбодрял, как бы говорил: «Да, всё так случилось, а не иначе, но вот и в тяжкие времена не все из сильных мира сего отвернулись от вас и от России».
Это, конечно, так и было. Худеньким, милым мальчиком, каким показывает нам его фотография, жил он и учился в Петербурге. Кто знал Россию, тот ее уже не забывает! А у кого сердце благородное – тем больше. В горькие времена России мальчик, ставши знаменитым королем, России не забыл. Верным другом и покровителем остался.
Около трех мы поднялись. Король нас провожал, весело что-то говорил с Куприным о папиросах, понравившихся тому. У подъезда стояли автомобили, офицеры держали под козырек. С нами спускался и провожал до машины тот старик-черногорец, что стоял за креслом королевы. Осеннее солнце, ветер, седые усы черногорца, его высокий, худощавый стан так и стоят в глазах.
Вечером в наш отель прислали из дворца огромный пакет папирос для Куприна – в коробках с королевской короной.
* * *
…Никогда уже не пожмешь руку короля Александра. Горестна была для русских осень 1934 года – не то, что тогда в Белграде!
Каждому человеку дан в жизни крест – так или иначе он его несет. Был он и у короля Александра – огромный, тяжкий крест борьбы за родину, управления ею, творчества государственного. Нес он его, как и жил, – с мужеством, верой. Теперь от креста освобожден. Стяжал венец мученический. В судьбе своей повторяет он давнее: за благо, делаемое миру, платит мир злом. «Я иду против мира, и мир идет против меня».
…Над телом короля рыдал в Марселе старик – быть может, в том же национальном костюме, как видели мы его за креслом королевы. Стоял бы на запятках экипажа – обогнал бы пулю убийцы, в горло бы вцепился, не дал бы в обиду своего сокола.
Та осень91
(Двадцать лет)
Pourquoi est tu triste, mon âme, et pourquoi me troubles tu?
Lе́on Bloy81
…Такая ж, именно такая, как сейчас. Деревенский август, тишина, высокие и бледные, барашком свернутые облачка. Крестцы овса в полях, жнивье, краснеющие клены в роще.
Наш работник Климка – диковатый, одинокий, с вечною соломинкой в бороде непролазной – впервые услыхал слово «Австрия». Оно ему понравилось. «Ишь ты, Австрия! Гы-ы… Скажешь тоже, Австрия!»
– Климка, ты хотел бы, чтобы наши победили?
– Победили! Наши победили! Австрия. Ишь ты! Победили!
Климка невнятен. Мозги его первобытны. Наверно, желает чего, и всё, но сказать не умеет.
В этом году на Успенье напиться, залечь в канаву, у берез, ему не пришлось. Пропустил счастье! Ни ему и никому из сограждан наших по деревеньке: водку запретили. Сразу стало сумрачнее и покойнее. Столяр Гаврила перестал лупить жену. Из молодежи кое-кто ушел, но не так много.
И жизнь продолжалась. Убирали овес, молотили, веяли. Не остановишь повседневности, вечно движущегося ее станка…
Когда вечером приходилось проезжать верхом через лес или по полынной меже полем (а сквозь сумрак мигнул первый огонек Двориков), трудно было поверить, что вот где-то сейчас атакуют, валятся, бьются в штыки. Вольно, пустынно. По крутой горке подымешься к яблочному саду – сквозь кусты акаций, тропкой въезжаешь в него. Остановишь лошадь у знакомой антоновки, сорвешь яблоко. Ветвь в темноте закачается. Высоко в небе прочертит золотой метеор. И когда тронешься, другие звезды, постоянные, привычные, так же будут цепляться за верхи яблонь. Так же в пруду отразятся. Так же мирно засветит окно столовой, выходящее на террасу и пруд. Накрывают к ужину. Полоса света легла на жасминовый куст. Надев пенсне, крепко поддерживая голову руками, облокотясь на стол, отец читает: только что привез газеты Климка – каждый день он возит фляги с молоком на станцию Мордвес.
Изо дня в день мы ждем этих вестей, странных и кратких, и всегда грозных.
«С боем занят фольварк92. Германцы очистили позиции. Под натиском противника наши передовые части отошли к селению…» Что это означало? Эти фольварки, пленные, отступления, наступления? Всё что угодно, лишь нисколько не похожее на августовское Притыкино, на отца с «Русскими Ведомостями», на меня, на Климку…
* * *
У нас были карты войны, мы за всем следили, втыкали флажки, читали военных обозревателей. Много ли больше мы знали о войне, ее ходе, судьбе, чем Климка? И не столько ли, сколько император Вильгельм, маршал Жоффр, император Николай? Всем казалось, что такое долго не продлится, два-три месяца, и конец… А у нас еще ощущение пространств: далеко, как далеко! Невесть где там война. Это чувство было общее нам и согражданам нашим, всем бесчисленным Климкам земли Российской, шедшим умирать покорно, но неизвестно зачем. «До нас далеко». Грустное и роковое над Россией – «надо умирать», но неизвестно за что… И сибиряки, не рассуждая, легли под Варшавой93. А приятель мой, артиллерийский офицер, писал с фронта: «Русский солдат смотрит на войну с большою мудростью. Считает, что пришла беда и не приходится от нее отказываться. Общая беда, неизвестно почему посланная». (Значит, Платоны Каратаевы еще не перевелись?)

Первая мировая война. Духовищенский полк в бою. 1916
Я жил у себя во флигеле. На стене у меня, между книжных полок, висели лубочные картинки, унижавшие австрийцев и германцев. К ним сочинены были подписи, для возбуждения любви к отечеству и вознесения народной гордости:
Да за дали, да за Краков
Будут пятить стадо раков.
На картинке смешные австрийцы смешно удирали от орлов наших, и нетрудно, верно, было изобретать подписи бахвальные будущему певцу коммунизма – Владимиру Маяковскому. Но гораздо трудней было «пятить».
В другой половине флигеля сестра с волнением ждала писем от мужа – он застрял за границей. Застряла и другая сестра, в Париже: первый, примерный набросок будущего рассеяния семей. Юноши же наши, два гимназиста старших классов, тем и жили, как будут сражаться.
По ночам сестра плохо спала: боялась за мужа и оплакивала Париж, как казалось ей, да и нам всем, уже захваченный.
* * *
Париж отбился. Мы радовались взятию Львова94, страдали за Самсонова95. Между тем кое-кто из сограждан по деревне попал в плен. Убили жениха нашей учительницы. По правде говоря, мы преувеличивали чужое за счет своего: Бельгию, Лувенскую библиотеку, Реймсский собор – на то мы и русские, «всеотзывность» наша знаменитая. Ни француз, ни англичанин и не чхнул бы, если бы разоряли Кремль. Что Кремль, никто здесь пальцем не шевельнул и не шевелит, когда сотни тысяч русских вымирали – да и продолжают вымирать.
Мы, конечно, многое совсем не так себе представляли, как оно в действительности было. «Освободительная война», «война войне», прекраснодушный союз наций96, навсегда мир обеспечивающий, – вот, оказывается, за что ложились наши мужички в Пруссии и Галиции.
О «союзниках» мы представляли себе условно – подогревала печать, разные гимны по театрам и пр. Явно, что и пропаганда всех «немецких зверств» ставилась, как театральное действо. (Немцам так же преподносили зверства наши и союзнические.)
Другая картинка, висевшая у меня во флигеле, так отзывалась о немцах:
Ну-ка, немец, при же, при же,
Не допрешь, чтоб сесть в Париже.
«Goethe’s Werke»82 поглядывали с полок на творение Маяковского. Сердце мало сочувствовало гётевской родине.
Чувство России! Сквозь весь сон интеллигентский пробуждалось и оно. Нельзя сравнить, как настроены мы были в японскую и в мировую войну. Всегда не хватало в России чувства национального. Только что начинало оно пробуждаться: недопробудилось! Опоздали.
Гимназисты, в настроении воинственном, уехали пока что учиться. Я ждал своего призыва. Осень шла всё сумрачнее, тяжелей – в дождях, хмурых облаках, смутном и грозном шуме ветра среди берез (сторожевых, вокруг усадьбы). Суров октябрь в деревне! Нерадостны даже жеребята на зеленях, беспросветны зигзагом летящие вороны, размокшие дороги, почерневшие от дождя строенья деревянные. И неизъяснима скорбная поэзия пейзажа – когда на вечерней заре вдруг брызнет холодною медью с золотом, ветер замрет и сердце, в непроходимости, величии, печали всего ощутит нечто невыразимое и потрясающее.
В этом мраке, ветрах прошли дни боев на Немане. А попозже мой приятель, с гаубицами своими, наступал на Мехов, недалек был Краков, армия широким фронтом подходила к границе. Начались лодзинские знаменитые бои97. И вновь в углу нашем волнения, надежды – кажется, вот-вот враг будет сломлен, окружен и при вторжении в Германию войне конец. От этих острых дней осталось ощущение ноябрьского тумана, слякоти и непролазности, давящей, окровавленной тоски. Сидя в Тульской губернии, могли ли мы знать, что артиллерия наша достреливает последние свои снаряды и весной готовится Голгофа армии.
Но зато мы узнали теперь войну в лицо: недалеко открылся лазарет, мы туда ездили, кое-что возили раненым (жена дежурила).
Там развернулась пред нами Империя Российская: Волга, Кавказ, Украина, Финляндия… воистину «от финских хладных скал до пламенной Колхиды». Жив ли сейчас финн Кэлка, щуплый человек с сильной контузией, потрясенный кровью и убийствами? (Странно сказать теперь: мучился тем, что убил нескольких. По вечерам молился на коленях, плакал и был близок к нервной болезни.) Или Антошка Хрен, болтун, рассказчик анекдотов, кажется – и симулянт? Крысан (звали его Хрисанф) – немолодой мужик самарский: основательный, терпеливый, философически сносивший перевязку загнивавшей раны, – опора всех царств и республик? Изящный Халюзин, сын мельника, кутавшийся в шинель, постоянно читавший? Красавец украинец, гвардейского полка, со смоляными кудрями, в правильных завитках, как у Зевса Отриколийского, – имени его не помню: звали мы его Софоклом.
Эти люди мелькнули как бы дыханием войны – несли ее в своих ранах, гимнастерках, словах, глазах, языке. Они были сдержанны, в большинстве – подавленны, молчаливы, не склонны к бахвальству. Что-то иное, непритыкинское в них чувствовалось: не покажешь им лубочных картинок про Краков и Париж.
Это, должно быть, и было единственно подлинное, что узнали мы в тульской глуши о страшном несчастье, случившемся с Россией и со всем миром.
* * *
Рождество я провел в Воронеже.
Помню этот просторный, сытный, покойный город с монастырем, далеким заречным видом, с ощущением огромных пространств вокруг – пространств не подмосковных, а степных и скифских… Я жил в молчаливом и роскошном доме миллионера воронежского, городского головы. Ряд скучных, в зеркалах, комнат, всё давнее, слежавшееся, застывшее. Равномерная жизнь, равномерная скука, священнодействие обедов, холод богатства, серебряный хлад снега на улицах, воронежские вороны – чувство отрезанности и совсем от войны даль. (Даже и лазаретов не помню.)
Мы встречали торжественно Новый год. Его первые дни принесли радостное волнение Сарыкамыша98 – вновь надежды, надежды, а потом…
…………………………………………………………
И вот – двадцать лет. Как в синема: дрогнуло что-то, перескочило сразу чрез бездну.
Гимназистов наших давно нет. Подросли, пережили войну, в революции легли оба – «убиенные и умученные». Климка умер. Отошли и владетели земли нашей Тульской. В моем флигеле ветеринарный пункт – говорят, там стоят теперь лошади. Мой хозяин воронежский повесился в Москве с голоду. Я живу в западной части Парижа и во сне часто вижу родину.
Не одна Тульская и Воронежская губернии изменились: мир перевернулся.
Можно ли, нельзя ли было начинать войну в ту осень, поздно теперь говорить. Миру дано было испить Чашу, он ее испил. Самую горькую, самую страшную испила Россия. Зря ли, бессмысленно ли? Разные могут быть ответы. Для верящих в великий, хоть и тайный смысл совершающегося вообще не может быть ничего «зря».
И, глядя из парижского своего окна на восток, откуда нередко идут к нам грозовые тучи, вспоминая двадцатилетний страдальческий путь родины – всё продолжающийся! всё длящийся! – что можно сказать? Веселится ли сердце? Радуется на мир?
Этого сделать оно не может. Но в одиноком пути смотрит и поверх жизни. Может быть, видит и дальше. И тогда обретает силы.
В октябре 1934 г. король Александр отправился в Париж, чтобы укрепить отношения между двумя державами. В Марселе Александр и встречавший его французский министр Барту стали жертвами террористического акта – они были расстреляны в автомобиле. До этого на короля было совершено несколько покушений. Тем не менее, готовясь к визиту Александра, французское правительство отказалось и от югославской охраны, и от услуг британских спецслужб, предупреждавших о заговоре и предлагавших свою помощь; был отменен эскорт; автомобиль, старой модели, с широкой подножкой и откидным верхом двигался крайне медленно. Убийство связывают с хорватскими усташами и германскими нацистами. Исполнитель, болгарский террорист Величко Георгиев, был ранен полицейским и вскоре скончался.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе