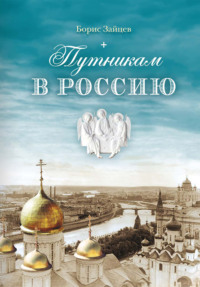Читать книгу: «Путникам в Россию», страница 19
Приближение Младенца156
Со Введения запела о Нем Церковь. Он приближается. Сам молчит. Он просто есть, был и будет, и не петь о Нем нельзя. Он появляется, как появлялся, средь ужасной ночи – точкой света и сияния возрастающего. Перед Ним склонялись пастухи, к Нему волхвы шли, к Нему вышло, наконец, и человечество. Мучится, тонет (и всегда тонуло), но оторвать взора не может.
Он появляется, беззвучно и сиятельно, победоносно и ведя победу на пропятие, чтобы поражением победить.

Рождество Христово. Икона XVI в.
Он свет, тишина, любовь. Без Него нельзя жить. Он напояет, утешает, с Ним входит в жизнь, с Ним и уходит: на коснеющих устах имя Его ведет в Вечность.
Его нельзя ни затмить, ни остановить. Таинственно, блистательно Он шествует от Вифлеема Своего. Младенцем – ничего не говорит. Но уже в Нем все великие глаголы, что Он скажет. А сейчас только безмолвное и разгорающееся сияние – царственное приближенье.
«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет Разума» – так пели нам наши отцы, так поем мы нашим детям и внукам, подымая их к вечному свету Младенца в скромных свечах немудрящей елочки.
Младенец157
«И открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну».
Так поступили волхвы. Так с самого нашего детства являлся Младенец. С каких именно лет помним Его – с пастухами в поле, с этими вот волхвами, яслями, ангелами, Богоматерью, со смирными скотами в хлеве и с тем светом – главное! – светом, озарившим все?
«Я свет миру». Он и явился, и засиял. Удивительна нежность света этого в яслях, кротость Его, неземная легкость. Рядом жует корова, будто и никакой силы в хлеве, а все поклонились. Пронзено сердце мира.
Века идут. Земля делает свой оборот. Когда солнце ниже всего над ней, Младенец из года в год, в самый холод и тьму появляется в своих яслях – и опять свет, всё тот же, вечный: не солнечный, выше.
Младенец видит всё то же: грех, горе, страдания, зло сильны, как и прежде, так было в год появления Его, так есть теперь, будет в двухтысячный год. «Люди жили, любили, страдали и умирали». Но Тот, Кто явился тогда, перевернул мир. Не то чтобы обратил в рай, а Собой показал райский свет. Есть куда преклонить главу. «Кто жаждет, иди ко Мне и пей». «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Вот это-то самое главное: «свет жизни».
Первые преклонили главу пастухи, волхвы («простота», «мудрость»). До Вифлеемской ночи некуда было преклонять.
После нее стало известно: звезда показала. Человечество теперь знает. Грешит, страдает, заливается кровью, но вон там, за всем ужасом, – безмолвный свет, сияние над яслями. Это Господь. Это любовь. Там спасение.
Путникам в Россию158
К вам, молодым, едущим посетить Родину, эти строки старого, выросшего в той России и отчасти знающего эту.
Вы жили в воздухе Запада, может быть, и родились здесь, но вы русские.
Вы будете в новой, теперешней России, выросшей из страшной катастрофы, – будете видеть новое. Одно, может быть, вам понравится, другое – нет, но хотелось бы, чтобы о прежней, до-катастрофной России вы хоть немножко более были осведомлены.
Что такое Россия XIX века? В отношении литературно-духовном Поль Валери ставит ее рядом с древнегреческим расцветом159 и итальянским Возрождением. Но в более общем плане: нечто гигантское, противоречивое, где рядом с высочайшей культурой уживалась и великая бедность и непросвещенность. Страна, лишь в 60-х годах отменившая рабство, но введшая такие суды, которым Европа могла завидовать.
В 80-х годах, в детстве моем деревенском, я был еще окружен откликами крепостного права и некоего патриархального мира. Няньки мои видели крепостничество. В народе – некая и наивность, и малограмотность – в общем, необъятное поле, на котором уже начинала трудиться интеллигенция: земство, учителя, учительницы, врачи. Во времена Чехова (90-е годы) всё это сильно росло, и сам Чехов как русский писатель, кроме литературы, неизменно служил народу – как врач и общественный деятель. А Толстой? Борьба с голодом? Но всё это делалось скромно и без всякой рекламы.
Вот именно так же, без крика и пропаганды, давала Россия великую литературу, музыку, религиозно-философское движение начала этого века, в сопровождении движения литературного («серебряного»). На уровне ином, тоже без самовосхваления, незаметными сельскими учителями и учительницами, земскими врачами, рядом с великими писателями вносила Россия свое, посильное в дело культуры и просвещения нарда. Культура эта росла. Проникало Православие и в интеллигенцию. На моих глазах многое менялось. На моих глазах, после многих колебаний власти, народ получил пусть несовершенное, всё же представительство, зачатки европейского строя в политике. Власть делала свои ошибки. Была несчастная японская война, было 9 января с Гапоном и бессмысленной стрельбой, было упрямство в отстаивании пережитков, всё же Россия неудержимо шла вперед – и в просвещении, и экономически. Перед войной 14-го года в центральных губерниях почти осуществлена была всеобщая грамотность, а сельское хозяйство и промышленность росли гигантски.
Не думайте, что прежняя Россия была просто варварской, полудикой страной. Да, на окраинах дичь, в столицах тонкий слой очень высокой культуры, а в общем смесь просвещенности с хаосом, искусства с революционным подпольем, религиозности и религиозно-философских исканий с чиновничеством от религии – молодой, могучий, ищущий народ, стоявший на пути правильном: культурной эволюции. Ей мешали косность власти и яростность революционного подполья. А потом подошла война 14-го года (есть мнение, что она вызвана была Германией и кайзером из опасения роста России). То, что произошло после войны, остановило мирное развитие. Всё пошло по-другому – трагически.
Россия до войны была, конечно, не какой-нибудь сладостной идиллией, но совсем и не тем, чем пропагандно изображают ее теперешние ее властители. И одно можно сказать: при всех ее (наших!) грехах в прежней России не было наглости – это бесспорно, на всех уровнях ее культуры и государственности. Россия была скромна. Иной раз даже чрезмерно.
Вы с волнением, конечно, увидите русские края, вас, конечно, будут обрабатывать и вбивать вам в голову, что всё сделано новою властью. Хорошо бы не поддаваться рекламе. Будут щеголять отделкой метро московского, даже соборами – как будто они их строили. Много расчистили фресок, но не ими фрески писаны. А что снесен храм Христа Спасителя, чей позлащенный купол виден был за десятки верст от Москвы, как купол св. Петра в Риме, – про это никто вам ничего не скажет. Что нет Сухаревой башни, нет Иверской часовни, куда несли русские люди свою беду и слезы, где молились, подкрепляя общением с высшим миром силы свои, – обо всем этом молчок (или презрительная усмешка: всё дело в ракетах, спутниках и т. п.).
Недавно мне подарили монографию об Андрее Рублеве160. Советское издание, великолепно сделанные снимки. Вводная статья не упоминает, что Рублев нравился Марксу и Ленину (а вот «Божественную Комедию» подкрепили всё-таки Энгельсом161 – очень одобрял! – дали путевку в жизнь переводу Лозинского). Статья о Рублеве обыкновенная, толково написанная. В России есть знающие искусствоведы, любящие свое дело, как и литературоведы.
Тираж этого Рублева… 10 тыс. экз. Значит, главнейше (если не исключительно) для заграницы. «Своим» книги и не понюхать, а перед иностранцами щеголять очень приятно. Даже Рублевым щегольнуть, прославленным иконописцем (врагом, собственно), – ну что же, пусть иностранцы думают, что «мы» и культурны, и веротерпимы.
Во времена моей молодости, довоенной, мы читали и получали все иностранные книги и газеты. Россия не боялась Запада, хотя политический ее строй был не западный. Теперь увидите вы на этой выставке в Москве один экземпляр «Матча»162 – с портретом Гагарина на обложке! Выставлено будет под стеклом, как икона, а прочесть, что в «Матче» этом написано, нельзя. Не дозволено.
Менее всего дозволено самому думать и чувствовать. Всё надо делать по указке и «плану». Знаю, что многим, очень многим просвещенным людям в России это не нравится, и верю, что не всегда будет так. Уже сейчас трещины есть, и взаимное просачивание, общение растет. Нельзя вечно держать великую страну за колючей проволокой и вечно бояться Запада. Но всё это идет медленно. Вы, молодые, может быть, и увидите нечто.
Пишу строки эти не как «поучение», а как дружеское обращение. Знаю, что в России много есть хороших и душевных людей, и как бы хотелось, чтобы вам удалось установить с ними связь культурную и духовную. И как хорошо было бы, если бы вы не забывали о великой, вечной России, где многое переделано, в некоторых областях достигнуто (технике, например), но ее основная сила, незыблемая, как творения Рублева, да останется: творчество в скромности. Хорошо было бы, если бы вы не поддавались крику и самовосхвалению загонщиков, а глазами трезвыми и с сердцем, полным любви к Родине, отличали бы драгоценное от мусора, вечное и великое от наглого обмана.
Это из Батюшкова. В ветрила ваших кораблей. Из дальней глуби русской поэзии идет это вольное напутствие в вашем волнующем странствии. Несите на Родину Европу русскую. Выносите из Русской земли нечто, как снопик скромный овса с могилы Пастернака.
А крики, самохвальство и ложь – да минуют вас. Будьте к ним глухи.
«Восемьдесят ступеней»164
За это последнее время я получил очень много приветствий, иногда весьма трогательных, всегда полных благожелания. Чувствую себя в долгу перед теми, кто словом и делом выказал мне сочувствие, привет, иногда даже и более горячие чувства. Не имею возможности всем ответить в отдельности, потому позволю себе самым сердечным образом поблагодарить и здешних, и заморских друзей – волна благожелания очень поддерживает и дает некую бодрость. «Восемьдесят ступеней», – сказано в одном письме. Число, конечно, немалое и повод, чтобы взглянуть, хоть и очень бегло, на собственную жизнь и на жизнь родины.
Поколение мое юностью своей захватило еще мирный мир – или казавшийся мирным (в нем скоплялись, конечно, силы взрыва: войн, революций, крови).
Мы, русские, принадлежавшие к среднеинтеллигентскому, отчасти богемскому литературному кругу, росли в воздухе искусства, видели много красоты, поклонялись Италии и ее свету, но во многом были детьми, недостаточно знавшими низы жизни и мало ими интересовавшимися. Хотелось написать что-нибудь – рассказик, повесть (не для счастья человеческого, а так, бездумно, для собственного удовольствия), съездить еще раз во Флоренцию, в Москве посидеть с Буниным в ресторане «Прага». Ничего жертвенного или там героического.
А жизнь страны шла своим путем, да и всей Европы своим, – в 14-м году и началась катастрофа. Мир вступил в полосу неслыханных бедствий. Низы показали себя. Но и мы за что-то ответили – за слишком легкую, беззаботную жизнь (это и есть покаянная нота «Золотого узора»165 моего: может быть, недостаточно выраженная, во всяком случае недостаточно замеченная).
Нечего говорить: какие бы мы ни были, мы всё-таки много перестрадали, и самое зрелище крови, убийств, насилий навсегда осталось в душе раной. Погибали близкие, молодые, чаще всего безответные, – безвинно. Горестно вспоминать о том времени. Но ужасы, беды тех лет, показавших зверя в человеке, показали зато, в стенаниях души, и высший, немеркнущий мир Спасителя, Евангелия, мученической Церкви в особо ослепительном, как бы Фаворском свете. Это – выше искусства и поэзии (но настоящему художеству дает луч света своего).
И вот, так или иначе, через одни двери или через другие, оказались мы здесь.
Жили, трудились, кто как умел, старались хранить святыни, вынесенные из пылающей Трои: религию, человечность, свободу. Годы шли. Много соратников ремесла нашего литературного ушло, из моего поколения остаешься чуть не один. Что сказать, когда вся жизнь позади? От горя и испытаний никуда не уйдешь. Они неизбежны и ведут к неизбежному.
Но про самую жизнь скажу всё же прежнее: рядом с ужасом есть в ней и свет, и любовь, и тишина. Они поддерживают и укрепляют. И они исходят из мира высшего. Не было бы в жизни смиренных и кротких, любящих и несущих себя другим, возможно, увидели бы мы зверинец. Но видим пеструю, с тенями и светом, таинственную картину мироздания, понять которую нам не дано, но на каждого из нас возложено – вносить в нее хоть каплю добра.
Когда человек молод, окружен молодыми, живет стихийно, в мажоре, он менее замечает страдание и беду. Старость восстанавливает равновесие. Может быть, даже сгущает тени. Видишь почти что одно страдание, горе, смерть. Знаешь, что всё это неизбежно и неслучайно, и всё-таки равнодушным остаться не можешь.
Вот и хочется послать некое братское радио, сигнал сочувствия и сострадания всем страждущим, болезнующим, одиноким, в тюрьмах и заключении томящимся, всем озлобленным и несчастным, потерявшим надежду и ропщущим – как бы слиться хоть на минуту со всем племенем бедствующих. Да подаст им Господь силы и облегчения, веры, надежды и любви.
Уходящие – приходящим166
Ваша юность от нашей весьма и весьма отлична. Мы жили на Родине, вы возрастаете на чужбине. Родина наша была во многом и трогательней, во многом и первобытней теперешней жизни – да и Западная Европа тоже была иная полвека назад.
Мы пережили две войны и революцию, страшное испытание для нас, – теперь ясно уж видно, что в самом ужасе ее было нечто и от кары за нашу слишком беспечную и беззаботную жизнь, – говорю о средневысшем, достаточном слое общественном.
Да, расплата за многие грехи, которых тогда мы не замечали.
Вы родились, в большинстве, уже в изгнании, совсем в другом воздухе – корни свои, русские, а окружение чужое. В этом своеобразие и трудность. У вас с детства уже два языка – в семье русский, в лицее, университете другой.
Обстановка вашей жизни сложней. Вы подданные нерусского государства и общаетесь с иноземцами, а природа и склад ваш душевный русские. Вы окружены чужим языком, иногда он почти даже побеждает.
Но у вас есть и великие преимущества. Мир шире перед вами открыт, и живете вы в стране высокой культуры. Мы возрастали в своих Калугах, Тулах прочно закупоренные. Москва казалась нам дальним краем, Петербург чуть ли не «заграницей», а Западная Европа просто фантастикой. Приблизительно то же, но по другим причинам и в другой обстановке сейчас с молодежью советской. Единицам, каплям из них удается увидеть Запад или даже услышать о нем кое-что. «Начальство не дозволяет».
Для вас же, русской молодежи здесь, простор почти безмерный. Европа Северная, Южная, даже Ближний азиатский Восток – Сирия, Палестина с Иерусалимом и Гробом Господним – всё вам открыто, не говоря уже о Дальнем Западе. Международность юношеских ваших организаций облегчает вам странствия – почти везде есть родственный, хоть чужеземный, но христианский приют для ваших странствий. Закрыта одна Россия, но, твердо верим, ненадолго! Жизнь удержать полицией нельзя. Просачивание, взаимообщение растет, не удержать его ничем.
И у вас есть еще преимущество пред молодостью нашей: мы росли одиночками, почти без взаимообщения, вдали от Церкви (и она мало шла к нам, слишком была связана с государством).
У вас ряд юношеских организаций, в которых живете вы в общении и друг с другом, и с Церковью, облик которой и здесь, в изгнании, и на Родине, где гонима она, – иной, чем у Церкви нашего времени. Ваши юношеские организации оттенками отличаются друг от друга – в одних ударение делается больше на национальном, в других на православно-церковном. В общем же устремлены они к России, к тому духовному богатству, которое веками накоплялось в ней литературою, искусством и особенно религией, ныне преследуемой, но конечно «врата адовы» не одолеют «ю»167.
Сейчас вы еще учитесь, воспитываетесь и набираетесь познаний, но с каждым годом больше в жизнь взрослую вступаете. В ней предлежит вам многое. Вполне надеемся, что те страшные, кровавые катастрофы, через которые прошли мы, вам не встретятся уже. Но сама жизнь, с ее радостями, печалями, светом и трагедией, буднями и празднествами, вся перед вами.
Мы не увидим уже Родины, но, конечно, никогда ее не забудем, и судьба ее всегда в нашем сердце. Вы, более чем вероятно, ее увидите. На чужой земле или на своей – дай вам Бог оставаться носителями и хранителями света Христова, «единого на потребу». Дай Бог, в единении, здесь ли или там, нести его людям-братьям лучше и больше, чем довелось делать нам. Здесь ли, там ли внутреннее дело ваше – апостольское, миссионерское. Здесь – словом, жизнью и примером прививать Святую Русь иноземцам, прививать с позиций не провинциальной, но вселенской культуры, в духовном ее облике. На просторах российских – в сущности, то же самое. Только своим и на своем языке.

Собор новомучеников и исповедников Российских, за Христа пострадавших, явленных и неявленных. Средник иконы. 2000
Не забывайте Россию. Идолам ее не поклоняйтесь. Величие ее духовное храните. Само оно будет просвечивать в делах ваших. Страданиям, пережитым Родиной вашей, поклоняйтесь. Мучеников ее не забывайте.
Наши же сердца и помышления всегда будут с вами.
Комментарии
Тексты приведены в соответствие с современными нормами грамматики и правописания, однако в ряде случаев сохранены индивидуальные особенности авторской пунктуации.
В комментариях указывается первая публикация произведения, являющаяся, как правило, и источником публикуемого текста; исключения оговорены. В квадратных скобках приводятся ссылки на издание: Зайцев Б. К. Собр. соч.: В 11 т. М.: Русская книга, 1999–2001, с указанием номера тома и страниц.
Словарь встречающихся в текстах транслитераций французских слов и выражений
ажа́н – полицейский
аксида́н – авария
анш – бедро, бок
баккара́ – неприятности
башо́ – экзамен на степень бакалавра
бистро́ – кафе
були́ – волдыди
вида́ж – вид
дактило́ – машинистка
иммедиатма́н – незамедлительно
камио́н – грузовой автомобиль
карт д’идантитэ – удостоверение личности
компартима́н – купе
комфо́р моде́рн – современные удобства
конжедиэ́ – уволить
контравансьо́н – штраф
кутю́р – шитье, швейное ателье
кюре́ – приходский священник
лектри́са – преподавательница
мена́жка – горничная
миди́ – полдень
мидине́тка – молоденькая швея
мули́ – мидия
мэзо́н – мастерская, учреждение, организация, дом
пти деженэ́ – завтрак
рединго́т – сюртук
со́льды – уценки
сомье́ – матрац
терм – кредит, срок выплаты
тротине́тка – самокат
ту́чка-жибуле́ – тучка короткого весеннего ливня
фамм де мена́ж – горничная
шаржну́ть – посадить к себе в машину клиента
шома́жник – безработный
шоффа́ж – отопление
энконвениа́н – недостатки
эписри́ – бакалейный магазин
эписье́рка – бакалейщица
* * *
В книге использованы фотографии из изданий:
• Mario V. Bucovich. Paris. Berlin, 1928 (роман «Дом в Пасси»);
• Ростова О. А. «Напишите мне в альбом…»: Беседы с Н. Б. Соллогуб в Бюсси-ан-От. М., 2004 (очерки «Спас на Крови» и «Знак Креста»).
В заметке приведены евангельские цитаты: И открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну (Мф. 2, 11); Доколе Я в мире, Я свет миру (Ин. 9, 5); Кто жаждет, иди ко Мне и пей (Ин. 7, 37); Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни (Ин. 8, 12).
Заметка является откликом на поздравления, поступившие Б. Зайцеву по случаю его 80-летия.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе