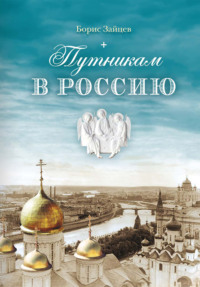Читать книгу: «Путникам в Россию», страница 18
– А пожалуй, кое-что насчет русских надо и пересмотреть.
День св. Николая Чудотворца.22.05.1929
Заметки
(Из пережитого)140
Не забыть июльского вечера в деревне, с самоваром на балконе, копнами сена в саду, когда пришло известие: – Германия объявила войну!
С этого же балкона побежали мы за две версты к соседу – только что возвратился он из города, привез вести, слухи, газеты. В глубоком волнении шли через березовую рощу, ложком в осинах, липах, с мелким подседом. Солнце садилось. В низинах сырело.
Горький, нежный запах срубленных осинок, влага пряная, струя покоса. Юноши – двое – жмутся ко мне, всё разглагольствуют, в великом возбуждении, как пойдут на войну. Идем аллеей осин, где любили скакать верхом с молоденькою кузиною соседа. Племянник называл эти скачки «бегством Карла Смелого после битвы при Нанси»141.
В тот июльский вечер мы в последний раз шли аллеею скачек, в закатном солнце прежнего мира. Начиналось всё новое. Понимали ли мы это тогда? Сознанием, может быть, нет. Но шестым чувством – да. И сейчас, через много лет, ощущаешь внезапный ток нервный, щемяще скорбный, что тогда настиг в самой низине рощи, у ручейка, пред полянкою скошенного сена. Лежало оно в рядах покорное, неведомым Косцом скошенное, недвижно и беззвучно – лишь благоухало. Двум молодым жизням рядом со мной был уже назначен некий Косец (воинов Алексея и Георгия поминаю в числе «убиенных и умученных»).
Тысячи отцов, матерей, сестер, братьев, невест ощутили, разумеется, в тот вечер то же самое – во всём мире.
Загадочны судьбы. Одним надлежало пасть на родной земле, другим для каких-то целей выжить. Голгофу приняли все. Смерть – не все.
Тяжело и не хочется вызывать в памяти страшное семилетие 1914–21-го годов. Говорят, за семь лет меняется весь состав человека. Думаю, наши деды, отцы не меняли его, в ровной и благодушной своей жизни, и в двадцать семь. Нам же те семь могут за семьдесят семь зачесться. Если смотреть на жизнь как на театр, мы попали к представлениям из грандиознейших. Разные могут быть взгляды на цель, смысл событий. Нельзя отрицать размеров их. Некий Уральский хребет отделяет прежнюю жизнь от нынешней – и одною частию мы там, другою здесь. В этом своеобразие и трудность положения нашего.
* * *
Как при начале войны «мудрейшие» и проницательнейшие думали, что всё это «на два месяца», так в революции утверждали они, что через две недели останутся от Ленина клочья. Но таинственный Владимир Ильич оказался крепче. То, что казалось трагическим эпизодом, оказалось началом великой болезни. Этого мы упорно недооценивали. И Европу, сидя в Кривоарбатском, всё еще расценивали как разумную, благожелательную – «уж она всё прилично устроит».
…Когда летом 22-го года выезжали мы из России, искренно полагали, что это на год, на два… Умнее всех оказалась маленькая девочка142, бедно, по-советски одетая, прощавшаяся с дедушкою и бабушкой, Москвой и Арбатом как бы навсегда.
– Нет, мы скоро не вернемся.
И на латвийской границе бросила из окна вагона на родную землю букетик незабудок.
Не одни мы, не один я так чувствовали. Поэтому, говоря о себе, имею в виду собирательное лицо – русского человека, в известном кругу и в известной обстановке выросшего, не весьма к жизни приспособленного, далекого от страшных ее сил – и довольно легко силами этими побежденного. Переезжал ли он латвийскую границу или польскую, бежал ли через Финляндию или Румынию, попадал ли в Константинополь или Софию, всюду увозил с собой в изгнание душу русскую, с достоинствами ее и недостатками, грехами, слабостями, но душу, потрясенную страданиями и зрелищами невиданными.
Въезжал ли в Болгарию, Сербию или Германию, первое, естественное ощущение: свобода, Европа! За страшным рубежом – кошмарное. Здесь – обычная жизнь, приличные люди, по ночам не замирает сердце, когда прогрохочет грузовик, нет домового комитета, не пошлют разгребать снег или разгружать вагоны на Москве-Товарной. Немцы ли или французы, болгары, итальянцы, сербы – люди обыкновенные – нормальные. Одни участливее и родственней, другие прохладней, но жить с ними можно.

«Русское кладбище» в Белграде
Первое время даже послевоенный Берлин кажется нарядным и веселым – всё-таки Курфюрстендамм не Молчановка с разобранными заборами, не Большой Трубный, где через сады можно прямо, по задворкам, выйти на Плющиху.
В этом «европейском» Берлине русские уже раскинули свои шатры, начинают «новую жизнь». Но в душе: временно! Ненадолго. Россия еще под боком. Долго не может там твориться «это». И само-то оно не вечно, и Европа не допустит. Здесь же культурные, образованные люди.
Разумеется, они нам сочувствуют. А не орудующим на родине.
Такое настроение поддерживает. Ну мало ли, временные беды, тягости… а там опять Москва и человеческая жизнь.
Но уже скоро замечает приезжий, что Берлину до него нет дела. Приехал так приехал, твое дело. Будь еще благодарен, что пустили. Прописывайся, плати налоги – но имей в виду, что экселенц Krestinsky143 много важнее и интересней всех вас, эмигрантов, вместе взятых. Вы снимаете комнаты у какого-нибудь Herr’a Bolte, а он живет во дворце (предварительно объявив дворцам войну). Вы пьете пиво на Nollendorfplatz, дома порядочного гостя принять не можете, ибо у вас комнаты с «Küchenbenutzung»85. А у него такая икра, что почтенные германские профессора с европейскими именами стоят к ней в очередь «в затылок» и не прочь горсточку домой захватить: фрау профессор понятия не имеет, что такое советская икра144.
Так что уже в Берлине возникают недоумения, начинается некая новая эмигрантская наука – вернее, вариант прежнего, что и в России переживали в революцию, на тему: «смирись, гордый человек». Не преувеличивай места своего в жизни. Не заносись! А огорчения свои, разочарования в людях, режимах – Запада ли, Востока, привыкай пережевывать в одиночестве и молчании.
* * *
Разными путями, благодаря разным жизненным встряскам и утрамбовкам собирается русское племя в Париже, оседает. Можно сказать, настоящая эмиграция с Франции и начинается. Странное, грустное ощущение – вероятно, многим знакомое: вот теперь прочно, как следует! Не на чемоданах. Россия действительно за тридевять земель, а здесь плотно мы заперты, наглухо, как в подводной лодке: дыши кислородом домашним. Теперь и началась жизнь наша – питомцев прежней, вольной, широкой России, распущенной и беззаботной, щедрой, певучей и поэтической, – в «столице мира» у порога вселенной. В латинской стране, размеренной и крепкой, с ее укладом, ее культурой, трудолюбием и бережливостью, расчетом и благоговением перед собственностью и деньгами. Зацепившись кое-как, применяясь к порядку внешнему – чудом существуя, начинаем здесь жить.
Наш опыт145
…За время войны и революции расширился наш горизонт и познания – в политике, экономике, военном деле, географии. Но самый грозный внутренний опыт был опыт раскрывшейся силы зла. Из-за удобного, мирного «прогресса» выглянула трагедия. И дикое лицо человека-зверя. Мы его раньше не знали. Им навсегда убито прекраснодушие нашей молодости. Если с ранних лет глубоко было наше отвращение к насилию, крови, казням, то для зрелости выпало жить в кошмаре убийств и казней. Всё это обратилось в повседневность. Помню, как, раз проезжая в революцию мимо Лубянки, сказал я старичку-извозчику:
– Небось еще не угомонились?
На что с философской невозмутимостью, точно дело шло об уборке урожая, он ответил:
– Никак нет, барин, раньше пяти часов им не управиться. А уж как уберутся, на грузовик накладут, так и на кладбище. Им раньше пяти никак не отделаться.
Или мальчишка-красноармеец, простой, добродушный, на площадке вагона близ Каширы. Улыбаясь рассказывал, как они воевали с белыми.
– И попался тут один нам в плен. Глядим, а он поп. А туда же, воевать… Наши очень над ним забавлялись. Сколько хотели мучили. Ремни все ему из спины вырезали.
Он сплевывал, затягиваясь цыгаркой. Весенний ветер полей каширских обдувал молодое – симпатичное! – лицо.
– Очень долго с ним баловались.
«Мужички за себя постояли»146. Этому не приходится удивляться и на это не надо злобствовать. Но это надо было пережить. Некие «ремни» вырезались также из нашей души, сердца, мозга.
Можно ли жить с сознанием полного господства зла в мире? He думаю. Это ведет или к потере облика человеческого, или к отчаянию (кран газа в кухне).
Совершенное «отрицание» не так уже часто. В сознании ли или подсознательно, животворящая сила упорно, долго держится. Откровение со-чувствования, любви, братской родственности не так легко вытравить. Пусть сила зла потрясающа… – страждущим, измученным Бог открывается: это и спасает. Что спасало, удерживало и утешало русского человека в бедствиях нашей эпохи – конечно, религия, сделавшая огромные завоевания в сердцах. Были целые месяцы и недели в Москве, в революцию, когда жить, дышать и не приходить в отчаяние можно было лишь в церкви. Когда на Литургии можно было плакать с первого ее слова до последнего и всё же уходить облегченным, ибо безобразию, зверству, свирепости окружающего противополагался мир гармонии и любви. Хаосу – Космос. Крикам – музыка. Пошлости – величайшая поэзия. В самые страшные минуты самый факт существования Евангелия так же неопровержимо свидетельствовал о величии добра, как встающее солнце ежедневно доказывает неистребимость света.
А в жизни – каждое малое слово участия, со-страдание в беде, умиление, помощь – отблески всё того же Высшего и Вечного в людях. Доброта – голос Бога, говорящего через человека.
При этом: полюсы возрастают. Никогда раньше не порождала Россия столько палачей и насильников. Но и дух святости и мученичества никогда не являлся столь ярко, как теперь. Имена митрополита Вениамина, Владимира Киевского, московских священников, принявших мученический венец, – золотые имена России. А протоиерей Восторгов? А бесчисленное количество малых и смиренных, неведомых, кто от своей истины не отступился, за нее пострадал? Наконец, огромное число людей, прежде далеких от религии и равнодушных к ней, а теперь обратившихся, – многие из просвещенного класса.
Трагедия ничего не оставила в покое, в летаргическом, сонно-благодушном полубытии. Всё раскалилось. Чего-чего, а сонливости и равнодушия не осталось в России сожженной.
С таким-то вот опытом, грозным, но, может быть, и плодотворным, вошли мы – люди моего поколения – в изгнание. Не зря дан был нам огонь. Очищающее крещение!
От нас самих зависит многое в нашем дальнейшем внутреннем пути.
Тем, кто почувствовал Бога, нельзя уже в жизни сдаваться.
Двенадцать Евангелий147
«Рече Господь Своим учеником: ныне прославися Сын Человеческий, и Бог прославися о Нем»148.
…Париж, нижний храм улицы Дарю149, куда спускаешься по лесенке, как в подземелье. Уже который год стоишь вот так, с зажженною свечой, в небольшой, типа крипты, церкви с низкими сводами, в знакомой из года в год толпе, от высшей знати до старух-нянек, в голубоватом каждении, в золоте слегка веющих нежных, капающих воском свечей. Из года в год о. Иаков150 читает в Чистый Четверг Двенадцать Евангелий. Он невысок, апостольски-лыс, с большим умным лбом, снежно-легким обрамлением волос на голове. Какое русское лицо! Россия так навсегда и осталась в выцветших небольших глазах его, в бровях, скулах – во всём облике. Он в траурной ризе, в очках, какие носили тридцать лет назад, со свечою в руке стоит пред аналоем. На нем огромное раскрытое Евангелие. Старческим, высоким, но сколь музыкальным голосом по закапанным воском страницам он читает:

Александро-Невский собор в Париже на рю Дарю
«Глагола Ему Петр: Господи, почто не могу ныне по Тебе ити? ныне душу мою за Тя положу. Отвеща ему Иисус: душу ли твою за Мя положиши? Аминь, аминь, глаголю тебе: не возгласит алектор, дондеже отвержешися Мене трищи».

Протопресвитер Иаков Смирнов
Вечная, с детства родная, навсегда ранившая история Петра. Алектор, трищи… «не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». И спокойное, ровное, течет рекою первое, самое длинное и мистическое Евангелие среди всё той же голубовато-золотистой тишины, коленопреклонений, кое-где слез, блистающих в отсвете свечи. Гефсимания, предательство, Каиафа, заушение, допрос… Двухтысячелетний рассказ! «Они же отвещавше реша: повинен есть смерти. Тогда заплеваша лице Его, и пакости Ему деяху: овии же за ланиту удариша, глаголюще: прорцы нам, Христе, кто есть ударей Тя?»
В лысине протопресвитера реющее веяние света. На словах «заплеваша лице» и «пакости Ему деяху» в голосе легкая спазма, как бы всхлипывание. По щеке медленно ползет старческая слеза. Он запускает руку в карман, вынимает носовой платок. Но слеза не дождалась – со щеки пала на закапанное воском, в тяжком переплете с окованными углами, застежками, красным тиснутыми заглавными буквами Евангелие. А между тем Петр отрекся уже во дворе Каиафы – «и абие петел возгласи. И помяну Петр глагол Иисусов, реченный ему: яко прежде даже петел не возгласит, трикраты отвержешися Мене. И изшед вон, плакася горько».
Отец Иаков знает эти слова наизусть, как и все слова Двенадцати Евангелий. Из года в год повторяет их и из года в год, на восьмом своем десятке, повторив, спрашивает себя – доведется ли читать в следующем году.
«Слава страстем Твоим, Господи»151, «Слава долготерпению Твоему, Господи» – вновь и вновь опускается церковь на колени. Пилат допрашивает Иисуса, свеча слегка дрожит в руке протопресвитера: «распни, распни Его! Глагола им Пилат: поимите Его вы и распните: аз бо не обретаю в Нем вины».
Аз бо не обретаю вины! Но вот опять: «бияху Его по главе тростию и плюваху на Него».
Через всех четырех Евангелистов шествует Господь на Голгофу, и Симон Киринеянин несет крест, и Его распинают, «распеншии же Его разделиша ризы Его, вергше жребия». Лишь у Луки – распятый рядом разбойник покаялся на кресте – «помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Си». После восьмого Евангелия этого хор прославляет «Разбойника Благоразумного», Евангельское повествование течет, весенний день течет, переходя в вечер, такой же он сиренево-прозрачный и в Париже, каким был в Москве, с набухающими почками, первою апрельской зеленью, – день Чистого Четверга, незакатного света, день и грусти, сострадания, воздушных слез, но и такого света и надежды! Хотя протопресвитер в темной ризе с серебряными крестами, но Чистый Четверг – не траур, а умиление, нежность, кристалл. Самый воздух его духовен, это день сизокрылый, день-голубь. Четверговая свеча есть Дух. Не напрасно, отслушав об Иосифе Аримафейском («благообразен советник»), о положении во гроб, об опасениях фарисеев, мы расходимся по домам, неся эти свечи зажженными, закрывая ладонями (становящимися сквозными), как носили когда-то по переулкам Москвы. Мы несем облик Духа, стережем, любим его, как любим, чтим Дух в голосе, слабом всхлипывании, слезе о. Иакова, годы нам читавшего о Страстях, годы ведшего свой путь к Вечности.
Мы его не услышим уже. Настал год, которого ждал он, – в последний раз читал в нижней церкви Двенадцать Евангелий: и ушел, отойдя в ту страну, куда издавна устремлялся.
А Евангелисты остались. Новый голос священника, на Двенадцати Евангелиях, с новой торжественностью возглашает: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, якоже возлюбих вы. Больше сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя. Вы друзи Мои есте, аще творите, елика Аз заповедаю вам».
Вифлеемская звезда152
Годы как будто всё далее уводят нас от России. Незаметно, но неуклонно растет число зим и весен, проведенных в изгнании. Сколько раз встречали уже мы здесь Пасху, Рождество?
Да, во времени и пространстве отдаление есть. Душевно же Россия, именно теперь, столь крепко в нас входит, с такою мучительной сладостью, как не было и тогда, когда спокойно и барственно сидели мы у себя дома, на Арбатах, Пречистенках. Теперь все Арбаты за тысячи верст. Для чего-то так надо было. Что-то понять в жизни по-новому, глубже и значительнее, как-то переустроиться, новому научиться, кое от чего от прежнего отказаться – вот что нам было предложено. Этот опыт, или урок, длится уж годы. Мы не знаем ни дня, ни часа, когда вновь ступим на родную землю, но мы в это твердо верим. Пока что живем. Мы маленький изгнанный народ, рассеянный и полубесправный, но нам нечего «плакать на реках Вавилонских». Жизнь продолжается. Для одних из нас она легче, для других тяжелее, но в легком ли, тяжелом ли, у всех нас есть одно, общее и незыблемое: Родина-Истина. Физически Родина от нас далека. Нам сейчас туда не доехать, и не пустят нас. Это ничего не значит. Ибо в душах наших не только не умирает, но, в изгнании сплачивая, ярче и чище светит облик Святой Руси – нашей духовной Родины. Нам дано огромное укрепление и счастье – в родных святынях. То, что самое важное и единственно великое в России, – этого не отнять никаким политикам и никаким партиям. Оно с нами, в нашей душе и сердце.
Родина-Истина есть облик Вечной Истины в русском преломлении, как бы с русским «выговором». Истина, воплотившаяся в Святом Младенце, над яслями Коего мы стоим сегодня, в волнении и смирении, для нас, русских, одета своеобразной легчайшей одеждой – нашего богослужения, наших напевов, всего склада и глубокой поэзии Православия. Идет жизнь, и меняются формы. Но Святая Русь, во всём сонме своих праведников, творцов, учителей – выше жизненной пестроты и таинственно покровительствует всем, направляющим к ней свой душевный зов. Многое переменилось и у нас в России. Многое навсегда ушло, незачем стремиться к восстановлению его. Новая Россия будет создаваться новыми людьми, возможно – в новых формах. Тем радостнее издалека, вот отсюда, узнавать, что в этой новой России, рождающейся из трагедии, многое вполне созвучно нам, что на земле Российской «Высшая Родина» уже пробилась вновь, иногда тоже в своеобразном виде. Что, несмотря на гонения и надругательства, победоносно завоевывает она души – иной раз вчера еще кипевшие озлоблением. К чему плакать на реках Вавилонских, когда мы узнаём, что вместо закрытых и оскверненных храмов трудящимися создаются новые, когда число членов приходов считается уже миллионами, когда «Христомол» – новое слово!153 – союз христианской молодежи (куда сплошь и рядом идут вчерашние комсомольцы) – растет неудержимо, когда все вести сходятся на победе Церкви.
Кто из нас увидит, кто не увидит родную землю – этого мы не знаем. Но именно теперь, на рождественских службах, при рождественских елках и нежном золоте рождественских свечей, мы вновь и вновь ощущаем нерасторжимое, любовное единение с Родиной, с самым высоким и чистым, что есть в ней.
Пожелаем же Ей, многострадальной, самого лучшего, светлого, чего только можно пожелать. В этом общении укрепимся сами и постараемся со всем нужным спокойствием, со всей выдержкой и терпением продолжать путь: Вифлеемская звезда над нами.
Рождество154
…Мягко, ветрено, влажно. Пестро бегут облака. Свет прольется, опять всё потемнеет. Ветер и лужи, теплая буря напоминают Масленицу в России, не Рождество. А это именно Рождество – латинское – и Новый год. Париж встречает его сдержанно. Но встречает: не так легко выбить западную столицу из вековых рамок. Нелегко и опьянить ее, захлестнуть угаром. И трагедии, и радости, и праздники Парижа вложены в некие берега.
В них живем здесь и мы – русское племя, у которого Рождество позже здешнего Нового года. Но дело не в днях. Дело в том, что Россия и Запад одинаково на рождественском переломе. «Дева днесь Пресущественного рождает…» – в христианском мире это связано с новым циклом, рождением младенца-года. Христос восстает из яслей Своих пред годом. Каждый год мы живем при Младенце Христе.
Как всегда, над глубокою печалью, тьмой, ущербом вознесется Лик Младенца и теперь. Даже над особенною тьмой и озлоблением. Как озлоблению и не быть? Под разговоры о замирениях точат народы друг на друга ножи, заедает внезапно всплывшая нищета, некуда сбыть произведенного: фабрики, заводы закрываются – вчерашний труженик на улице. Экономисту, может быть, всё это очень интересно – теоретически, научно. Петру, Ивану, Марье важна жизнь. Важно, чем заплатишь за квартиру, как работу достанешь, у кого займешь. Петра, Ивана, Марью может раздражать (и раздражает) роскошь, себялюбие и неотзывчивость имущих, блестящие сочельники в блестящих ресторанах, когда рядом в Сену с голоду бросается жена гарсона безработная. «Горе тебе, Вавилон, город крепкий…» В чем-то ошибся Вавилон, что-то напутал – будто бы заколебались самые устои его, устои жадной, грешной и жестокой жизни. Страхом бедности, страхом войны объят мир. А с Востока уже попахивает кровью155. Там – только бы до нее добраться. Там не устанут точить ножи: новый Вавилон, возросший на грехах прежнего – много прежнего горьший.

Рождественский номер газеты «Возрождение» от 7 января 1932 г. с публикацией Бориса Зайцева «Рождество»
…Под мягкий ветер, ростепельный, ласково накидывающийся, идет Новый год. Что даст он? Первые ли шаги к лучшему? Или рост худшего?
Это неведомо. Можно гадать, можно надеяться, можно отчаиваться. И конечно, человеку свойственно пытаться прорвать тайну: хоть бы силой, да ответ добыть. Ответ этот (или, вернее, попытка ответа) связан с темпераментом и складом вопрошающего. По своему «образу и подобию» создает он образ будущего. Один ждет начала, другой конца. В общем же все слепы.
Их не следует порицать. Они целиком лишь отдаются одной стороне человеческой своей натуры («слишком человеческой»). Но возможен и другой подход к жизни.
Пусть святым, пророкам, обитателям Синая нечто и приоткрывается – в блеске молний, в громовых ударах. Может быть, есть и среди нас провидцы. Может быть, ход истории для кого-то ясен и виден с такою отчетливостью, как я вижу каштаны на другой стороне улицы из своего окна. Но – не мне. Для меня будущее – туман, загадка.
И таких, как я, много. Может быть, и не следует нам мудрить – мучить себя, отравляя воображение картинами возможных бедствий, выдумывать рецепты для спасения человечества, впадать в уныние и мрак бездеятельности («всё равно пропадать»).
…Если бы можно было попросту верить. Вот именно глядеть на сияющего Младенца – и не бояться. Жить обычной скромною и (хорошо бы!) доброй жизнью. История, политика и человечество пойдут, куда указано им. В человеческом общежитии пусть и каждый из нас делает какое-то свое дело. Только чтоб за каждым шагом Он стоял. Никуда в плохое с Ним не зайдешь. И чем чаще на Него прямо смотреть, тем бы лучше, лучше…
Может быть, это возможно? Как бы облегчилось наше сердце!
Двенадцать Евангелий – название службы утрени в канун Страстной Пятницы, на которой читается двенадцать евангельских текстов, рассказывающих о завершении земной жизни Спасителя, Его страданиях, казни и погребении.
Рождественский номер газеты, на первой полосе дата указана по старому стилю: 25 декабря 1927. Текст Зайцева дан без подписи.
В номере опубликованы также «Плач о Борисе и Глебе» Б. Зайцева, «Наше Рождество» И. Шмелева, «Рождественский рассказ» И. Воинова, рассказы Е. Чирикова, И. Лукаша, стихи С. Маковского, П. Бобринского, С. Рафаловича и др.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе