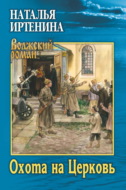Читать книгу: «По грехам нашим», страница 3
– Без Бога тьма… При социализме было видно – светлое будущее коммунизма, – с досадой и состраданием ответила Наташа. – И ведь редко кто очнётся и скажет: хочу знать – научи, Господи, подскажи, в чем наука жизни…
– И в чем же?
– В Евангелии, в Завете жизни…
Наташа попыталась подняться со стула, чтобы взять Евангелие, но Щербатов остановил её:
– Не надо, Наташа, я не верю этому… Где-то там Библии, Торы, Кораны – ничему не верю. Только научная идея может вдохновить и увлечь меня.
– Вольному воля, – прикрыв глаза, Наташа улыбнулась. – А я на любые вопросы и сомнения нахожу ответы в Новом Завете. Там и Бог, и человек… А вообще, Петр Константинович, нельзя отрицать того, чего не знаешь. Наберись мужества, прочти, познай, подумай, а уж затем по уму делай выводы. А как же иначе?.. Коммунизм для вас был котом в мешке – вы никогда его не видели и не знали. Это называется утопией. В конце концов, сами же и взорвали, разрушили, чтобы вновь на разрухе извлечь личную выгоду…
– Не смей так говорить – кощунственно! – и нахмурился, как если бы в своём кабинете во время приёма посетителей.
Они уже давно съели колбаски с яйцом, выпили по чашке чая, и лишь тогда только Щербатов спохватился:
– А ведь я, беспамятная голова, что-то принёс к чаю – и забыл. – И он извлёк из портфеля какие-то сладости, какие-то ядрышки орехов, какую-то красную рыбу и ещё что-то. Но пока оба ничего не хотели. Они смотрели друг на друга, понимая, что оба намерены что-то сказать, о чём-то спросить, но не говорят и не спрашивают, как люди, кои и без того всё знают друг о друге.
«Почему, зачем он оказался здесь и что он от меня ждет?» – нередко задавалась Наташа безответным вопросом.
«Зачем я здесь, в этом подземелье – и что от неё хочу?» – в свою очередь спрашивал себя Щербатов и тоже не находил ответа.
– Наташа, ты для меня как дочь, – спокойно и даже взвешенно заговорил Щербатов. – Но я не могу понять, что нас свело вот так… случайно? Ведь что-то свело. И я понимаю, что должен сказать о себе… Ты, наверно, ждёшь, а я молчу… Ты знаешь о моей болезни, неизлечимой болезни. А вот о сроках не говорил – у меня мало осталось, меньше года. Даже язык не поворачивается говорить. – Щербатов распрямился, вздохнул, слегка откинул голову и, тихо постукивая пальцами по столу, молчал, как будто обдумывал это оставшееся «меньше года» время. – Дни мои предопределены…
И тихое молчание – о чем они думали?
– Я одно могу сказать, – очевидно, в напряжении заговорила Наташа и вновь на какое-то время замолчала. – Предопределять может только Бог… Издавна на Руси говорили: человек предполагает, а Бог располагает. Сама жизнь – свидетель: сколько сроков было отменено. – Она интонацией голоса выделила это «отменено». И тотчас как будто спохватилась: – Мне вот книгу недавно привезли: исцеления по молитвам святой праведной Матронушки. Я и сама еще прочесть не успела…
Она поспешно прошла в свой угол.
«Хромает», – впервые отметил Щербатов.
И всё так же поспешно возвратилась к столу.
– Значит, Матрёна и с того света лечит? – Щербатов усмехнулся.
– Во-первых, не Матрёна – это простонародное, а Матрона, по латыни почётная женщина. Во-вторых, и все-то исцеления с того света идут.
Она полистала книжицу, видимо, отыскивая подходящий пример – и нашла: женщина страдала раковой опухолью, дважды приезжала к раке, молилась и прикладывалась, а когда через какое-то время обратилась к врачу, опухоли прежней не обнаружили…
– А кто она такая, Матрёна? – и невольно потянулся за книжкой. Перелистнул одну страницу, другую и вздохнул сокрушенно: – Нет, не верю я этому, и всю жизнь не верил – и теперь не поверю. Это дело Матрён.
Лицо Наташи даже исказилось:
– Да что вы в самом деле, Петр Константинович!.. Сами лгали семьдесят лет, потому и считаете, что все лгут!
– А это когда же мы лгали? – с недоброй усмешкой попытал Щербатов.
– Строили коммунизм – рай на земле! А людей морили голодом, истребляли. Это что, не ложь?
– Это не ложь. В капиталистическом окружении, следовательно, недостижимо…
– И вы решили сами стать капиталистами – опять ложь!
– Не к месту, не к месту такой разговор, оставим его…
И вновь Щербатов почувствовал себя больным. Он замечал, что такая перемена нередко в нём повторяется. Однако продолжали мирно беседовать, подогревали чай, закусывали бутербродами с красной рыбой – примирение полное.
И долго еще они могли бы беседовать, но Щербатов чувствовал себя всё хуже. Принял четвертинку, вызвал такси и неожиданно сказал:
– Наташа, разрешите мне взять для ознакомления Евангелие или Новый Завет – не знаю, как правильнее… И вот эту Матрёну.
– Нет, Петр Константинович, Евангелие я вам не дам – у нас с мамой одно на двоих. А Матронушку – пожалуй, возьмите с возвратом…
И вновь Наташа проводила его до такси и даже сказала по-своему напутье:
– Берегите себя, Петр Константинович.
8
За последующие две недели Щербатов стал замечать странное явление. Он как будто раздваивался, или уже раздвоился. Оставаясь наедине с собой, он обычно бывал сосредоточен и хмур, перебирал или перекладывал с места на место свои служебные бумаги, доклады, отчеты, хранимые выступления; просматривал книги, как если бы готовился к предстоящему рабочему дню. И в то же время он сознавал, что ничего ему уже не понадобится, но собрать всё это и спустить в мусоропровод было бы неловко – почти на каждой бумажке значилось его имя. И он смирялся: пусть что хотят, то и делают – и начинал нервничать внутренне. Иногда даже закуривал сигарету. И хотя из головы не выходило приближение предопределённого, он звонил сослуживцам, знакомым, спокойно обсуждал второстепенные вопросы, давал советы, которые, впрочем, он догадывался, никому не нужны. И ему звонили – советовались, просили подсказать, и он давал советы и делал подсказки. И никому он не жаловался на свою судьбу, не говорил о своей роковой болезни и состоянии.
В одиночестве Щербатов чувствовал себя не то чтобы крепким и здоровым, но всегда мужественным, человеком с достоинством.
Но стоило появиться рядом кому угодно – будь то жена или сослуживец, как Щербатов тотчас менялся и внешне, и внутренне. И сам он сознавал это и даже чувствовал: подошвы вдруг мякли, колени слабели, и на ходу он пошаркивал ногами; руки обвисали, голова клонилась, его пошатывало, и лицо становилось требующим сострадания. И особенно менялся голос, от чиновничьего тона ничего не оставалось. Говорить он начинал как будто заискивающе, с печалованьем.
Валентина Львовна в таких случаях обычно говорила:
– Да ты что, Пётр Константинович, при смерти, что ли? На тебе и пижама висит как на вешалке!
– А каким я должен быть? – нередко спрашивал Щербатов и, пошаркивая домашними туфлями, проходил к своему стулу.
– Скажи, что у тебя болит, чем помочь тебе, а то ведь у тебя вид – только неотложку вызывать.
– Вызовешь, успеешь, а пока обойдусь…
– Возьми ты себя в руки, ведь ты же волевой человек.
– Волевой, – отвечал он и погружался в тарелку. Ел мало и медленно – некуда спешить.
Зато Валентина Львовна всегда спешила. О таких говорят: энергичная женщина… Всего лишь на три года моложе мужа, но крепость, осанка, уверенность в себе, внешняя холодная обаятельность с властолюбием делали её в любом положении, в любых обстоятельствах неодолимой. Ещё в тридцать лет Щербатов в шутку не раз говорил: «Тебе, Валентина, надо бы министром внутренних дел быть, а не преподавать в институте». При этом оба смеялись. Валентина Львовна не злоупотребляла властностью в отношениях с мужем, потому что и он был не менее властным.
И вот теперь всё расстроилось буквально за полгода, пошатнулось – вместе они уже не смеялись. Она требовала доклада, отчета, давила на него, а он прогибался, понимая, что спорить с женой в его положении бесполезно. Он и утаивал подробности своей болезни лишь потому, чтобы его не допрашивали, чтобы мог он сосредоточиться хотя бы внутри себя. А в присутствии посторонних или жены Щербатову, как ни странно, хотелось, чтобы ему посочувствовали, пожалели его – не прямо так, а в душе, в голосе – обласкали, сказали тёплое слово, чтобы он по-бабьи просто мог бы пожалиться. А этого не получалось – его знали волевым и повелительным…
И только в полуподвале, у Наташи с Анной Ивановной, на некоторое время он становился самим собой. Хотя и здесь ему хотелось ласки, доброго слова, хотелось стать беспомощным – покачиваться и пошаркивать ногами, но здесь он одолевал свои желания.
В очередное посещение полуподвала нервы его вдруг сдали: сначала он почувствовал, что и здесь ему хочется умалиться, расслабиться и доверчиво прильнуть щекой к руке Наташи. И она почувствовала его боль, поняла: обняла его поникшую голову и привлекла к себе.
– Не надо, Петр Константинович, не надо бояться – смерти нет… У вас и имя-то какое – Петр, Камень.
– Чего нет… какой камень? – хрипя в горле, повторил он с досадой. Но и это его как будто взбодрило.
– Христос так назвал своего ученика – Пётр, в переводе камень, на котором тоже церковь держится.
«Что-то не то сказала», – подумала Наташа.
Щербатова отрезвило негодование: он легонько оттолкнул Наташу со словами:
– Только этого не надо… я хочу живое, я хочу жизни ещё, ну, три-четыре года…
– Боже мой, зачем? Это же всё равно дым, туман… Как один день и вся-то жизнь на земле.
– Не говорите ерунды, Наташа, вы же умный человек! Не надо верить в пустоту, в надуманную вечность! Условно вечен лишь безумный мир летающих планет. И откуда только вы всё берёте – из еврейских басен, из фольклора!.. И эта Матрёна лишь слепая гадалка на кофейной гуще. Ничему не верю! Какая ведь нелепость: приложился ко гробу с останками – и жив-здоров, как новый пятиалтынный!
– Вы, Петр Константинович, успокойтесь – это ведь, как говорят коммунисты, буря в стакане воды… Заварим свеженького чайку и почитаем Евангелие от Матфея, оно более толковое, легче для восприятия…
– Я ведь не из дураков – пойму наверно.
– Не в этом дело…
Уже через несколько минут Наташа принесла Евангелие и начала чтение.
«Щербатов, до чего ты дошел», – с горечью подумал он и, встряхнувшись, укрепил себя и уже клял за проявленную слабость… Через каждые два-три стиха он останавливал чтение, и Наташа объясняла и отдельные слова, и смысл подтекста. Так и двигались: она читала, а он пил чаёк со сладостями. Когда же зашли за пятую главу, Щербатов, разведя на стороны руки, сказал с долей торжества:
– Хватит, голова кругом… А в общем, правильно, как и у коммунистов. Многое так и у нас, лишь вместо Бога Человек!
Наташа и глаза округлила в недоумении.
– Нет, Пётр Константинович, это провокационные подтасовки, обман доверчивых. На практике вы руководствуетесь основами научного атеизма – самое пакостное враньё, возведенное в науку, слава богу, теперь не вспоминают… Вы извините меня за такую резкость, но иных слов не подобрать. – Она помолчала, но и он молчал. – Если взять ветхозаветные заповеди или вот эти три главы, пятую – седьмую, из Нового Завета, а рядом положить коммунистические слова и дела, то всё окажется наоборот…
– Ну а если с примерами? – в очевидном раздражении предложил он.
Казалось, что Щербатов внимательно слушал, но плохо понимал, потому что думал о собственной жизни и смерти. И это настолько возмущало его воображение, что ни о чем другом думать он уже не мог, не мог и воспринимать собеседника. А между тем Наташа не отмалчивалась, она продолжала доказывать, убеждать, спасая человека вовсе не из любви и сострадания, но лишь потому, что поступить иначе не могла.
– Например, не убий. А вы весь век только то и делали, что убивали… Заповедано: не прелюбодействуй, а вы весь век развратничали и народ развращали. Вам по идее надо было семью разрушить, как пережиток. Вы и разрушали… Заповедано: не укради, а вы даже не понимаете, что значит «не укради», потому что жулик на жулике ехал и жуликом погонял; сказано: не сотвори кумира, а ваш кумир до сих пор с Красной площади голосит: «…опиум для народа!»…
Щербатов откровенно засмеялся:
– Но ведь это только площадная брань вдогонку… Это же не доказательства, а брань… То, что партия противостояла царскому и поповскому режиму – согласен, иная идеология, была кровь – иначе не получится. Революцию в белых перчатках не сделаешь. Но каковы идеалы, какова заложена идея – равенство, братство! В конце концов, если к власти пришли жулики, убийцы и развратники, почему вы не перебили такую власть, не установили новый порядок?
И замолчал Щербатов, полагая, что нанёс сокрушительный удар, после которого и сказать нечего. И верно, Наташа молчала. Подогрела чайник, достала с невидимой полки нераспечатанный батон с отрубями, наслоила ножом на блюдечко красной рыбы, села и только тогда спокойно сказала:
– Конечно же – верно: всё это уже вслед. А по части того, чтобы свергнуть неугодную власть, перебив насильников и жуликов, а кто на смену придёт? Обычно – худшие… А православный народ даже в искалеченном состоянии без ярой пропаганды этого не сделает: учение Божие ведь в душе остаётся. Сказано, любая власть от Бога, стало быть, не противься, терпи, осознавай, за какие твои грехи послана на тебя разбойная власть. Поймёшь, исправишь – и неугодная власть отпадёт. А когда миллионы лучших положены на жертвенник коммунизма, то оставшиеся уже и не думают о свержении власти, но впадают в уныние, в пьянство, в разврат – продолжают внедрять коммунистические идеалы. Ведь не случайно революция в лице Троцкого истребляла мирное населении – для будущего. Будущее и пришло… Да и не нужна человеку жизнь без Бога, вот и проматывают такую жизнь русаки, прогуливают…
– Наташа, а вы страшный человек – пропагандист, Жанна д̓Арк. И кто только вас этой науке обучал?
– Жизнь и обучила, вера… Давайте чай пить, иначе вновь придётся кипятить…
9
Они не замечали и не заметили, как день за днём привыкали и, в конце концов, привыкли друг к другу. Хотели они того или не хотели, но уже тянулись, ждали встречи, хотя и не признавались в этом даже себе. А время шло. Гарантийный год укорачивался с каждым днём. И состояние Щербатова погружалось в хмурость. Сначала обезболивающие принимал по четвертинке, затем по половинке, а уже к Новому году – по половинке два раза в день. Лицо его заметно осунулось, по телу завязывались непонятные узелки из кожи, всё чаще ловил он себя на том, что – от природы статный – теперь ему легче становилось, когда он сутулился.
При встречах в полуподвале Щербатов чаще стал жаловаться на общее состояние, на головные боли, на жену, на погоду и на жизнь вообще. А погода держалась действительно скверная: температура поднималась до трех-четырёх градусов, нередко шли зимние дожди, смывая снег; вслед за мухами исчезли в городе воробьи – говорили, виной тому повышенная радиация; дули штормовые ветры… Но жизнь была, как никогда, достойная – без страха молились прихожане во всех открытых храмах, и приход заметно менялся – больше стало мужчин и молодёжи… На Украине безумствовал майдан, в Сирии растекались кровью последствия от разрушения Америкой государства Ирак. Гонимые сторонники Саддама Хусейна преобразовывались в армию Игил. Ведь бесследно ничего не проходит: зло порождает наибольшее зло, как и добро …
И Щербатов, и Наташа, по фамилии, кстати, Осипова, осознанно не раз каждый сам по себе впадали в искушения.
Уже не раз в постели, перед тем как уснуть, рассуждала Наташа в дремоте: «А что, могла бы я полюбить такого «старика»? Если бы одной веры, одних убеждений, а почему бы и нет. Мужчина в пятьдесят лет – муж! Если бы добр и неизменен, и я всей душой прильнула, и было бы уже не двое, но один…» Мысли начинали путаться, тело ещё напрягалось, и она вздрагивала, прежде чем погрузиться в сон.
И Щербатов бессонной ночью, слоняясь по кабинету, вспоминал её, такую молодую и случайную: «Моя Валентина в сравнении – фюрер. Характер отца – был он секретарём Обкома партии, несгибаемый и, казалось, вечный, но, воспитывая райкомовских секретарей на конференции, в одночасье и скончался, не дожив до пятидесяти пяти… А у этой отца убили… эта добрая, невозмутимая, теплотой обнимает тотчас. Молода, а я в своём состоянии ни на что не пригоден… А может быть и потому Валентина Львовна – канцлер?! А молодую вера смутила… удила… му… – и засыпал на ходу. Вздрагивал, открывал глаза и в какой-то момент дивился, что находится в своём кабинете обкомовского дома, а не в полуподвале у Анны с Наташей. И вновь блуждали подобные мысли, и Щербатов привыкал к ним, считая своими, неотвратимыми. – А что, я, наверно, любил бы её. – И тотчас навязчиво: – А смог бы жить с ней в полуподвале?.. Всё забываю, надо же позвонить, чтобы переселили… Но ведь она на двадцать лет моложе, на два года старше дочери моей…»
Когда Щербатов думал так, он забывал о себе, о том, что год с каждым днём короче… И всё-таки однажды не выдержал – прорвалось: он засуетился, заспешил, а куда – сразу не мог понять. Обхватил голову ладонями и закричал от страха внутри себя: «Всё! Конец! Какое безумие: родиться, понять – и умереть!»
Щербатов поспешно начал переодеваться, по рассеянности надел домашние брюки с потёртыми у стоп штанинами, на домашнюю рубаху надел костюмный пиджак, подхватил портфель, в прихожей оделся без шарфа, защелкнул входную дверь и ринулся к лифту – а шел уже последний час к полуночи.
И ведь всё складывалось путём: по первому взмаху руки такси остановилось… И лишь перед дверью в полуподвале он очнулся: «Это куда же я в полночь? Они же спят…» Чтобы уйти, развернулся небрежно – стукнул портфелем в дверь и замер. А дверь щелкнула замком и открылась. На пороге стояла Наташа – впервые Щербатов увидел её в халате, но не понял этого.
– Я так и подумала, – с придыханием сказала она. – Что случилось, Пётр Константинович, что с вами? Проходите же – дует…
И он прошёл, до сих пор не проронив ни слова. Наташа включила верхний свет – Щербатов вскинул руку, взывая:
– Не надо, не надо света!
– Да успокойтесь, что с вами? – Она сняла с него шапку. – Что же вы шарф не надели, можно простудиться. – И начала расстёгивать пуговицы на пальто. Щербатов воспротивился, сел на стул и со стоном уронил голову в руки на столе:
– Не могу я, не могу! Что делать?!
Наташа понимала, в чем дело, но ответа не находила, невольно продолжая вопрошать:
– Что с вами, скажите ради Бога?!
– Спаси меня, Наташа, спаси меня… я на всё соглашусь – помоги, продли дни мои… Что делать? О-о-о… – И он испустил стон.
Наташа побледнела, поджала губы, но уже в следующий момент её как будто прорвало – и она вскрикнула:
– Да веровать! Господу верить – ехать к Матронушке! – Она вряд ли сознавала в тот момент, что выкрикивает. Щербатов, похоже, очнулся: воздел голову и медленно повёл взгляд в сторону Наташи.
– И что для того?
– Креститься! Исповедаться! Молиться и молить на мощах Матронушки, чтобы она помолилась Господу Богу о вас! – возбуждённо чеканя, возвестила Наташа.
– Ты что говоришь – подумай? – тихо изумился Щербатов.
– Иного нет…
В это время пришла Анна Ивановна со своего дежурства.
10
Воскресный день. Наташа побывала на ранней Литургии, причастилась, теперь же отдыхала на кровати. Хотелось помолчать и ни о чём не думать. Но в голове так и бродила память о Петре Константиновиче – очень уж круто закручивались отношения: уже договорились, что она возьмёт отпуск за свой счёт и они вместе отправятся в Москву, чтобы там, где его мало кто знает, принять крещение, приготовиться и побывать в Покровском монастыре, у Матронушки. И если понадобится, еще на неделю задержаться в столице. Все расходы Щербатов возлагал на себя. Теперь уже видно было, что он тяжело болен. Наташа понимала, человек он сложный, живёт в настоящее время под давлением болезни, но ведь в любой день или час может сорваться, впасть в отчаянье, отказаться от каких бы то ни было поездок. Ведь предстояло перекраивать всю жизнь, а в пятьдесят лет это не просто. Она посоветовалась со священником – батюшка сказал, что теперь уже отступать нельзя, быть готовой к любой развязке или неожиданности, и всегда уповать на Господа… Наташа вздремнула, когда позвонил Щербатов, сообщив, что он будет после трёх: тогда они и определят точное время задуманного… И только начала успокаиваться после разговора, в дверь постучали – в комнату вошла Валентина Львовна, одетая с претензией на демонстрацию. Наташа не знала её и никогда не видела. Но гостья с порога объявила:
– Не пугайтесь: Петр Константинович Щербатов – мой муж.
– И что вы хотели бы? – поправляя волосы, спросила Наташа.
Валентина Львовна нервно усмехнулась:
– Мы вроде бы как соперницы, и я хотела бы познакомиться и поговорить за одним столом.
– Садитесь, – Наташа указала на стул, – отдельной комнаты у нас нет.
– Где уж там… У вас душно, я сниму дошку…
Наташа между тем, внешне спокойная, приготовила заварной чайник, включила вскипятить воду – на всякий случай.
И они сели к столу, наверно, разглядывая друг друга.
– Ну и что? – спросила Наташа, мысленно твердя Иисусову молитву.
– Да вот, смотрю на тебя – изучаю, чем муж соблазнился, к кому это он всё бегает.
– Давайте только без фамильярностей, иначе наш разговор не состоится… Зовут меня Натальей Сергеевной, и обращайтесь на «вы».
Валентина Львовна хмыкнула:
– И давно вы соизволили с моим мужем свиданьиться?
– Ровно с того дня, когда он узнал, каким путём – не знаю, что болезнь его неизлечима.
– Это кто же сказал? Вы что, знахарка? Ерунда какая!
– Тогда почему он оставил службу?
– Устал, взял отпуск…
– Вы жена – или не желает вас расстраивать, или вы не хотите знать. Так, наверно?
– Я догадывалась… И вам не следует со мной так разговаривать, хотя бы потому, что я по возрасту в матери гожусь… Что-то вы замышляете с ним?
– Я ничего не замышляю. И он, по-моему, ничего… Пётр Константинович попросту ищет моральной поддержки…
– И находит? – поспешно опередила Валентина Львовна.
– Об этом вы у него спросите… Но когда у человека из-под ног жизнь уходит, он пытается найти хотя бы надежду…
– Но находит Наташу… – Валентина Львовна глянула на иконы: – Неужели вы опутываете его религией? Это же Средневековье…
– Опутывают сплетнями и ложью, сектантством опутывают, а православием просвещают.
– Впрочем, мы не о том говорим. – Валентина Львовна посуровела: – Давайте напрямую, чтобы хоть понять, как далее жить… Вы живёте с ним?
– Живёте вы с ним. Сожительствую ли я? Нет, и этого никогда не будет.
– Но ведь он к вам ночью бегает.
– Был однажды… но не за этим. Он страдает от болезни…
– И вы утешаете?
– Иногда пытаюсь.
– Может, на медэкспертизу направить?
– Пожалуйста. Но после этого в суд…
– Тогда будем пить чай?
Наташа поднялась к чайнику, и только теперь Валентина Львовна заметила, что эта «девка», так в сердце своём она называла её, припадает на ногу.
– Да вы и хроменькая! – то ли удивилась, то ли обрадовалась она.
– Машиной на переходе… теперь вот так.
– И всё-таки не понимаю, зачем он к вам ходит, тем более, здесь и ваша мама.
– Я затрудняюсь на этот вопрос ответить. Я всё сказала. Впрочем, об этом его надо спрашивать.
И они замолчали – налили в чашки чай.
«Плеснуть ей кипятком в бесстыжую морду?! Не вычисляй глупости, не интегрируй – никакой в этом трагедии нет, только поздновато», – размышляла с раздражением Щербатова.
«Вот и ещё несчастная женщина… Только я-то при чем?.. Мама придёт – что сказать? – в то же время думала Наташа. – Какие мы все заблудшие, грешные и ослеплённые, Господи, ну как быть, что говорить, что делать? Не выгонять же…»
Позвонила Анна Ивановна. Слышно было из трубки, как она говорит: «Пригласила Прасковья Алексеевна, так что я задержусь. Коли что, обедай сама, не жди».
– Хорошо, мама, пообедаю, – ответила Наташа, и кто бы подумал: легче на душе стало – не будет же «гостья» сидеть весь день.
Конечно же Валентина Львовна не намеревалась засиживаться, но она никак не могла придумать, как бы этой «девке» защемить хвост, чтобы она его не распускала.
– А какая ваша фамилия? – спросила она.
Наташа, прикрыв глаза, усмехнулась:
– Что же это вы меня всё допрашиваете? Я ведь тоже могу начать допрашивать. Но если угодно: мы Осиповы.
«А фамилия-то, фамилия вроде бы знакомая… на слуху». – И она быстро начала вспоминать имена и лица. Память у неё хорошая, и, наверно, вспомнила бы она убийцу Осипова, но мысли были прерваны. Постучав в дверь, вошел Щербатов.
И диво дивное: он не то чтобы не удивился, он как будто и не заметил свою жену, или воспринял её, как в своей квартире.
– А вот и я, здравствуйте, приятного аппетита! О, чаёк, чаёк – и мне тоже чайку, что-то я озяб.
На него смотрели, его выслушивали с недоумением, а он опустил на пол портфель, снял с себя и повесил пальто и шапку, сел было к столу, но спохватился: достал из портфеля пачку чая и конфеты в бумажном пакете, положил на стол и лишь после этого сел со словами:
– Наташа, и мне чайку…
– А меня ты узнаёшь, Петр Константинович? – напомнила о себе жена.
– Ты так сияешь, что за блеском лица твоего не узнать, но по голосу узнаю – это ты, мой милый друг.
– Это хорошо, что хотя бы по голосу…
Он вздернул плечи и головой повертел на стороны.
– Вы с ней что затеваете? – повелительно спросила Валентина Львовна, и нижняя челюсть её заметно вздрагивала.
– Затеваем? Затеваем то, чего мы с тобой не затеваем, – и даже руки на стороны развёл.
– Ты что, действительно безнадёжно болен? – Валентина Львовна даже голову потянула к его лицу, пытаясь, видимо, в глазах прочесть правду.
– Болен, болен, – Щербатов хихикнул, – но надежда есть…
– Ты что, паясничаешь или это у тебя от болезни?
– Трудно сказать, я ведь не медик.
– Может быть, нам пора подать заявление на расторжение брака?
Щербатов помолчал, задумчиво подёргал себя за мочку уха, говоря:
– Успеем… а может быть, не успеем… действительно, не успеем. Так что не будем подавать, погодим…
– Великолепный жаргон: погодим!
– Это простонародное… А ты знаешь, Валентина Львовна… – Щербатов не договорил, сморщился, и его лицо до неузнаваемости перекосилось.
– Ты что? – в недоумении спросила жена. – Ты что кривляешься?
А Наташа быстро поднялась со стула, налила в чашку холодной воды, достала из кармана пиджака Щербатова лекарства в коробке, выщелкнула в ладонь таблетку.
– Примите, примите, Петр Константинович…
Щербатов беспомощно взял таблетку и отвалился на спинку стула. Наташа поднесла чашку с водой на запивку.
– И часто так? – как будто не веря своим глазам, ни к кому не обращаясь, спросила Валентина Львовна.
– Да что вы меня всё спрашиваете, я ведь ни жена ему, ни любовница! – коротко возмутилась Наташа. – Значит, бережёт вас от волнений…
Спустя несколько минут, бледный, Щербатов вызвал такси. Сел на стул и тихо сказал:
– Домой…
* * *
Дома, уже в прихожей, Валентина Львовна так и взорвалась:
– И как не стыдно ходить в этот подвал с иконами!.. Любовь на фоне ног прохожих… Хотя бы переселил в однокомнатную. Что стоит – или ума не хватает?!
Щербатов промолчал.
11
Спустя два дня Щербатов и Наташа исчезли из города. Их никто не разыскивал.
Москва поглотила бесшумно и бесследно. Уже в короткое время их нельзя было ни найти, ни узнать среди двенадцати миллионов – затерялись.
У Наташи имелся номер телефона, по которому от церковных людей можно было узнать, у кого снять изолированное жильё хоть на день, хоть на месяц. Позвонила, договорилась и уже через полчаса подъехали на такси и вселились в двухкомнатную квартиру на неделю с возможным продлением срока по сносной цене – тысячу рублей за сутки с человека.
В квартире с изолированными комнатами было всё необходимое для проживания – и даже чистое постельное бельё. Необходимо было лишь загрузить холодильник продовольствием, что и сделано было в следующий час. Перекусили, заварили чай, договорились, чем заниматься каждому уже с ближайшего вечера.
Щербатову предстояло оставаться в квартире: читать Евангелие и заучивать самые необходимые молитвы – «Верую…», «Отче наш…», «Царю Небесный…», две Богородичных молитвы, словом, те азы, без которых к церкви и подступать неловко.
А Наташа до начала вечерней службы поехала в храм, где не раз бывала и причащалась, к пожилому настоятелю, чтобы посоветоваться, где удобнее крестить человека в возрасте пятидесяти лет.
Настоятель внимательно выслушал и предложил крестить у себя в храме, но прежде обязательно побеседовав с этим человеком, чтобы понять, кого предстоит крестить, исповедовать и причащать. Наметили встречу на семнадцать часов следующего дня.
Благословив Наташу, батюшка сказал:
– За тяжелое дело ты взялась, но даст Бог – обойдёмся без вмешательства лукавого. Не оставляй Иисусову молитву…
И пошел батюшка начинать вечернюю службу. Наташа помолилась в храме до елеопомазания – и поспешила на квартиру, чтобы решить о завтрашнем дне.
* * *
Уже не первый раз, оставаясь наедине с Евангелием и Молитвословом, Щербатова охватывала растерянность. Он не мог признать достоверными эти книги – тексты и молитвы. Однако в голове постоянно отстукивало: жить, жить, во что бы то ни стало жить; любым способом избавиться от болезни и продлить жизнь, хотя бы на несколько лет – и эта идея властвовала над ним. И как только он переставал помнить об этом, его тотчас охватывал могильный страх, он, казалось, всем телом своим, всем естеством своим ощущал и переживал, как его источает подземелье. И невольно стонал, стараясь поскорее возвратиться к постановлению: жить, во что бы ни стало жить.
Щербатов открывал Евангелие, но текст для него был настолько коряв, а порой и недоступен, что с трудом прочитывая главу, он как будто пьянел, невольно повторяя для поддержания: во что бы то ни стало… И всё-таки сознавал, что ему необходимо постичь, что от него потребуют не только сказать, но в связи с этим и сделать. Опыт работы с людьми у Щербатова был солидный, теперь же ему предстояло оставить в душе одно – жить. Всё остальное – вторично, и он мысленно переводил вторичное в голову и на язык.
Но это лишь предполагаемая теория, а настоящая практика – Евангелие и Молитвослов. Необходимые на первый случай молитвы он до поездки в Москву выучил. Теперь же пытался осмыслить их для практического применения… В Евангелии же он выбрал и перечитывал чудеса Иисуса Христа и с пятой по восьмую главы от Матфея.
На вопросы возможные: «Почему решил креститься?» или «Веруешь ли в личное бессмертие?» – он как будто и отвечал, и ловко уходил от ответа…
И когда, приехав, Наташа сказала, что для крещения церковь определена – и завтра надо ехать на предварительную беседу со священником, Щербатов спокойно ответил:
– Вот и хорошо – и поедем. А сейчас, Наташа, организуй нам ужин, и чайку заварим, это будет даже очень неплохо после дороги и беготни-обустройства. – Он сидел в чужой комнате, за чужим письменным столом, но настолько самоуверенный, с таким достоинством – узкоплечий, но рослый и подтянутый – что трудно было бы угадать в нём больного человека, если бы не выдавало лицо: измученное болезнью, неопределённостью и ожиданием развязки.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе