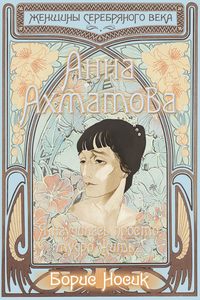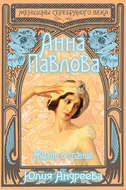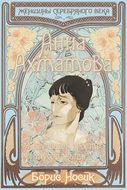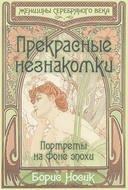Читать книгу: «Анна Ахматова. Я научилась просто, мудро жить…», страница 2
Я умею любить.
Умею покорной и нежною быть.
Она была искренней. Только что она знала о себе в семнадцать? Переписка ее с Гумилевым возобновилась…
В 1907-м она уехала в Киев и там закончила последний класс Фундуклеевской гимназии. Потом поступила там же на юридический факультет Высших женских курсов: «Пока приходилось изучать историю права и особенно латынь, – вспоминает она, – я была довольна; когда же пошли чисто юридические предметы, я к курсам охладела». Да и чем могут привлечь тайны судебного крючкотворства, когда тебе семнадцать, когда жизнь томительно-прекрасна, мучительна и полна собственных тайн, из тех, что напрасно так снисходительно называют «девичьими»?
Остались воспоминания киевской приятельницы В.А.Беер о том, как она случайно увидела Аню той самой весной 1907-го года в храме Святой Софии:
«Налево, в темном приделе, вырисовывается знакомый своеобразный профиль. Это Аня Горенко. Она стоит неподвижно, тонкая, стройная, напряженная. Взгляд сосредоточенно устремлен вперед. Она ничего не видит, не слышит. Кажется, что она и не дышит… Я выхожу из церкви. Горенко остается и сливается со старинным храмом… Мне казалось, что я невольно подсмотрела чужую тайну, о которой говорить не стоит».
О чем «говорить не стоит»? О чем молилась тоненькая глазастая Аннушка? О чем просила Господа? Или, может, она замаливала грех – такое с ней и позже случалось, но какой грех сейчас, в восемнадцать?.. Известно, впрочем, что она была именно в ту пору влюблена в одного человека (в письмах она называет его то В., то В.Г. – Кутузов), а он то ли уже был женат, то ли как раз намеревался жениться, но на другой. Чем лечатся от такого горя, известно: я вот тоже возьму и выйду замуж за другого, Ему назло, и счастливой буду – Ему назло. На всем протяжении несчастной своей любви Аннушка переписывалась с мужем сестры С.В. Штейном, который был знаком и часто виделся с «тем человеком»: таким образом ей удавалось хоть что-нибудь узнать о Нем, да и свои чувства излить тому, кто Его знает – может, что-нибудь даже Ему передадут. В феврале 1907-го года Аннушка написала С.Штейну: «Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже три года, и я верю, что моя судьба – быть его женой. Люблю ли я его, я не знаю, но кажется мне, что люблю…». И дальше – чужие, похоже, что брюсовские, безжалостные и, увы, пророческие стихи:
…всем судило Неизбежное,
Как высший долг – быть палачом.
Бедный Гумилев! Еще неизвестно, любим ли он, но в жертвы он уже намечен. И похоже, самое важное в предстоящем замужестве – что скажет «тот человек», когда узнает. Ибо думает-то она по-прежнему о «том человеке». Вот еще отрывок из ее тогдашнего письма к С. Штейну, все о том же: «Я отравлена на всю жизнь, горек яд неразделенной любви! Смогу ли я снова начать жить? Конечно, нет! Но Гумилев – моя Судьба, и я покорно отдаюсь ей. Не осуждайте меня, если можете. Я клянусь Вам всем для меня святым, что этот несчастный человек будет счастлив со мной». Как точно отметил впоследствии по поводу этого письма петербургский литературовед, такие клятвы легче произносятся, чем исполняются. Впрочем, о том, что она за него «выходит», пока, может быть, не знает еще и сам Гумилев…
В том же письме она благодарит Штейна за присланную им по ее настоятельной просьбе фотографию «того человека» – Владимира Викторовича Голенищева-Кутузова, рассказывает, как она глядит без конца на эту долгожданную фотографию. Но и приезда Гумилева она ждет с нетерпением: «Мой Коля собирается, кажется, приехать ко мне – я так безумно счастлива. Он пишет мне непонятные слова, и я хожу с письмом к знакомым и спрашиваю объяснение… Он так любит меня, что даже страшно. Как Вы думаете, что скажет папа, когда узнает о моем решении? Если он будет против моего брака, я убегу и тайно обвенчаюсь с Nicolas. Уважать отца я не могу, никогда его не любила, с какой же стати буду его слушаться…».
Однако Гумилев приезжает в 1908-м, сватается к ней и снова получает отказ. Ах, сердце девичье… Ей ведь всего 19 лет. И на расстоянии Николай ей, вероятно, милей, чем вблизи; так, кстати, бывало и позже.
А Гумилев на распутье. Гимназию он с грехом пополам окончил, но чем заняться дальше – вернее, чем, кроме стихов, он не знает. В конце концов он решает уехать за границу, в Париж (существовал в ту пору такой выход из всех ситуаций) – слушать лекции в Сорбонне. Часто ли он бывал на лекциях в Сорбонне, сказать не берусь – и Г. Струве, и С.Маковский отмечают, что французский он так толком и не выучил, по-русски писал с ошибками, прочих же языков он не знал вовсе, но в Париже и помимо Сорбонны было куда пойти. Русская речь звучала тогда в самых модных кафе, русские художники уже наводняли «Ротонду», и вообще русских было великое множество: жила в Париже и пореволюционная, еще после первой революции, вполне благополучная, не бедствующая эмиграция, были здесь Бальмонт и Волошин, журчала русская речь и в салоне Кругликовой. Гумилев был неистовым поклонником французской поэзии, «парнасцев», и в первую очередь – Теофиля Готье. Он вдруг начинает издавать в Париже на свои деньги журнал «Сириус», в котором под разнообразными псевдонимами печатает собственные стихи и даже стихи Анны Андреевны Горенко. Узнав об этом, Анна пишет С. Штейну: «Зачем Гумилев взялся за «Сириус»? Это меня удивляет и приводит в необычайно веселое настроение. Сколько несчастиев наш Микола перенес, и все понапрасну! Вы заметили, что сотрудники почти все так же известны и почтенны, как я? Я думаю, что нашло на Гумилева затмение от Господа. Бывает!». Очень юное и кокетливое письмо. Отчего ж не посмеяться беззлобно над влюбленным вздыхателем, на которого нашло затмение? А все же это приводит ее в «необычайно веселое настроение», да и первая публикация – где-то еще там, в Париже вдобавок – не может пишущую барышню вовсе уж не затронуть. Она без конца иронизирует по поводу своих тогдашних стихов, но однажды доверительно пишет Штейну, что ведь мы-то с вами, Сережа, – настоящие поэты… И это, конечно, искреннее ее убеждение… А отверженный конквистадор Гумилев тем временем, отложив денег из того, что ему высылал отец, тайком отправляется в первое свое африканское путешествие. Это пока известно не всем, но он-то про себя знает, что он путешественник, он покоритель Леванта, воин, бесстрашный романтик, ницшеанец, искатель разнообразных приключений, в том числе и любовных. Пока это маска, и, вероятно, за всем этим, пусть даже и не всегда осознанно, стоит главная любовная неудача его жизни, но маска – а маски, как и недосягаемый пьедестал Поэта-сверхчеловека, были в то время в большой моде – все прочней прирастает к лицу, становится то ли второй, то ли уже первой его натурой. В 1908-м году, еще находясь в Париже, он печатает свою вторую книгу стихов – «Романтические цветы». В этой книге, как и в первой, очень подражательной, наряду с конквистадорами, рыцарями и Люциферами были уже настоящие африканские львы, и даже был по-брюсовски изысканный жираф, принесший ему известность.
Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
Жирафов, как и все свои новые экзотические находки (не Бог весть как новы они, было это все уже и у Брюсова, и у Бальмонта), он складывает, как видите, у ее ног. У ее коленей, обхваченных ее удивительными тонкими руками…
Критика трезво писала по поводу новой книги, что стихи у него пока еще ученические (все тот же Брюсов), но что учится Гумилев упорно, что толк будет. Он был из тех, кто проходил в поэзии долгий курс ученичества, который, как считают иные из критиков, ему так и не суждено было завершить.
В Петербург он возвращается, что ни говори, достаточно известным молодым поэтом. Выпускает на родине еще одну, третью книгу стихов, – «Жемчуга», снова очень подражательную и очень благозвучную, мастеровитую. В ней уже были знаменитые «Капитаны», из которых потом полвека черпали вдохновение советские поэты-романтики.
По возвращении в Россию Гумилев снова общается с Анненским, знакомится с редактором «Аполлона» Маковским и вскоре становится, по выражению Г.Струве, «присяжным критиком» этого престижного журнала, критиком на удивление серьезным. Вячеслав Иванов, по сообщению Маковского, упрекал его за то, что он доверил молодому Гумилеву критический отдел журнала: «Ведь он глуп, да и плохо образован, даже университета окончить не мог, языков не знает, плохо начитан…» – так, если верить Маковскому, говорил Вяч. Иванов.
Помню, я искал как-то в шестидесятые годы экземпляр «Жемчугов» в Ленинской библиотеке, чтоб вставить «Капитанов» в свою детскую книжку: нашелся один-единственный, зачитанный до дыр, в Отделе редких книг.

Николай Гумилев, 1910-е гг.
Будем вместе, милый, вместе,
Знаю все, что мы родные,
А лукавые насмешки,
Как бубенчик отдаленный,
И обидеть нас не могут,
И не могут огорчить.
Где венчались мы – не помним,
Но сверкала эта церковь
Тем неистовым сияньем,
Что лишь ангелы умеют
В белых крыльях приносить.
(Анна Ахматова, 1915 г.)
У Гумилева в это время, как пишут мемуаристы, – «богатая жизнь сердца»: проще говоря, множество любовных увлечений. Он делает предложение то одной барышне, то другой, однако Аннушка Горенко – это для него нечто недосягаемое, особое, очень серьезное; к тому же победа над ней – это трудная и достойная цель для победителя-конквистадора. Вероятно, и он, все такой же верный ее поклонник, известный столичный поэт, критик модного журнала, для нее теперь уже не только предмет насмешек. Ее «серый лебеденок» становится «лебедем надменным», и в этой ипостаси он, кажется, внушает ей больший интерес, чем раньше.
Весной 1910-го умирает отец Гумилева. Может, это и подтолкнуло «вечного мальчика» Николая Гумилева искать спасенья от горя и одиночества у главной своей любови – у Аннушки. Легко понять, что он обратился за утешеньем не по адресу, но он был молод, он был влюблен, да и многие ли из нас, благородный читатель, могут сказать, что сделали в жизни более мудрый выбор? Просто одним это сошло с рук, а другим пришлось дорого платить за свои ошибки…
Гумилев снова просит Аниной руки и на сей раз получает согласие. Что изменилось для нее за эти годы? Он стал для нее достаточно интересным? Ей надоело затянувшееся аж за второй десяток лет девичество? Она сумела полюбить его или хотя бы сумела убедить себя, что любит? Или просто, не зная толком ни себя, ни его, решила, что стерпится – слюбится? Что и без великой любви она сможет быть ему хорошей женой? Кто даст нам ответ на все эти такие столь интимные, однако весьма для нашей истории небезразличные вопросы? Отношения их никогда не были простыми. Есть мемуаристы, вроде С. Маковского, которые, ничтоже сумняшеся, пишут о ее влюбленности в него, а также о его небрежности и непостоянстве, ставших якобы причиной семейной драмы. Думается, романтический женолюб – герой и жертва волошинского розыгрыша с участием «Черубины де Габриак», пережившей до того, кстати, роман с Гумилевым – и небрежный мемуарист Маковский не слишком глубоко вникал в интимную подоплеку драмы. У всех, кто не только виделся время от времени, но и дружил с Анной, создалось совсем иное впечатление. Вот снова отрывок из воспоминаний подруги ее детства В. Срезневской:
«Я помню, раз мы шли по набережной Невы с Колей и мирно беседовали о чувствах женщин и мужчин, и он сказал: «Я знаю только одно, что настоящий мужчина – полигамист, а настоящая женщина моногамична». – «А вы такую женщину знаете?» – спросила я. – «Пожалуй, нет. Но думаю, что она есть», – смеясь ответил он. Я вспомнила Ахматову, но, зная, что ему будет это больно, промолчала.
У Ахматовой большая и сложная жизнь сердца, – я-то это знаю, как, вероятно, никто. Но Николай Степанович, отец ее единственного ребенка, занимает в жизни ее сердца скромное место…».
Как видите, свидетельство это мало похоже на самоуверенные выводы Маковского.
25 апреля 1910 года у них была свадьба в Киеве. На венчание в церковь Никольской слободки, что над Днепром, никто из членов ее семьи не пришел – Горенки считали ее замужество ошибкой. Можно догадаться, что уже и медовый месяц должен был принести ей шок разочарования, а ему – первую настоящую боль. Кабы мудрости обоим, и терпения, и убежденья, что иначе нельзя… Впрочем, ведь слова «нельзя» не знали они оба. Оба были настоящие поэты – пусть даже авансом, еще и не написав настоящих стихов, оба были гордецы, своевольники. Сошлюсь на свидетельство той же Срезневской: «Конечно, оба они были слишком свободными и большими людьми для пары воркующих «сизых голубков»…Их отношения скорее были тайным единоборством – с ее стороны для самоутверждения как свободной женщины, с его стороны – желанием не поддаться никаким колдовским чарам и остаться самим собой, независимым и властным… увы, без власти над этой вечно ускользающей от него многообразной и не подчиняющейся никому женщиной».
Впрочем, мы с вами у начала их брака, и оба еще надеются, что «образуется»… А пока – свадебное путешествие, долгожданный (ему-то уже знакомый) Париж. Куда ж еще ехать русским молодоженам, как не в Париж? А в Париже Аню Горенко – впрочем, она теперь горделиво подписывает письма «Анна Гумилева» – ждет первая встреча с Ним. Она Его не знает, но ведь и мы с вами Его еще не встречали. Итак, Он…
Он – до встречи с ней
Он тоже родился на берегу моря. Только не Черного, а Средиземного – в Тоскане, в городе Ливорно, 12 июля 1884 года. Жизнь его окутана самыми невероятными легендами, и сам он, подобно Ахматовой, мифотворец и выдумщик, легенды эти не рассеивал, не опровергал, а, скорее, напротив – расцвечивал и распространял. Говорили, что этот нищий творец с Монпарнаса был сыном банкира, что он – потомок Спинозы: этот слух ему, поклоннику философии, очень нравился. На деле все было несколько иначе, хотя, может, тоже вполне экзотично. Отец его, Фламинио Модильяни, торговал лесом и углем и вел какие-то непонятные дела в Сардинии, где и пропадал большую часть года. Проторговавшись, он открыл посредническую контору (тоже ведь, если и не банк, то «банко» – окошко, прилавок), но и туг не преуспел. Бытовала, впрочем, в семье легенда и о настоящем «папском банкире» – Эммануэле Модильяни. На самом деле прославленный этот Эммануэле просто получил однажды, в середине прошлого века, заказ на поставку меди для монетного двора Ватикана, а заработав на этом кое-что, возомнил о себе и купил виноградник, но вынужден был продать его через двадцать четыре часа, ибо, как выяснилось, сделка с Ватиканом еще не давала ему, еврею, права в нарушение папских указов владеть землею. Ко времени рождения нашего героя, четвертого ребенка в семье Эжени и Фламинио Модильяни, родители его успели сильно обеднеть, если не обнищать. Что же до Спинозы, то материнская семья Гарсен из Марселя и правда состояла в родстве со Спинозами, но сам мудрец из Амстердама, как известно, был бездетным. Однако претензии на это родство существенны для нашей истории: и Спинозу, и Уриэля Акосту, и Вольтера, и прочих вольнодумцев почитали в марсельской семье матери нашего героя, Эжени Гарсен, которую семнадцати пет от роду угораздило выйти замуж за Фламинио Модильяни, следствием чего, впрочем, и было упомянутое нами выше рождение Амедео Модильяни, по-семейному – Дэдо. Можно отметить, что в материнской семье, у марсельских Гарсенов, атмосфера была и более нежной, и куда более интеллигентной, чем в семье грубых Модильяни, а тетка Лора Гарсен имела обыкновение читать своим племянникам вслух воспоминания Петра Кропоткина. На счастье, на маленького Дэдо это чтение произвело меньший эффект, чем на его брата, который стал известным социалистическим лидером. Марсельские Гарсены, как и тосканские Модильяни, были евреи, точнее говоря, сефарды – выходцы из Испании, рассеявшиеся после изгнанья по всему Средиземноморью и унесшие с собой свою религию, свою иудео-испанскую культуру, свой язык ладино и свой страх перед новым изгнаньем. Этот последний был, возможно, единственным, что оставалось в не слишком верующих семьях Гарсен и Модильяни от еврейства, но в Италии, надо признать, евреев не загоняли в ту пору ни в гетто, ни в черту оседлости, да и антисемитизма, подобного тому, что лютовал в конце прошлого века во Франции, в Италии не было.

Амедео Клементе Модильяни (1884–1920) – итальянский художник и скульптор, один из самых известных художников конца XIX – начала XX века, яркий представитель экспрессионизма.
Фото 1918 г.
Амедео рос болезненным мальчиком, но кое-как дотянул до окончания лицея в Ливорно, после чего мать отдала его учиться живописи к художнику Микели. В семнадцать Дэдо заболел туберкулезом, лечился, совершил поездку по Италии, побывал в Риме, в Неаполе, на Капри. Во Флоренции он целыми днями пропадал в музеях, поступил там же в Школу изящных искусств. Он писал тогда стихи и был близок там к группе молодых итальянских писателей, которых называли позднее «потерянным поколением» – большинство из них рано и трагически завершило жизнь, даже к самому Джованни Папини. Амедео знал наизусть сотни строк Данте и Леопарди, а одним из кумиров его был Габриэле Д’Аннунцио, чей гимн сверхчеловеку, навеянный Ницше, Эмерсоном, Уитменом, Ибсеном, пришелся по душе юному итальянскому интеллектуалу, мечтавшему о славе и горячо откликавшемуся на слова Д’Аннунцио о праве художника на чрезмерность в трудах и в жизни, на индивидуализм и вызов буржуазному вкусу, ибо, как говорил Д’Аннунцио, «дионисическая чувствительность художника, его нервность и его многосторонность – его увлечения и быстрые разочарования – неуемные аппетиты, возбуждение и смерть, его театральность и его тщеславие – все это скорее следы сильной женственности, чем декадентства». Иные из искусствоведов считают, что в этом пассаже из Д’Аннунцио – моральный портрет Модильяни, который уже в ранней юности верил, что станет настоящим художником, но знал и тогда, что путь будет нелегким. После Флоренции он еще несколько лет учился в венецианской академии изящных искусств, занимался и живописью и скульптурой, там приучился и к вину и к гашишу. Он все чаще подумывал о том, что пора уезжать в Париж – художникам начала века все, кроме Парижа, казалось провинцией. В 1900-м году осуществил свою мечту о Париже девятнадцатилетний Пикассо, в 1904-м – Бранкузи, в 1905-м – Паскин, в 1906-м – Кандинский, тогда же появился на Монмартре и молодой Модильяни. Ему было 22 года, и ему предстояло найти себя как художника. Это был мучительный процесс. Странно, что так много людей знали его в Париже – так много рассказов осталось о нем, ставшем позднее символом пропащей монпарнасской богемы, так много разнообразных легенд, баек, анекдотов, и так мало оставили нам его описаний даже те, кто часами сидел напротив него, позируя для знаменитых модильяниевских портретов, обессмертивших его моделей. Чаще других описывали его русские друзья из общаги «Улей». Этих выходцев из белорусских и украинских местечек, из глухих углов Австро-Венгерской монархии, из Минска, Вильны, Витебска и Варшавы молодой тосканец поражал, пугал и завораживал широтой латинской культуры, томиком Данте или Бодлера, неизменно оттопыривавшим карман, дорогим красным шарфом на шее, бархатными куртками, неизменной и безудержной щедростью – впрочем, ведь и швейцарец Сандрар утверждал до самой старости, что шикарный красавец Модильяни был богат, приступами внезапной ярости. Нет, не гением художника он их всех изумлял тогда, не талантом: в той среде все были великие таланты, если не гении – пока что не признанные, конечно, но спешившие (и не всегда успевавшие) быть признанными при жизни. Поражал блеском эрудиции, широтой натуры, размахом, а также неудержимым самоистреблением, обреченностью, словно бы отмеченностью печатью рока…
Вот один из немногих его словесных портретов, принадлежащий перу скульптора Осипа Цадкина: «Его черные волосы цвета воронова крыла окружали его сильный лоб: подбородок у него был гладко выбрит, синие тени лежали на алебастрово-белом лице». Другие вспоминают его золотистые глаза, его неотразимость, шарм, его вечное желание соблазнять, утверждая себя. Третьи – его любовь к философии. Все вспоминают его страсть к поэзии: он мог часами, жестикулируя и утрируя свой итальянский акцент, читать наизусть Данте, грустного Леопарди, Д’Аннунцио, Рембо, Верлена, Бодлера… Вспоминают, что из живописцев он любил Сезанна и Паоло Учелло, знал не только Тинторетто, Джорджоне, Тициана, Йорданса, Рубенса, но и Никколо дель Аббате, и Приматиче, и Энгра. Иным он запомнился совсем молоденьким, на Монмартре, не пропускавшим ни одной хорошенькой девочки… Пишут, что у него было, наверно, богатырское здоровье, если он мог при залеченной чахотке так долго вести этот богемный образ жизни. Натыкаясь поздней на подобные фразы мемуаристов, дочь его, Жанна, напоминала, что в Париж он приехал все же не наивным и здоровым юношей-провинциалом, что он прошел еще в Италии искус учебы, что здоровье его было подорвано туберкулезом, да и нервы у него были не слишком крепкие: многие вспоминают о его «неожиданных переходах от застенчивой сдержанности к припадкам безудержной ярости». Зато решимость его во что бы то ни стало открыть свое, новое, сказать свое слово в искусстве, стать настоящим художником, – решимость эта была неколебимой. За достижение этой цели он готов был платить любую цену, не щадя ни трудов, ни здоровья, ни даже вчерашних своих достижений и опытов, если сегодня с утра они показались ему ложными, слабыми, недостойными тех вершин, которые он себе определил. При этом молодой тосканец, в отличие от многих своих итальянских собратьев и друзей вроде Джино Северини, предложившего ему подписать их очередной ниспровергательный манифест, или их российских шумных подражателей, не собирался «жечь Лувр» и Галерею Уффици, не собирался ничего «сбрасывать с корабля современности». Напротив, он обожал старых, особенно архаичных, мастеров: он, как вспоминает один из самых первых поклонников его живописи, доктор Поль Александр, рьяно посещал выставки особо им почитаемых Сезанна и Матисса. В предрассветных парижских сумерках очередная его поклонница, влюбленная манекенщица или просто вчерашняя собутыльница могла разглядеть на стене над его кроватью репродукцию картины Энгра или фрески Микеланджело. Он был странный новатор-консерватор, новатор «ретро». Конечно, в Париже у него появлялись время от времени новые, модные увлечения – и кубизм, которому он отдал недолгую дань, и так называемое «примитивное искусство» – скульптура Африки, «негритянское» искусство, и скульптура Океании, и средневековое искусство, искусство Египта, Индии. Многие считают, что к негритянскому искусству его приобщил его новый приятель-скульптор, талантливый румын Константин Бранкузи. Доктор Александр вспоминает, что это он привел Модильяни в музей на Трокадеро. Так или иначе, увлечение это носилось в воздухе, весь Монпарнас болен был тогда «примитивами», а моду ведь начинал уже задавать Монпарнас: Монмартрский холм «пустел», художники один за другим перебирались на левый берег – на улицу Кампань-Премьер, в квартал Вожирар… Перебрался туда и Модильяни. Его сосед по новой студии вспоминает о Модильяни, что «его преклонение перед черной расой продолжало расти, он раздобыл адреса каких-то отставных африканских царей и писал им письма, исполненные восхищения гением черной расы… Он расстроен был тем, что ни разу не получил от них ответа…».
Начислим
+7
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе