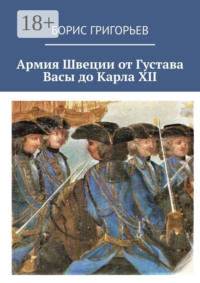Читать книгу: «Армия Швеции от Густава Васы до Карла XII», страница 3
Глава 3 Практика Тридцатилетней войны
Тридцатилетняя война (1618—1648) явилась серьёзным испытанием для народов всей Европы, которая надолго оставила в их памяти все её превратности и жесткости и оказала сильное влияние на последующее развитие всего континента. Начавшаяся как война религиозная против предпринятой Габсбургской монархией Контрреформации, она постепенно превратилась в войну грабительскую и завоевательную, войну бессмысленную всех против всех независимо от вероисповедания.

Разграбление Магдебурга. Худ. Э. Штайнбрюк (1866)
Швеция, вступившая в войну в 1629 году, провозгласила себя спасительницей лютеран от насильственного гнёта католической церкви и была встречена лютеранами Германии с большим энтузиазмом. П. Энглунд и другие шведские историки констатируют: усталость от постоянных походов и сражений, удалённость от родины, грабежи и мародёрство сыграли свою роль, и образцовая армия Густава Адольфа при его преемниках трансформировалась и превратилась в армию грабителей, насильников, мародёров и завоевателей.
Дисциплина упала до самого низкого уровня. К концу войны солдаты стали роптать по самым разным поводам, возникали бунты (Юберлинген, Ноймаркт, Лангенарх, Мейнау, Эгер, Швейнфурт), и генералы жестоко их подавляли. В 1633 году возник бунт, а точнее – забастовка – генералов и высших офицеров, в 1641 году взбунтовались полковники. Им тоже, как и рядовым кнехтам, задерживали жалованье. Перестал действовать принцип «война кормит себя сама», потому что Германия уже была разорена, ограблена и начисто «выедена» обеими воюющими сторонами.
Генералы отказывались выполнять приказы канцлера А. Оксеншерны и практически бездействовали, предоставляя своим солдатам питаться за счёт «контрибуций» с местного населения. Канцлер с трудом нашёл выход, вознаградив бастовавших солидными имениями. Благо, шведскому государству это ничего не стоило, потому что имения принадлежали германским княжествам. Другим источником финансирования войны стали займы – в основном у голландских банкиров.
Опустошительной войне не видно было ни конца, ни предела. Она вышла из-под контроля правителей и диктовала им свои условия. С большим трудом её участникам удалось сесть за стол переговоров и в 1648 году заключить т. н. Вестфальский мир. В результате Тридцатилетней войны Швеция выдвинулась в ряды влиятельных стран континента. С этого периода начинается отсчёт периода её т. н. великодержавия, закончившийся поражением в великой Северной войне 1700—1721 гг.
Стратегия шведской армии
Чтобы лучше себе представить условия повседневной жизни военных в XVII веке, нужно в двух словах сказать о стратегии войны, которой придерживалась тогда армия Густава II Адольфа и армии Европы в целом. Согласно П. Энглунду, по сравнению с концом XVI – началом XVII в. в. армии, принимавшие участие в Тридцатилетней войне, по своим размерам увеличились чуть ли не в 10 раз! Когда в конце XV столетия испанцы выставили 20-тысячную армию, то Европу от страха охватила дрожь. В Тридцатилетней же войне одна только Испания располагала 300-тысячной армией, а сколько же всего было солдат в армиях Франции, Голландии, Швеции, Дании, австрийских Габсбургов и немецких князей, сказать было невозможно – думается, не менее миллиона. Можно себе представить, каких расходов это потребовало от государств, и каким тяжёлым бременем они легли на население всех этих государств.
Совершенно новым делом стало снабжение, перемещение и управление большими воинскими контингентами. Теперь в сражениях с обеих сторон единовременно могло участвовать до 100000 человек. К ним следует добавить примерно такое же количество следовавших в обозе армии гражданских лиц – жён офицеров и солдат, маркитанток и маркитантов, любовниц, проституток, купцов, ездовых, конюхов, оружейников, слуг и просто прибившегося к армиям всякого нищего и деклассированного люда. И тысячи коней.
Одно только перемещение такой массы людей представляло сложную логистическую задачу. Но особенно остро стал стоять вопрос продовольствия и фуража: скученные массы войск «объедали» занятую территорию в считанные сутки, и многие полководцы стали приходить к неутешительному выводу о том, что лучше оперировать малыми контингентами. Но как быть, если сражения выигрывались в основном за счёт количества солдат, кавалерии и артиллерии? Всему этому постепенно «учила» Тридцатилетняя война.
До первой трети XVII в. в шведской армии отсутствовала централизованная система снабжения войск. В первую очередь это было вызвано тем, что бóльшая их часть состояла из иностранных наемников. За жалованье, в среднем составлявшее около 5 далеров в месяц, наёмник должен был сам приобретать оружие, снаряжение и продовольствие. Закупка продовольствия по фиксированным ценам производилась у маркитантов, которые следовали за каждым полком. Это приводило к тому, что на походе части были обременены большим количеством повозок с имуществом и продовольствием для наёмников. На пехотную роту в 200 человек приходилось от 20 до 40 повозок, а на кавалерийский эскадрон в 500 человек – не менее 100 повозок.
Солдаты, набранные непосредственно в Швеции, получали меньшее денежное содержание, чем иностранные наемники, но зато их снабжение шло за счет шведских ленов и было более-менее регулярным. Но правильного снабжения и для них не хватало, и потому широко применялись реквизиции продовольствия и фуража у местного населения.
Итак, военная стратегия зависела в первую очередь от тривиальной возможности прокормления армии. Как известно, Густав II Адольф придерживался принципа ведения военных действий на территории противника. Этому же принципу следовала противостоявшая ему армия императора Фердинанда II. Население занятой армией территории обязано было кормить её солдат («Война кормит себя сама»). Оно обкладывалось контрибуциями и всякими поборами, а также подвергалось самому беспощадному ограблению, и когда армия покидала тот или иной район, она оставляла за собой опустошённую во всех отношениях местность. Каждый поход шведской или императорской армии был сущей катастрофой для немецких княжеств и городов. Ступать на эту землю второй раз уже ни одна армия не отваживалась13.
В результате стратегическая цель армий состояла главным образом в том, чтобы искусными маневрами вытеснять противника на «неудобные» территории, а самому оставаться в районах, предоставлявших возможность снабжения продуктами и фуражом. Поэтому и во время Тридцатилетней войны, и в последующих войнах, которые вела шведская армия, число крупных сражений и затяжных осад крепостей было минимальным. Вытесненный на «неудобные» земли противник без всякого участия в боевых действиях нёс значительные потери от голода и инфекционных болезней.
Яркий пример: в 1638 году шведская армия под командованием Юхана Банера настолько истощила себя в боях с имперскими войсками, что была вынуждена уйти из внутренних районов Германии и отступить к померанско-мекленбургскому побережью Балтийского моря. Численно превосходившая шведов армия фельдмаршала Галласа следовала по пятам и должна была вот-вот уничтожить остатки обескровленного полуголодного шведского воинства. Вероятно, так бы оно и случилось, если бы не то самое «но» – еда!
Мекленбург и Померания были начисто опустошены за 20 лет войны и не могли прокормить даже малочисленную армию Банера. Ему удалось получить кое-какие продукты питания и прочее подкрепление морем из родной Швеции. И это стало настоящим спасением. А имперцы, стоявшие в двух шагах от окончательной победы, вдруг начали уходить на юг. Шведы стали было подозревать их в хитроумных планах, но всё оказалось просто: армия Галласа стала жестоко голодать, и чтобы минимизировать потери, фельдмаршал решил уйти в более плодородные районы Германии.
Получив подкрепление и французские деньги, Банер решил разделаться с Галласом и пустился его преследовать. Найти противника шведам особого труда не составило: весь путь отступления имперской армии был устлан трупами умерших от истощения и болезней солдат. Наконец шведы настигли своего противника, но к этому времени в армии Банера, следовавшей по уже начисто «выеденной» территории, кончился запас провианта, и у шведов начались точно такие же трудности, как у Галласа. Пришлось ни с чем возвращаться назад.
Итак, насущные задачи кормления армии и лошадей толкали на постоянное маневрирование, потому что долго оставаться на одном месте было нельзя – продуктово-фуражная база выедалась подчистую. Но походы и переходы, постоянное маневрирование изнуряли и людей, и животных, и армия несла ощутимые потери. Получался заколдованный круг, участников войны вполне можно было сравнить с белкой в колесе.
Централизованная система снабжения шведской армии впервые была создана при Густаве II Адольфе. Для обеспечения регулярности снабжения войск создавались склады фуража и продовольствия, а также обеспечивалась своевременная доставка провианта в воинские части. Так появились базы и коммуникации. Норма выдачи довольствия в сутки на одного человека состояла из 800 г хлеба и 400 г мяса. Суточная дача на лошадь составляла 2,5 кг овса или 1,6 кг ячменя, 4 кг сена и соломы.
В конце Тридцатилетней войны, когда материальные и людские ресурсы у шведов истощились, возникла другая проблема стратегического характера – т.н. оккупационный или объёмный парадокс. Дело в том, что громкие военные победы на полях сражений в реальности не приносили ни политических, ни дипломатических дивидендов. Мало было победить противника в бою – надо было закрепиться на завоёванной территории. Для этого нужно было оставлять гарнизоны в городах и крепостях, а это сильно ослабляло и без того обескровленную армию. В результате война теряла всякий смысл – если, конечно, не принимать во внимание грабительские цели и мотивы личной наживы генералов и офицеров.
Что представляла собой шведская армия на марше, мы уже знаем: примерно половину людей её змеевидной колонны представляли некомбатанты. Так что необходимо было прокармливать людей вдвое больше, чем номинальное количество солдат. Генералы жаловались на то, что трудно было достать вино, в то время как солдаты были вынуждены буквально переходить на подножный корм, питаться лесными ягодами и яблоками, а если и их не было, прибегали к грабежам и насилию.
Вот в таких буднях проходила Тридцатилетняя война, начисто опустошившая Германию. Пьеса Б. Брехта «Мамаша Кураж» даёт об этой войне самое наглядное представление.
Как управлялась военная машина Швеции?
До восшествия на престол Густава II Адольфа в 1611 году во главе вооруженных сил всегда стоял король, которому подчинялся военный совет из наиболее видных военачальников и государственных деятелей, а уже военному совету подчинялись командиры полков и др. подразделений. Государственный совет, военная коллегия и риксдаг являлись совещательными органами при короле и отвечали за набор рекрутов и сбор средств на содержание и комплектование армии. Их влияние на принципы формирования и управления армией было значительным.
Высшей командной должностью в армии был генерал-фельд-полковник, за ним шёл фельдхерр (буквально «полководец»), потом генерал-фельдхерр и фельдмаршал. Густав II Адольф не баловал своих генералов должностями, и большинство перечисленных выше должностей только значились в списке. Так в 1623 году только Я. Делагарди занимал должность фельдхерра, а Херман Врангель – пост фельдмаршала, в то время как другие высшие посты были вакантны. В 1626 году во всей шведской армии насчитывалось 15 полковников и 19 подполковников. С вступлением в войну на германской территории король Густав увеличил количество высших офицеров, организовал генштаб и поставил во главе его генерал-майора, а потом – генерал-адъютанта. Первым начштаба был Додо фон Книпхаузен, а после него – Бодуссэн (Бодис), оба немцы, что было неизбежной данью для привлечения в армию лютеранских немцев. Начальником артиллерии стал 27-летний Турстенссон, будущий талантливый полководец конца Тридцатилетней войны.
Проблема пороха, военного специального снаряжения и амуниции также стояла всегда остро. Об этих расходах свидетельствует следующий пример, который приводит П. Энглунд: в течение полутора месяцев 15-тысячная армия Л. Турстенссона в 1645 году истратила 17 тонн пороха. Кроме вооружения и амуниции, в армии XVII века играли большую роль такие вещи, как пилы, топоры, косы, лопаты, подковы, штурмовые лестницы, мешки, ремни, сбруя, циркули, гвозди и т. д. Всё это нужно было запасти, заложить в т.н. магазины (военные склады) и доставить в нужное место в нужное время. Этим занималась интендантская служба, которая привлекала себе в помощники местное и шведское купечество.
Мастер-класс короля Ёсты. Брейтенфельдское сражение
6 (16) сентября 1631 года шведско-саксонские союзники выступили из Дюбена навстречу имперскому войску, которым командовал Тилли14. Именно в этот день Старому капралу удалось склонить малочисленный саксонский гарнизон в Лейпциге к капитуляции. Скоро передовые разъезды имперцев столкнулись с саксонским авангардом, и генералиссимус принял меры к развёртыванию своей армии в оборонительный порядок.
Утром 6 (16) сентября он созвал военный совет и спросил мнение своих генералов по поводу порядка предстоящего сражения. «Полководец не пойдёт в воду, если не увидит дна», – сказал он в начале совещания и предложил оборонительный вариант, то есть, оставаться в укреплённом лагере в предместье Лейпцига и ждать шведов. Большинство военачальников, особенно валлоны, поддержали генералиссимуса.
Против выступил Паппенхейм15. Он высказался за наступательный вариант боя и был поддержан некоторыми другими военачальниками. Решение вопроса оставалось за главнокомандующим, и он решил наступать. Слишком часто последнее время его обвиняли в трусости, нерешительности и медлительности – взять хотя бы того же Паппенхейма. Да и в Мюнхене, и в Вене у Старого капрала появилось много недоброжелателей. Что ж, отлично: раз они хотят идти вперёд, пусть так и будет. Было решено, что боевым кличем армии будет возглас «Йезус Мария!», а отличительным знаком – белая лента на шляпах.
Тилли тут же отдал приказ занять господствующие высоты в деревнях Подельвитц и Гёбшельвитц и развернул свои боевые порядки фронтом на север, оставив у себя в тылу Лейпциг. На флангах выстроилась кавалерия: на правом фланге под командованием князя Фюрстенберга, на левом – под командованием Паппенхейма; в центре, под командованием Тилли, заняла своё традиционное место глубоко эшелонированная пехота и впереди неё – артиллерия. Тилли разыгрывал типичный испанский вариант сражения.
7 (17) сентября, как только стало светать, в шведско-саксонском лагере раздались команды к построению, воинские части заняли свои места согласно боевому расписанию и медленным шагом двинулись вперёд на Лейпциг. На левом фланге боевые порядки заполнила саксонская армия, в то время как шведы занимали центр и правый фланг. Правым крылом шведской армии командовал генерал Банéр16, левым крылом, включая союзников, – фельдмаршал Хурн (Хорн, Горн)17, центром, по всей видимости, командовал король. Через полтора часа они увидели имперский авангард, потом стали различимы их пушки, а за ними шведы и саксонцы увидели всю армию.

Густав II во время битвы Брейтенфельде с картины художника Иогана Вальтера
На широком холмистом поле лицом к лицу оказалось около 90 тысяч человек. С точки зрения военного искусства, сражения начала XVII века представляли мало простора для военного аналитика. Противоборствующие стороны выстраивались в плотные порядки и сходились друг с другом. Стенка шла на стенку, и начиналась рукопашная драка. Никаких маневров, фланговых обходов, ударов с тыла, никаких комбинаций огня и движения. Но битва под Брейтенфельдом, благодаря новаторству и полководческому таланту Густава II Адольфа, стала первым исключением из этого правила. С точки зрения тактики и применения оружия и людей Брейтенфельдское сражение резко отличалось от других сражений Тридцатилетней войны и открыло новую страницу в истории военного искусства вообще.

Рисунок из статьи «Брейтенфельд» Военной энциклопедии Сытина 1911 года
На поле битвы в первый раз столкнулись два разных подхода к использованию войска – испанский и шведский. Суть испанского метода военных сражений, который проповедовал Тилли, заключался в использовании неподвижных, тесно и глубоко эшелонированных боевых порядков, непоколебимых в обороне и неотразимых в атаке. В основу этого метода была положена идея сомкнутой фаланги, движущейся тяжёлым слоновьим шагом навстречу противнику. Пехота эшелонировалась в 9—10 рядов (чем глубже, тем лучше), и в бою задние эшелоны действовали не столько силой оружия, сколько силой инерции движения. Кавалерия, расположенная в квадратных каре по флангам, после плотного пушечного огня, завершала начатое артиллерией дело. Это были, по словам Густава Адольфа, «испанские батальоны», «неподвижный Юпитер с трабантами», квадратные крепости с бастионами из человеческих тел. Недаром Габсбурги – и испанские, и австрийские – называли свою армию устрашающим словом «армада». Она, как огромный дредноут, передвигалась по Европе и подминала под себя всё живое и неживое.
Насколько тяжеловесным был испанский строй, настолько затруднительным было и управление огнём. Кавалерия была обучена поддерживать длительный огонь по противнику, за которым следовала атака с короткой дистанции, а затем, исчерпав огневые и инерционные средства, она становилась слабой и неуправляемой. Эффект мушкетного огня, из-за несовершенства самого оружия, требовавшего до 99 движений при зарядке и стрельбе и наличие тяжёлых вилок для опоры, был медленным и слабым. Этим же недостатком страдала и артиллерия.
Тактический принцип Густава Адольфа основывался на маневренности войска. Маневренность оружия и прежде всего скорострельность; маневренность людской массы; облегчение пушек, ружей, мушкетов и панцирей и более удобное и быстрое обращение с ними; отмена опорных вилок для мушкетёров и введение вместо фитильного замкового оружия; лёгкость транспортировки пушек и наличие артиллерии в каждом полку, – всё это выгодно отличало шведскую армию от имперской и от других армий Европы.
Кавалерийские подразделения использовались шведами не в глубоких каре, а в подвижных звеньях в сочетании с ротами мушкетёров численностью до 200 человек. Достигалась удачная комбинация двух родов войск, которая на полях сражений апробировалась тогда впервые. Наступающего противника встречали залпами пехотного корпуса, а потом в промежутках между пехотой вперёд вылетали кавалерийские эскадроны и без всякой перестройки, в линию, с холодным оружием и заряженными пистолетами, врезались в боевые порядки неприятеля. При отступлении кавалерия и пехота прикрывали друг друга: кавалеристы укрывались за огнём мушкетёров или сдерживали напор неприятеля на позиции пехоты.
Пехота, обычно в центре «корпо ди батальи»18, выстраивалась тоже по принципу подвижности без вкрапления кавалерийских частей в бригады, вопреки принципу построения «испанских батальонов». В бригады объединяли несколько полков (или бригаду делали на базе одного крупного полка), доводя её численность примерно до 1224 человек. В боевом порядке бригады пикинёры образовывали три твёрдые опорные точки в виде треугольника, а между ними и на флангах стояли мушкетёры.
Мушкетёры обеспечивали связь между вершиной и основанием и фланговое прикрытие треугольника. Глубину своих порядков шведы сократили до 2—3 эшелонов, благодаря чему увеличилась сила мушкетного огня. В то время как у имперской пехоты больше половины мушкетёров вообще не вели огонь, у шведской стреляли все три эшелона вместе или поочерёдно: первый эшелон с колена, второй – из положения «пригнувшись» и третий – из положения стоя.
Применялся в шведской пехоте и т. н. дефилейный огонь, когда отстрелявшийся первый эшелон отходил назад, становился третьим, заряжал мушкеты и готовился к стрельбе, в то время как второй эшелон становился первым, третий – вторым и вели огонь по противнику. Всё это опять увеличивало огневую отдачу пехоты и способствовало её ещё большей подвижности. И последнее, но немаловажное преимущество «шведского строя»: он позволял обходиться меньшим количеством солдат и офицеров. Такой плоский, подвижный и растянутый строй сыграл решающее значение в Брейтенфельдской битве.
…Обе армии находились друг от друга на расстоянии полумили. Имперцы занимали более выгодные позиции: они оседлали возвышенности, солнце светило им в спины, а поднимавшаяся от сильного ветра пыль слепила глаза шведам. Густав II Адольф решил лишить противника этого преимущества и, не обращая внимания на оживлённую перестрелку, развернул и слегка передвинул всю армию вправо, «отобрав», таким образом, у неприятеля «полветра». Только после этого дерзкого маневра заработала и шведская артиллерия.
Перед началом сражения шведы выслали к имперцам трубача, который привёз имперцам вызов на поединок. «Я, со своей стороны, никогда не увиливал от боя», – ответил Тилли, – «и король прекрасно знает, где меня найти». До 14.00, однако, ничего серьёзного не происходило. Противники стояли и смотрели друг на друга…
И вот Тилли, наконец, двинул свой левый фланг против правого фланга Густава Адольфа, пытаясь зайти ему сбоку и снова обеспечить атакующих ветром в спину. В результате разворота шведской армии кавалерия Паппенхейма, пытавшаяся выполнить отданный ей приказ и охватить правый фланг шведов, слишком далеко оторвалась от своих порядков и потеряла связь со своим центром. Вместо того чтобы исправить ошибку, имперцы допустили новую: ввязавшись в бой, они всё дальше и дальше забирали влево. Густав II Адольф среагировал моментально: он усилил свой правый фланг, сломил сопротивление Паппенхейма и вынудил его к бегству.
Не обращая внимания на упомянутые события на своём левом фланге, центр Тилли – тяжёлая пехотная армада, состоявшая из 17 каре, – имея на флангах кавалерийское обеспечение, пошёл в атаку, медленно сползая с высоты. Казалось, армада должна была пойти на Хурна, но в намерение Старого капрала входило навалиться сначала всей массой на левый фланг союзников, т. е. на необученных, только что завербованных саксонцев, а потом уж, разделавшись с ними, атаковать шведский центр. Как только имперцы попали в зону воздействия артиллерийского огня шведских батарей, они круто повернули вправо и пошли на саксонцев. Кавалерийское левое обеспечение пехоты продолжало движение на шведский центр, но вскоре оно было остановлено и отброшено назад.
Саксонцы сопротивлялись недолго. Артиллеристы тут же побросали свои пушки, пехота дрогнула и побежала, кавалерия не выдержала и тоже обратилась в бегство. Курфюрст с лейб-гвардией и с воплями: «Всё потеряно!» ускакал с поля боя под Айленбург.19 Две пятых союзных войск мгновенно исчезли с поля боя, как будто их и вовсе не было. Шведские резервные части, стоявшие сзади саксонцев, были смяты союзниками, тоже развернулись и пустились наутёк к Дюбену. Имперские солдаты начали, было, грабить оставленные саксонцами обозы, но Тилли строго приказал не отвлекаться и поворачивать теперь на шведов. Пехота послушалась, развернулась влево, медленно двинулась на позиции Г. Хорна и начала охватывать его оголившийся левый фланг. Одновременно кавалерийский полк Фюрстенберга уже заходил шведам в тыл. Казалось, катастрофа была неминуема, но именно здесь сказалось преимущество шведского военного искусства над испанским. Фельдмаршал Г. Хорн, забирая резко вправо, начал быстро разворачивать свой левый фланг фронтом к противнику. Немедленно сказались и преимущества линейного строя. Густав II Адольф взял из второго эшелона центра две ближайшие к левому флангу Хорна бригады и лично повёл их в контратаку на врага. Большой урон имперцам нанесли и скорострельные пушки Турстенссона20. Дважды одним и тем же маневром шведы спасли себя от жестокого поражения. Они, как ловкий рапирист, увернулись от смертельного укола врага и заняли новую оборонительную стойку.
Разгорелся длительный и упорный пятичасовой бой, в ходе которого на стороне имперцев отличилась кавалерия Фюрстенберга. Пехота Тилли, остановленная контратакующими шведами, стояла на их пути утёсом и стойко отражала все атаки шведской кавалерии. Густав II Адольф приказал дополнительно перебросить с правого фланга остъётскую кавалерию, к которой присоединились мушкетёры. Фельдмаршал Хорн повёл их немедленно в атаку. Она и оказалась решающей. Для начала мушкетёры дали два устрашающих залпа по пехоте противника, а потом вступили с ней в рукопашную схватку. Имперцы продолжали оказывать упорное сопротивление, но, наконец, ряды «испанских батальонов» были пробиты и в промежутки хлынули шведские кавалеристы. Имперская пехота стала пятиться назад. Шведы, вцепившись в неё, продолжали нажимать, пока не завладели потерянными саксонскими пушками.
Приведём свидетельство шотландского офицера Роберта Монро, принимавшего участие в контратаке шотландской пехотной бригады на стороне шведов: «В густом дыму и в поднявшейся столбом пыли мы, словно, находились внутри чёрного облака и не могли уследить за собственными движениями и наполовину, не говоря уж о маневрах противника или остальной нашей бригады; поэтому я приказал находившемуся рядом барабанщику бить шотландский марш, пока пыль и дым не рассеялись; это помогло собрать наших товарищей и рассеять уже побеждённого противника; и только после того, как бригада снова собралась в одно место, оставшиеся в живых могли убедиться, кто из товарищей был убит, а кто – ранен».
Главным сопутствующим элементом сражений того времени был густой пороховой дым, который окутывал комбатантов таким плотным и толстым слоем, что видимость сокращалась до нескольких шагов. Если не было спасительного ветра, то он оставался висеть в воздухе, и сражающиеся стороны должны были терпеть его до самого конца. После боя солдаты и офицеры выглядели как кочегары, выбравшиеся из Преисподней. Немудрено, что в таких условиях управлять боем, который распадался на множество локальных рукопашных схваток, было невозможно. Самый талантливый полководец был не в состоянии эффективно повлиять на его исход, который полностью зависел от упорства и боевого духа рядовых кнехтов и кавалеристов.
Старикан Тилли отступал вместе со своей пехотой и никак уже не мог повлиять на исход сражения. Серый скакун под ним был убит, и он пересел на другого коня, пытаясь повести солдат в бой. Но никто его уже не слушал. Солдаты бежали к городу и увлекали за собой своего генералиссимуса. Его нагнал ротмистр из кавалерийского Рейнграфского полка по кличке Длинный Фритц и, схватив за рукав, приказал сдаваться. Тилли пришпорил коня и попытался вырваться, но Длинный Фритц догонял Старого капрала и, ударяя его рукояткой пистолета по голове, плечам и рукам, приговаривал: «Сдавайся, старый хрыч!» Тилли находился уже на грани потери сознания, когда откуда-то появился герцог Рудольф Лауэнбургский и выстрелом из пистолета убил Длинного Фритца.
К вечеру поле боя было за шведами.
Противник отступал повсеместно, преследование имперцев продолжалось до темноты. Окутанные плотными клубами дыма, пехотинцы Тилли, за исключением четырёх полков, были почти все уничтожены или взяты в плен. Впрочем, потери с обеих сторон были значительными: германский историк Дройсен оценивал потери шведов убитыми и ранеными в 2.100 человек, со стороны армии Тилли – в пять раз больше. К тому же в плен к шведам попало около 7.000 человек, которые в основной своей массе перешли на службу к Густаву Адольфу. Обе стороны понесли потери среди офицеров: у шведов были убиты полковники Дамитц и Тойффель и много других офицеров, в армии Тилли были убиты герцог Гольштинии, фельдцойгмейстер Шёнбург и др. офицеры, а сам генералиссимус после «обработки» пистолетом шведско-немецкого ротмистра ещё долго не мог прийти в себя. Среди трофеев шведы захватили всю имперскую артиллерию (26 пушек), 90 знамён и вымпелов, много амуниции, пороха, ядер и провианта21.
На утро 8 (18) сентября шведским солдатам было дано разрешение на грабёж бывшего имперского лагеря. Шведский историк А. Фрюкселль лаконично замечает, что добыча оказалась очень богатой.
Мародёрство было составной частью военных сражений – можно сказать, своеобразным апофеозом. Для победителей пограбить убитых и раненых врагов было всё равно, что подкрепиться за уставленным яствами столом после охоты на кабанов. Всё, что не успевали найти или унести победители, подбирали на следующее утро жители окрестных селений.
Шведские солдаты, уходя в бой, прибегали на случай своего ранения к уловке: они клали все свои денежные сбережения – какие-то жалкие несколько монет – в рот. Ну а если Бог не даст, и ты в сражении отдашь ему душу, ну так что ж – денежки пропадали, но зато никому не доставались. И в этом тоже было утешение. И мародёры, заглядывая убитым в рот, лишали их этого утешения.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе