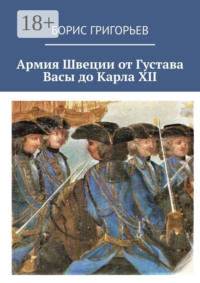Читать книгу: «Армия Швеции от Густава Васы до Карла XII», страница 6
Рутина войны
Померанца Йоакима Эрнста фон Крокова вряд ли можно было считать авантюристом. Он честно служил в шведской армии в звании полковника, участвовал в сражении под Виттроком, был ранен, но потом перешёл в лагерь противника и с 1643 года стал так же честно служить в армии императора Фердинанда III, но уже в звании генерал-вахмистра. По мнению Энглунда, фон Кроков был неплохим воином, но был подвержен внешнему влиянию и перед важными особами чувствовал себя неуверенно.
Когда-то, перед тем как перейти на службу к шведам, он служил в померанской армии, а разочаровавшись в шведах, вспомнил об интересах попранной ими Померании и решил выступить в защиту своей родины. Где-то смутно в его голове бродила даже мысль освободить Померанию от шведского ига. Он мало задумывался над общим раскладом сил в Германии, хотя вероятно понимал, что прогнать шведов из герцогства будет непросто, если вообще возможно, но он воевал, конечно, не за Померанию, а за себя.
Фон Кроков давно вынашивал идею т. н. померанской диверсии. Она не была такой уж необычной в этой войне, в которой были не только крупные сражения, глубокие походы, осады крепостей, но и мелкие стычки, полубандитские рейды, местные распри и маленькие локальные войны. Для многих тысяч кнехтов и офицеров Тридцатилетняя война происходила именно в таких миниформах. Фон Кроков сумел убедить имперское начальство, что с помощью небольшого мобильного корпуса можно будет, захватив Померанию, отрезать шведов от балтийского побережья и от их баз снабжения.
Идея была заманчива, и в конце июля 1643 года генерал-вахмистр во главе 4-тысячного корпуса (7 кавалерийских и 5 драгунских полков плюс 300 мушкетёров) вышел из Праги. Цели похода держались в строгой тайне. По пути его солдаты «заглядывали» в населённые пункты, как водится, собирали налог на пожар и «коллигировали», т.е. отбирали или воровали, средства пропитания. Крупный город Кюстрин в контрибуции фон Крокову, однако, отказал. Он хотел было наказать непокорных его жителей, но в это время получил сведения о приближении корпуса шведов под командованием фон Кёнигсмарка и поспешил удалиться. Оба генерала хорошо знали друг друга, и фон Кроков решил не рисковать. Поскольку прямой путь на север вдоль Одера теперь был отрезан, Крокову пришлось повернуть на северо-восток и сделать крюк через территорию Польши. Поляки протестовали, но ничего поделать не могли.
Пройдя Польшу и войдя в Померанию, Кроков приказал построить плоты, для чего «освободителям» Померании от шведского ига пришлось разрушить десятки домов, выломать в них все балки, полы и потолки, соорудить из них плоты, погрузить часть солдат и артиллерию и плыть по реке Персанте. При погрузке на шаткие плоты 50 солдат и две пушки ушли на дно реки, но это всё были мелочи – бóльшая часть людей и снаряжения всё-таки поплыла. Кавалерия шла по берегу реки. Курс был взят на Кольберг. До Кольберга и побережья оставались какие-то 30 км, когда пришлось делать внезапную остановку у городка Белград: поблизости снова появились шведы.
Кёнигсмарк стоял на границе Померании и для усиления своего корпуса приказал властям Штеттина срочно собрать хоть какое-то подкрепление. За выполнение приказа взялись Герхардт Реншёльд, отец будущего знаменитого полководца Карла XII, и его помощник Эрик Ёнссон, более известный потом под именем графа Эрика Дальберга. 8 октября кое-как одетые и вооружённые 300 мушкетёров вышли из Штеттина и замаршировали на соединение с Кёнигсмарком. Три дня спустя они соединились с главными силами корпуса в м. Лабес.
11 октября шведы в районе м. Драмбург вошли в соприкосновение с отрядом «папистов» и сильно их потрепали. Потом они наткнулись на стадо крупного рогатого скота, который охраняли 180 имперских кавалеристов и захватили тех и других. Рядом оказался обоз, состоявший из повозок с имуществом цесарских полковников, который тут же тоже стал собственностью шведов. Это была не война, а прямо-таки очень полезная прогулка.
В 30 км от Белграда встретился замок Шивельбайн с небольшим гарнизоном из 60 мушкетёров и 30 кавалеристов во главе с капитаном с говорящей фамилией Гутвайн (доброе вино). Подскакавших к его стенам шведских драгун угостили, правда, не вином, а пулями и картечью. Появились первые жертвы – убитые и раненые. Кёнигсберг не был готов к осаде замка, и корпус обошёл его стороной, оставив вокруг него «охрану» из 300 солдат. На подходе к Белграду шведы выстроились в боевой порядок и устремились на противника, надеясь вызвать его на открытый бой.
Длинный ряд правильных квадратных формирований, окаймлённых развевающимися на ветру разноцветными вымпелами и штандартами, подошёл к речушке Персанте, за которой виднелся город, окольцованный старой стеной и деревянным палисадом. Корпус Крокова расположился к западу от города вплотную к городской стене и речке, обезопасив себя земляным валом и четырьмя звездообразными редутами. Атмосфера вокруг была прямо идиллической: взорам шведов представились пасущееся за речкой стадо коров, и поднимающиеся кверху струйкой из лагеря имперцев дымки. И патриархальная тишина.
Идиллию нарушили три пушечные выстрела – имперцы вызывали противника на бой. Шведы ответили двумя выстрелами – вызов был принят. Но никаких действий ни с той, ни с другой стороны не последовало. Наступила напряжённая тишина.
Кёнигсмарк приказал нескольким кнехтам перебраться на противоположный берег Персанте и захватить для начала пару сотен коровок. Быстро смастерили мост, и коров под выстрелами имперцев быстро перегнали к себе. Потом у мостика сгрудились шведские эскадроны, чтобы перейти по ним и попытаться прощупать противника. Навстречу им вышли эскадроны противника, выстроились в боевой порядок и замерли в ожидании. Шведы тоже остановились, обдумывая свои дальнейшие действия.
На следующий день «спектакль» продолжился: шведы приступили к обстрелу позиций противника и города, а противник вёл себя по-прежнему пассивно и на вызов шведов не отвечал. Тяжёлой артиллерии у шведов не было, и ядра лёгких орудий большого вреда Белграду и укреплениям имперцев не причиняли. Они проделывали в городской стене и в домах жителей аккуратные дырки, но не более того. Тогда шведские артиллеристы стали стрелять калёными ядрами, чтобы поджечь город и заставить Крокова вывести корпус в поле. Технология стрельбы была простой: ядра накаляли в печках, быстро забивали их в дула и стреляли.
13 октября прошёл в непрерывной стрельбе по городу. В расположении противника начались пожары, их тушили, но они возникали снова и снова. Тогда осаждённые демонтировали крыши домов, полы в них посыпали песком, расставили кругом вёдра с водой и таким образом свели эффект от попадания калёных ядер до минимума. Потери от артиллерийского обстрела шведов снова оказались ничтожными: 1 юнкер и пара неосторожных мальчишек, отважившихся выбежать на улицу.
14 октября Кёнигсмарк приказал своим частям перейти реку и атаковать противника. Сказано – сделано. Скоро шведские боевые порядки – пехота и артиллерия в центре, кавалерия на флангах – возникли непосредственно перед городскими стенами. Имперцы затаились за своими укреплениями. Тогда Кёнигсмарк, в надежде выманить Крокова в чистое поле, отдал своим приказ переместиться на несколько километров вдоль реки в направлении к городу Кёрлин. И снова никакой реакции со стороны противника. Причина оказалась банальной: имперский корпус был сильно измотан предыдущими переходами, кони из-за недостатка фуража ослаблены и в бой не годились. Надежды на антишведский бунт померанского населения не оправдались – в первую очередь потому, что «освободители» вели себя в герцогстве не лучше врагов.
Кёрлин защищали около 30 драгун во главе с корнетом. При приближении шведов они открыли огонь, жертвами которого стали сержант и трое рядовых. Шведы бросились в атаку на замок и предложили его защитникам сдаться, но корнет, следуя принципам чести, отказался. Замок даже не подвергся артиллерийскому обстрелу, и сдача была бы преждевременной и позорной! Надо было удовлетворить честолюбие корнета, и шведы подкатили пушки и сделали по замку несколько выстрелов. На следующий день, убедившись, что помощи от Крокова ждать не приходится, корнет со своим гарнизоном сдался.
Вот так часто выглядела Тридцатилетняя война. Скучная и банальная по своей сути история. Никакой романтики, минимум приключений и почти полное отсутствие адреналина. Совсем не так, как на исторических полотнах: клубы дыма, разодетые в разноцветные мундиры кавалеристы на белоснежных конях, пышные плюмажи, мужественные благородные лица, указующие персты полковников, генералы с подзорными трубами, величественное зарево, предвещающее Большую Победу.
…Расчёты Кёнигсмарка выманить Крокова на честный бой не оправдывались. Тогда было принято решение очистить прилегающую местность от мелких гарнизонов имперцев и тем самым нанести им хоть какой-то урон. Кёнигсмарк был известен своей дерзостью и неутомимой последовательностью, и он с увлечением занялся этой неблагодарной «мелочёвкой». Нужно было торопиться: местность уже была «объедена» противником, и на долю шведов остались лишь какие-то крохи. Для пополнения запасов Кёнигсмарк отправил на север Герхарда Реншёльда и Э. Ёнссона, придав им для охраны 200 драгун.
Ноябрьские дни шведы успешно использовали для ликвидации имперских гарнизонов, а потом снова взялись за главные силы Крокова в Белграде. Реншёльд доставил из Кольберга два тяжёлых орудия, и обстрел города и замка стал более эффективным. Кроков, следуя совету своей опытной супруги, был вынужден переместить штаб-квартиру из замка в подвальную провиантскую камеру. Это не осталось незамеченным среди его офицеров, которые уже давно ворчали на командира и критиковали его за трусость и бездействие. Инцидент с переходом генерала в провиантскую только усилил недовольство в лагере имперцев.
Время для честного сражения со шведами было уже упущено. Если в начале октября корпус Крокова ещё численно превосходил корпус Кёнигсмарка и был вполне боеспособен, то теперь положение резко изменилось в пользу шведов. Шведы подвезли за этот месяц провиант, усилили артиллерию, нанесли потери живой силе противника, ликвидировав его мелкие гарнизоны, а теперь угрожали главным силам, уже сидевшим на скудном пайке.
Дух сопротивления у осаждённых упал ещё больше, когда пришло известие о капитуляции Шивельбайна. Шведская артиллерия не переставала бомбардировать позиции Крокова, голодные и замерзавшие в палатках от сырости и холода его подчинённые были рады только одному: найти сухое и тёплое место. О том, чтобы выходить и сражаться со шведами, не было и речи. На р. Персанте стал лёд, а скоро пошёл и снег. В лагере Крокова начались болезни и падежи лошадей.
Впрочем, и шведам было нелегко. Их терпение тоже имело границы. Однажды они разожгли в своём лагере большие костры и, оставив малочисленные патрули и дозоры, исчезли в поисках зимних квартир. Какое-то время ещё имели место стычки патрулей и дозоров, а потом и они прекратились. Всем стало ясно, что не сегодня, так завтра корпус Крокова уйдёт из Померании восвояси. Так зачем воевать?
Так и получилось. Бросив большой запас продуктов и амуниции, погрузив в повозки имущество командующего и офицерских жён, имперцы, как тати, в одну прекрасную ночь бежали из Белграда. Кёнигсмарк узнал об этом в тот же день от каких-то местных мальчишек и снарядил погоню. Но противник так торопился, что уставшие не менее его шведы догнать его не смогли. По пути им попадались только трупы замёрзших солдат, павшие лошади, застрявшие в грязи повозки и брошенное оружие.
Когда корпус Крокова в Бреслау соединился со своими, то из 4.000 человек у него осталось всего 1.200. Померанская диверсия завершилась, не достигнув ни одной своей цели. В Праге Крокова отдали под трибунал, на заседаниях которого ему долго пришлось препираться со своими подчинёнными. Ему повезло: ему снова доверили командовать войском, но он снова потерпел неудачу. Тогда он подал в отставку, перешёл на службу к полякам и летом 1646 года, ожидая похода на турок, скончался от лихорадки.
Шведы вроде бы одержали в Померании победу, но никто эту победу не праздновал.
Налоги на пожар и грабежи
Этот эвфемизм в переводе на обычный язык означал контрибуцию. В отличие от латинского, шведское слово brandskatt вполне точно раскрывает смысл этого мероприятия: «заплати налог, иначе город подожжём!»
Как правило, жителям города предлагалось собрать сумму денег, часто превышавшую их финансовые возможности. Впрочем, генералы были снисходительны, они специально завышали «налог» и часто удовлетворялись и меньшими суммами. Так в октябре 1639 году Банер от чешского города Рокычаны потребовал выплатить контрибуцию в размере 8.000 гульденов, но оставил город в покое, удовлетворившись семью тысячами гульденов, 18-ю драгоценными чашами и 5-ю кг серебра.
На следующий день пришла очередь небольшого городка Берун. На город наложили контрибуцию, но поскольку выплатить её жители не смогли, в городок вошёл отряд под командованием нашего однорукого знакомца Эрика Сланга. Полковник поделил солдат на небольшие группы. Размахивая оружием, они разбежались по улицам и предались грабежу и разбою: отнимали всё, что понравится, сдирали одежду со всякого встречного, особенно с женщин, и насиловали их. Они «освободили» от всего ценного все дома и церковь, а потом остригли наголо и насильно завербовали молодых парней в шведскую армию. Кто смог, убежал в лес, в котором многие потом умерли с голода. Перед уходом шведы разрушили, поломали и пожгли всё, что не смогли унести с собой. Когда имперцы вошли в город, они увидели его в белом цвете. Это был пух, выпущенный шведами из подушек и перин. Наволочки им понадобились для того, чтобы унести награбленное. На белой от перьев земле чернели трупы домашних животных, стариков и детей.
В 1645 году, когда армия Турстенссона находилась вблизи Вены, шведы с особой жестокостью разграбили монастырь монахов-бенедиктинцев. Сначала они «освободили» монахов от зерна и рогатого скота, а потом сломали все закуты, две мельницы и пилораму. Часовню монахов-капуцинов шведские кавалеристы приспособили для конюшни. Правда, против осквернения церковного имущества со всей силой своей власти выступил религиозный Турстенссон, но было уже поздно.
Всё зависело от степени злости этого генерала: если в груди его горел «пламенный огонь» ненависти, он плевал на контрибуцию и отдавал город на разграбление солдатам. И офицерам, конечно, тоже. А потом, изнасиловав женщин, пограбив частные дома и церкви, шведы поджигали город и уходили прочь. Те, у которых дома оставались целыми, считали, что им здорово повезло.
Значительная часть контрибуции и награбленного оседала в карманах и сундуках генералов и полковников – солдатам доставались лишь крохи, достаточные для того чтобы выпить и поесть досыта. Если при Густаве Адольфе контрибуция была средством содержания армии, то после его смерти, когда религиозная война переросла в завоевательную, грабительскую, контрибуция практически стопроцентно оседала в личных карманах военных.
После опустошительного рейда Банера по Богемии в 1639 году из 738 процветающих городов, 34 посёлков и сёл и 3-миллоннного населения остались всего 230 городов, 6 сёл и посёлков и 800 тысяч населения. Пожалуй, с таким размахом не работал даже Гитлер28!
Шведы под руководством Турстенссона успели «поработать» и в Моравии, и в Силезии. Что происходило в конце Тридцатилетней войны, свидетельствует судьба Праги, не взятой Ю. Банером, но доставшейся в 1648 году другому генералу – типичному кондотьеру в рядах шведской армии.
…На исходе войны, в июне 1648 года, пока главные силы шведов во главе с К. Г. Врангелем опустошали Баварию, корпус Х. К. Кёнигсмарка пересёк западную границу Богемии с единственной целью похозяйничать в наследных землях императора Фердинанда III. Шведы уже давно забыли, зачем они высадились в Германии. На заключительном этапе войны они думали только о том, как вознаградить себя за ратные труды за счёт местного населения. Но никто из марширующих по пыльным дорогам шведов – от фельдмаршал-лейтенанта Кёнигсмарка до последнего кнехта – и думать не мог о той добыче, которая им скоро должна была попасть в руки.
Кёнигсмарк был типичным генералом того времени, который любил войну ради личной наживы, а на солдат смотрел как на средство для достижения этой цели. Это был настоящий волк, кондотьер и авантюрист, вскормленный дымом сожжённых городов и трупным запахом сражений. Корпус шёл на Прагу, большой город с сильными крепостными сооружениями и многочисленным гарнизоном, усиленным отрядами городской милиции. Сил для взятия города у Кёнигсмарка было явно не достаточно – всего каких-то три с лишним тысячи пехотинцев и кавалеристов. Но у него был большой козырь – перебежчик из императорского лагеря подполковник Эрнст Одовальский, взявшийся показать шведам уязвимые места в пражской крепости.

Ганс Кристоф фон Кёнигсмарк (1660—1663)
Подполковник потерял на войне правую руку и был, вопреки своему желанию, уволен из императорской армии, т.е. практически выключен из жизни. В Тридцатилетней войне было много офицеров по обе стороны фронта, потерявших кто глаз, кто ухо, кто руку, а кто ногу, но остававшихся в строю. Зрелище зверской пиратской физиономии или изуродованного тела верхом на лошади было не таким уж редким. Всё объяснялось просто: солдат-инвалид вне армии просто не мог бы выжить. Армия и война были единственным средством остаться в живых, поэтому инвалиды цеплялись за своё место в строю с обречённостью тонущего, хватающегося за соломинку.
У Одовальского шведы сожгли его дом в Эгере, и он остался без средств к существованию. В мае 1648 года он вступил в контакт с Кёнигсмарком и попросился к нему на службу, что тоже было вполне обычным делом. Вероятно, Кёнигсмарк, увидев перед собой бесполезного калеку, приподнял в презрительной усмешке брови, но когда тот в оправдание своего ходатайства привёл веские аргументы, то у старого волка под париком зашевелились волосы: инвалид обещал провести шведов в Прагу, резиденцию императора Фердинанда, в которой свои сокровища хранили члены его собственной семьи и многочисленные кланы князей, графов, епископов. Город обладал просто библейскими сокровищами, и Кёнигсмарк не мог сказать Одовальскому «нет». Его поставили в строй.
Чтобы не насторожить противника, шведы продвигались скрытно. Они целый месяц, казалось, бессмысленно топтались в Богемии, делали замысловатые маневры и финты и относительно цели похода распространяли всякие ложные слухи. Наконец, 13 (24) июля 1648 года, оставив за собой Пльзень, корпус двинулся прямо на Прагу. Впереди шёл авангард из 200 кавалеристов и «чистил» путь от проезжающих и проходящих. Всякого, кто попадался им на пути, брали в плен, дабы слухи о приближении шведов к Праге не дошли до её защитников. Примерно в 50 км от города Кёнигсмарк оставил весь обоз и артиллерию под охраной 200 драгун, на высвободившихся коней посадили всю пехоту – 1.000 мушкетёров – и вместе с 2.000 кавалеристами 15 июля появился под Прагой.
На первых порах корпус спрятался в ближайшем к городу лесу. Стояла жара, в лесу было прохладно, над головами уставших кнехтов и кавалеристов распевали птички, и Кёнигсмарк в этой идиллической тишине объявил, наконец, всем о цели похода и сделал последние распоряжения к броску. Э. Одовальский составил список самых богатых и именитых жителей города, не забыв против каждой фамилии указать адреса проживания. Корпус разделили на штурмовые колонны и отряды, солдаты получили топоры, крюки и верёвки. Каждому подразделению выделили для грабежа отдельный дворец – практичные шведы делали всё с умом. Инструкции гласили, что каждого встречного с оружием в руках нужно было убивать на месте холодным оружием, а тех, кто покажется в окнах – расстреливать из мушкетов. Для опознания своих служили воткнутые в шляпы дубовые ветки.
Время в ожидании сумерек шведы провели в карточных играх. Дождавшись темноты, они вышли из леса и скоро подъехали к Белой горе. До стен города оставалось около 5 км. Кёнигсмарк в сопровождении Одовальского и 100 солдат пробрался в парк, в котором находился дворец императора «Звезда». Всё было тихо. И тут со стороны города раздался звон – били часы на городской башне. Всегда невозмутимый Кёнигсмарк стал нервничать: неужели их заметили, и в городе забили тревогу? Одовальский успокоил генерала и сказал, что часы били в Граджине, в Бревновском монастыре, и звали капуцинских братьев на мессу. Шведы спéшились и затаились. Одовальский с солдатами подкрался к самым западным воротам города. По-прежнему стояла мёртвая тишина. Город спал.
Шведам повезло. Пражане ремонтировали крепостные стены и с внешней стороны выкопали большую кучу земли, равную по высоте крепостной стене. Когда до рассвета оставалось около часа, дали сигнал к форсированию стены. Сотня солдат легко преодолела кучу и перепрыгнула с неё на крепостную стену. Там никого из защитников города не оказалось. Шведы были вооружены мушкетами и пистолетами, у некоторых из них подмышкой или за ремнём торчали топоры и кувалды, которыми можно было легко делать проломы в дверях и воротах. Отряд разделился: одна группа побежала к правым, а другая – к левым бастионам. Немногочисленные солдаты противника в короткой схватке были перебиты, и Одовальский с небольшой группой штурмующих бросился к воротам. Они пробежали мимо капуцинского монастыря, откуда доносился звон курантов, смяли стоявшую там стражу, открыли ворота и опустили подъёмный мост.
Теперь нужно было не терять время. Одовальский крикнул в темноту, и тут же перед ним выросли фигуры шведов. Они густой толпой повалили в ворота и ринулись внутрь города, где в соответствии с выработанным планом и рекомендациями Одовальского рассеялись по своим «объектам». Дальше всё было, как в кино: слабые отблески свечей в окнах, заметавшиеся в них тени жителей и солдат, крики, глухой топот ног, звон стёкол и треск проломленных дверей и калиток. Кто высовывался из окон или дверей наружу, тут же получал пулю в голову или шпагу в грудь. Шведы перекрыли единственный мост, по которому с восточного берега реки могла бы прийти помощь, и стали полновластными хозяевами Малой стороны.
Два графа – Чернин и Михна – пытались переправиться туда на лодке, но были застрелены посредине реки. Вскочившему в ночной рубашке коменданту города Коллоредо с лакеем и секретарём каким-то чудом удалось вырваться из западни, перебраться через крепостную стену и переправиться на рыбацкой лодке на восточный берег реки. Архиепископ Праги попал в плен. На Малой стороне началась такая паника, о которой с ужасом рассказывали несколько поколений её жителей.
К рассвету схватки закончились. 150 пражан и имперских солдат были убиты и 350 ранены. Шведы потеряли одного лейтенанта и семерых солдат.
Первый дворец на пути ворвавшихся в город шведов принадлежал Ярославу Боржита из Мартиниц29 – тому самому, которого 30 лет тому назад восставшие чехи-протестанты выбросили из окна Граджина, и полёт которого по законам тяготения земли положил начало Тридцатилетней войне30. Было что-то символичное в том, что граф стал жертвой войны, начавшейся в свалке, сопровождаемой риторикой борцов за свободу, и заканчивавшейся в свалке под знаком вандализма, воровства и насилия.

Художник Карл Свобода изобразил (в 1844 году) описанные события в своей картине под названием «Дефенестрация». Дворяне-протестанты выбрасывают имперских наместников из окна.
Ценности Граджина должны были попасть в казну Швеции, т. е. королеве Кристине. Когда шведы открыли двери, ведущие в сокровищницы дворца, и вошли в палаты, то от представившегося их взорам зрелища у них захватило дух. Они увидели коллекцию бывшего императора Рудольфа II под общим названием «Палата предметов искусства и раритетов», включавшую тысячи картин, скульптур, предметов оружия и ремесла, золотую и серебряную посуду, вазы, фарфор, драгоценные камни, хрусталь, старинные монеты, медали, инструменты, приборы, канделябры, отделанные драгоценностями сёдла и сбрую, мумии, высохшую человеческую кожу и многое другое.
Грабёж Малой стороны продолжался двое суток, и добыча оказалась сказочной. Только из подвалов комендантского дворца вытащили 12 бочек золотых дукатов и 2,5 тонны серебра. Во дворце графа Чернина взяли драгоценностей на сумму 100000 талеров. Такую же сумму захватили в одном монастыре. Рядовые солдаты нагребали деньги шляпами. Фельдмаршал-лейтенант Кёнигсмарк вывез из Праги 5 повозок золота и серебра. Но, несмотря на «допросы с пристрастием», хранителю дворца Эусебиусу Мизерону часть сокровищ всё-таки удалось утаить от разграбления и хищения.
Часть сокровищ тут же разворовали на месте, но бóльшая часть была всё-таки вывезена в Швецию и в ящиках доставлена в королевский дворец. Там от нетерпения сгорала королева Кристина, она бегала и суетилась вокруг горы ящиков и понукала своих слуг, чтобы они поскорее вскрыли упаковку. Шведской королеве достались 69 бронзовых фигур, 26 изделий из янтаря, 24 – из коралла, 660 агатовых кубков, 174 фаянсовые изделия, 403 индийских раритета, 16 дорогих часов, 185 изделий из благородных камней, 317 математических инструментов, несколько ящиков необработанных алмазов, несколько тысяч медалей, монет и около 500 картин, среди которых находились шедевры Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Тинторетто, Веронезе, Дюрера, Босха, Брюгеля, Гримера и др., не считая тысяч драгоценных книг и рукописей. (Шведские военачальники в Германии имели приказ не пропускать мимо своего внимания ценные книги и рукописи, «приобретать» их и посылать домой для оснащения Упсальского университета).
Дерзкий рейд Кёнигсмарка в Прагу стоил городу, по самым скромным подсчётам современников, около 7 млн. риксдалеров. Это была колоссальная по тем временам цифра31. Когда императорские чиновники через два дня вошли в зал, где хранилась коллекция императора Рудольфа II, то увидели лишь голые стены и полки, и их шаги гулко отдавались в пустоте.
Армии внушали страх главным образом не тем, что уничтожали и убивали себе подобных, а тем, что превращались в орду разнузданных грабителей и насильников. Да и что можно было ожидать от людей, привыкших к смерти и предававших смерти других людей?

Художник Жан Жорж Вибер «Перекличка после грабежа» (1866)
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе