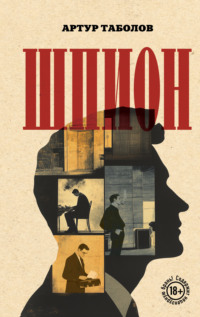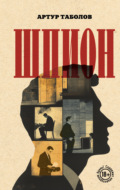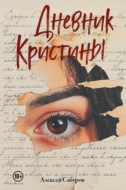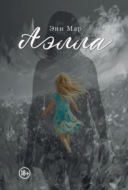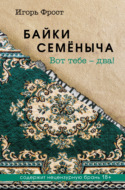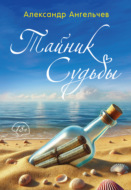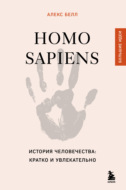Читать книгу: «Шпион», страница 2
3
Из протокола допроса подполковника Токаева майором Хопкинсом 14 декабря 1947 года:
– Продолжайте, Григорий. Что с вами происходило после начала войны?
– Сначала объясните, чем был вызван двухнедельный перерыв в допросах. Только не говорите, что вы были заняты другими делами. У вас есть только одно дело. Это дело – я.
– Вы подробно рассказали о своей работе в Военно-воздушной академии и о научных исследованиях, которые там велись. Я не мог оценить их достоверности. Ваши показания были отправлены нашим военным специалистам. Только сегодня я получил их заключение.
– Какое оно?
– В ваших показаниях не обнаружено признаков дезинформации.
– Это убедило вас в моей откровенности?
– Не совсем. Все, о чем вы рассказали, нашим экспертам было уже известно. Не спрашивайте, от кого. В Лондоне очень внимательно следят за военными работами в Советском Союзе. Относительно новым было только ваше сообщение о разработке авиационных ракетных двигателей. Наши эксперты выразили сомнение в том, что русские добились на этом направлении больших успехов.
– Что сможет развеять их сомнения? Налет на Лондон советских реактивных бомбардировщиков?
– Вы слишком мрачно оцениваете политическую ситуацию.
– Я оцениваю ее трезво. Вы еще не поняли, Джордж, что заставило меня поспешить с побегом? Скажу. Но сначала вопрос. Вашей разведке известно, какие части Красной Армии находятся на территории Германии?
– Полагаю, что да.
– Записывайте. В подчинении командующего Группой советских оккупационных войск маршала Соколовского находятся пять армий. На севере Германии 3-я Ударная армия со штабом в Магдебурге, на юго-западе 8-я Гвардейская армия со штабом в Веймаре, на северо-востоке 2-я Гвардейская механизированная армия и 1-я Гвардейская механизированная армия со штабом в Дрездене. Плюс 16-я Воздушная армия со штабом в Вольтерсдорфе. В нее входят девять истребительных дивизий, три штурмовых, шесть бомбардировочных и одна дивизия ночных бомбардировщиков, всего больше двух тысяч самолетов. В войсках поддержки – четыре артиллерийских дивизии, две танковые бригады и пять зенитно-артиллерийских дивизий. Прибавьте сюда части Красной Армии в Австрии и Польше. Вам это ни о чем не говорит?
– Вы предполагаете, что Сталин может попытаться захватить всю Европу?
– А вы этого не допускаете?
– В 1945 году, сразу после войны, такое развитие событий предполагал премьер-министр Черчилль. Силы союзников не могли бы противостоять Красной Армии. Поэтому все сохранившие боеспособность части вермахта, сдавшиеся нашим войскам, концентрировались в лагерях вдоль демаркационной линии. Они сохранили форму, проводили строевые учения, их оружие хранилось неподалеку на складах. В случае наступления русских они приняли бы на себя первый удар. Позже, когда Черчилль решил, что Сталин воевать не будет, всех немецких пленных отвели от границы и подвергли денацификации.
– Что заставило его принять такое решение?
– Американская атомная бомба.
– Черчилль поторопился, бомба Сталина не остановит. Он понимает, что американцы не рискнут применить ее в центре Европы. Это не Япония. Ничто не сможет остановить советские танки. За двое суток они смогут дойти до Ла-Манша. Они ждут только приказа.
– Почему вы считаете, что такой приказ может поступить?
– Я хорошо знаю обстановку в войсках. Они находятся в состоянии полной боевой готовности. В это же время США и Великобритания возвращают своих солдат на родину. Это очень опасно, нарушается баланс сил. Я настаиваю, Джордж, чтобы вы довели мою точку зрения до вашего руководства.
– Я это сделаю. А теперь давайте продолжим нашу работу.
– Спрашивайте…
4
Война, как стихийное бедствие, в одночасье меняет судьбы миллионов людей. Школьный учитель становится пехотинцем, институтский профессор – ополченцем, выпускница медицинского вуза – военврачом, токарь – артиллеристом. Так же, в один день, кандидат наук декан факультета авиационной техники академии имени Жуковского Григорий Токаев превратился в воентехника 1-го ранга и отбыл в распоряжение командира полка тяжелых бомбардировщиков, едва успев попрощаться с молодой женой.
Полк, входивший в Группу тяжелых бомбардировщиков особого назначения, базировался под Мичуринском на прифронтовом аэродроме в Никифоровке. Летом и осенью 1941 года эскадрильи Группы, состоявшие из самолетов СБ и ТБ-3 конструкции Туполева, имели задачей оказывать поддержку Отдельной 51-й армии под командованием генерал-полковника Кузнецова, оборонявшей Крым от 11-й германской армии генерал-майора Манштейна. Тяжелые бомбардировщики Группы доставляли в Керчь, в Багирово, на аэродром Семь колодцев горюче-смазочные материалы, новые двигатели, прожекторные установки, забрасывали десанты в немецкий тыл, бомбили эшелоны в Джанкое и Симферополе. Осень в Крыму выдалась ненастная, истребительная авиация немцев была прикована к земле туманами, почти все самолеты Группы благополучно возвращались на аэродром базирования.
Едва глохли мощные моторы, а пилоты и стрелки покидали кабины, к работе приступали аэродромные службы, одной из которых командовал воентехник Токаев. Натягивали на огромные машины маскировочные сети, заправляли топливные баки, подвешивали к фюзеляжам фугасы, пополняли боезапас. К утру все эскадрильи были готовы к новому вылету.
На стене аэродромной столовой висела черная тарелка репродуктора. Когда в ней умолкал стук метронома, все обращались в слух. Звучал голос Левитана, читавшего сводки Совинформбюро. И хотя составлены они были очень расплывчато, военные летчики прекрасно понимали, что означают слова «успешно отразили атаки превосходящих сил противника и нанесли фашистским оккупантам значительный урон в живой силе и технике». Они означали, что наступление немцев продолжается. Наши войска оставили Смоленск, был блокирован Ленинград, тяжелые оборонительные бои шли на подступах к Москве. В октябре немцы заняли Керчь, части Красной Армии отступили из Крыма на Таманский полуостров.
Двадцать пять самолетов Группы тяжелых бомбардировщиков особого назначения перебазировались на аэродром Грабцево под Калугой, началась подготовка к Вяземской воздушно-десантной операции. Надежно замаскировать эскадрильи не удалось. 27 января 1942 года аэродром в Грабцево подвергся ожесточенной бомбардировке. Массированный налет «Юнкерсов-88» и «Хейнкелей-111» уничтожил четыре самолета 1-го полка, три самолета 3-го полка, 14-й полк и 4-я отдельная эскадрилья ВДВ потеряли по два ТБ-3 и еще один самолет из состава 7-го авиационного полка. При повторном налете немецкой авиации 3 февраля были сожжены еще два бомбардировщика, проходившие в Грабцево ремонт после первого налета.
Вяземскую операцию пришлось отложить и отказаться от использования прифронтовых аэродромов. Высадку десанта под Вязьму проводили во второй половине февраля 1942 года, самолеты вылетали из подмосковного аэродрома в Монино.
В последних числах февраля воентехник Токаев получил краткосрочное увольнение и на попутных военных грузовиках добрался до Москвы. Город встретил его безлюдными улицами, аэростатами воздушного заграждения в скверах и заклеенными крест-накрест бумажными полосками окнами домов. Так москвичи надеялись уберечь стекла при бомбежках. Половина квартир в его доме пустовала после поспешной эвакуации из Москвы. Его комната тоже была пустой. В последнем письме, которое Григорий получил, Аза написала, что научно-исследовательский институт, в котором она работала, эвакуируют на Урал. Больше писем не было. Он посидел в пустой комнате со следами поспешных сборов и вернулся в Монино.
Месяца через три, ночью, на самолетную стоянку, где работала команда Токаева, прибежал посыльный и доложил, что воентехника срочно вызывают в штаб. Начальник штаба вручил ему предписание. Григорию Токаеву надлежало прибыть в распоряжение командования Военно-воздушной академии имени Жуковского. Но не в Москву, а в Свердловск, куда была эвакуирована академия. На следующий день он вылетел в Свердловск.
Вернуться к прерванной работе над реактивными двигателями, на что рассчитывал Григорий Токаев, не получилось. В ВВС остро не хватало специалистов, подготовка авиационных инженеров стала с началом войны главной задачей академии. Сотни выпускников оканчивали академию и уходили на фронт, столько же проходили переподготовку на ускоренных курсах. Ученые занимались методикой размагничивания бронекорпусов самолетов-штурмовиков, изобретали новые фугасные бомбы и кумулятивные боеприпасы, разрабатывали рекомендации для повышения точности бомбометания, по выбору оптимальных режимов полета и работы двигателей для увеличения дальности полета. Только в редкие свободные часы Токаев возвращался к расчетам турбореактивных и жидкостных реактивных двигателей, которые должны прийти на смену винтомоторной поршневой авиации. Повышение мощности поршневых двигателей не давало эффекта. При скоростях свыше семисот километров в час заметного прироста скорости не удавалось достичь, этот путь развития авиации был тупиковым.
В академию поступали разведданные об авиации Германии и ее союзников, и союзников СССР. Еще в 1940 году совершили пробные полеты первые реактивные самолеты «Кампини-Капрони», созданные в Италии. В 1941 году в Англии был испытан самолет «Глостер» с реактивным двигателем, а в 1942 году США испытали реактивный самолет «Айрокомет». Вскоре в Англии был создан реактивный самолет «Метеор», он принимал участие в войне.
В середине войны на вооружение люфтваффе поступили реактивные истребители «Мессершмидт-262», «Мессершмидт-163» и «Хейнкель-162». По скорости и маневренности они намного превосходили наши Илы и Ла. И только ограниченные возможности промышленности Германии не позволили немецким летчикам господствовать в воздухе.
В Советском Союзе тоже занимались реактивной авиацией в конструкторских бюро Королёва и Цандера. В начале 1942 года летчик-испытатель Бахчиванджи совершил первый полет на отечественном истребителе БИ-1 с жидкостным реактивным двигателем. Вскоре при испытании этого самолета Бахчиванджи погиб, работы были приостановлены. Возобновились они только после войны и привели к созданию Як-15 и МиГ-9 с немецкими реактивными двигателями.
Григорий Токаев несколько раз подавал руководству академии докладные с предложениями включить в планы исследования в области реактивной авиации, всякий раз они отклонялись. У академии были более важные задачи.
В 1943 году Военно-воздушная академия вернулась из Свердловска в Москву. Еще через некоторое время из эвакуации вернулся научно-исследовательский институт, в котором работала Аза. Увидеть жену и дочь живыми и здоровыми – это был неожиданный подарок судьбы. Выяснилось, что институт Азы тоже был в Свердловске, всего в нескольких кварталах от академии. Она сохранила все письма от мужа. А почему он не получал писем от нее, так и осталось неизвестным.
День Победы Григорий Токаев с семьей встретил на Красной площади вместе с тысячами москвичей. В два часа ночи по радио объявили, что будет передано важное сообщение. В два часа десять минут диктор Левитан прочитал Акт о капитуляции фашистской Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая Днем Победы. Люди выбегали из домов и шли на Красную площадь. Все поздравляли друг друга, многие плакали. Вечером прозвучал салют из тридцати залпов, московское небо расцветилось фейерверками. Ими Григорий и Аза любовались из своего дома. Дочь мирно спала, Григорий и Аза стояли обнявшись у окна. Начиналась новая жизнь. Какой она будет? Очень хотелось верить – счастливой.
Через две недели майора инженерных войск Токаева вызвал заместитель наркома внутренних дел СССР генерал-полковник Серов.
5
Вызов к Серову, доставленный курьером НКВД, встревожил Григория Токаева. С госбезопасностью, недавно ставшей частью наркомата внутренних дел, он никогда не сталкивался. В академии, как и во всех учреждениях, существовал первый отдел, предупреждавший разглашение государственной тайны и осуществлявший постоянную слежку за сотрудниками. Григорий знал, что и на него там заведено дело. Но в нем, как Токаев предполагал, нет никаких компрометирующих его сведений, иначе его судьба сложилась бы по-другому. Но это не успокаивало. На памяти Григория было немало случаев, когда сотрудники академии с большими заслугами и безупречными репутациями исчезали бесследно, и никто не интересовался их участью – это было опасно. Успокоив, как мог, жену, испуганную неожиданным вызовом, Григорий отправился на Лубянку.
К заместителю наркома его вызвали на четырнадцать часов. В половине второго он вошел в четвертый подъезд здания на Лубянской площади и предъявил повестку дежурному в бюро пропусков. Пропуск майору Токаеву был заказан. Дежурный выписал пропуск, но ему не отдал, позвонил куда-то по внутреннему телефону и попросил подождать. Минут через десять появился младший лейтенант, взял пропуск, проверил документы Григория и распорядился:
– Следуйте за мной.
Они вошли в лифт и поднялись на пятый этаж. Григорий с интересом осматривался. Удивили очень длинные коридоры, которые, как казалось, опоясывали все здание. По сторонам находились кабинеты с дубовыми дверями, без табличек, только с номерами. Коридоры были пустыми. Лишь изредка навстречу попадались военные с папками в руках и хмурыми лицами. Возле одного из кабинетов сопровождающий остановился:
– Входите.
Это была просторная сумрачная приемная. Лейтенант передал повестку и пропуск Токаева дежурившему в приемной полковнику. Тот приказал:
– Ждите, вас вызовут.
Ждать пришлось минут сорок. Наконец раздался негромкий зуммер, полковник открыл тяжелую дверь:
– Заходите.
В глубине огромного кабинета за письменным столом с телефонами спецсвязи сидел невысокий человек лет сорока в мундире с погонами генерал-полковника, с простоватым лицом и ранними залысинами. На столе перед ним лежала папка с документами, которые он просматривал. Григорий понял, что смотрели его личное дело. Он доложил:
– Товарищ генерал-полковник, майор Токаев по вашему приказанию прибыл.
– Вижу, что прибыл, – неприветливо отозвался Серов. – Садись, майор. Тут написано, что ты осетин. Это так?
– Так, товарищ генерал-полковник.
– Как звали отца?
– Ахмат.
– А почему ты Александрович?
– Так написали.
– Женат?
– Да, жена инженер-химик.
– Дети есть?
– Дочь, ей семь лет.
– Это хорошо. Родители живы?
– Нет.
– Родственники есть?
– Есть. Сестра Нина, двоюродный брат Темур Бегазаевич, они живут в Москве, двоюродный брат Хагуди Гедоевич, живет в Нальчике, племянник Харитон Дзибаевич, он в поселке Мизур в Осетии.
– Ты понимаешь, Токаев, что их судьба зависит от тебя? Они будут расплачиваться за все твои ошибки.
– В чем меня обвиняют?
– Пока ни в чем. Это я так, на будущее. Продолжим. – Серов перелистнул документы в деле. – Награды: «Отличник РККА», медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». Ну, это многим давали. А орден Красной Звезды за что? Ты же не воевал. Вот запись: «В боевых действиях участия не принимал, ранений и контузий не имеет».
– Я служил в бомбардировочной авиации, в аэродромном обслуживании. Аэродромы были прифронтовые. А что не ранен, просто повезло, многие погибали.
– Мне рекомендовали тебя как человека, который разбирается в ракетах, – продолжал Серов.
– В авиационных реактивных двигателях, – уточнил Григорий. – Я занимаюсь этой тематикой много лет. Это будущее нашей авиации.
– Тут сказано, что ты три раза подавал докладные руководству академии. Предлагал включить эту тему в планы. Почему твои предложения отклоняли? Они что, не понимали их важности?
– Понимали. Не стоит подозревать руководство академии во вредительстве. Перед академией тогда стояли другие задачи.
Серов нахмурился.
– Кого подозревать во вредительстве, а кого не подозревать, это не тебе решать. Это решать нам. Тут сказано, что ты знаешь немецкий язык. Это так?
– Знаю.
– Откуда?
– Много материалов было на немецком языке, – объяснил Григорий. – Немцы продвинулись в реактивной технике дальше нас. Пришлось изучить. Начал с работ Эйгена Зенгера. Еще до войны он опубликовал статью о возможности создания дальнего ракетного бомбардировщика. Потом вышла его книга о проекте «Зильберфогель» – реактивном самолете «Серебряная птица». В ней было много конструктивных идей.
– Эйген Зенгер, – повторил Серов. – Знакомая фамилия. Есть разведданные, что он сбежал во Францию. Его нужно заполучить и вывезти к нам.
– Товарищ генерал-полковник, почему вы мне об этом говорите? – рискнул спросить Григорий.
– Потому что этим придется заниматься тебе. Под моим руководством. Вижу, что ты к этой работе готов. Свободен, майор. Жди приказа.
В сопровождении того же младшего лейтенанта Григорий миновал бесконечные коридоры Лубянки и вышел на площадь. Был серый денек, накрапывал дождь. Возле «Детского мира» тянулась длинная очередь, что-то давали. Григорий чувствовал, что в его жизни наступает новый крутой поворот.
Приказ пришел через две недели. Майору Токаеву предписывалось вылететь в Берлин. Там уже был генерал-полковник Серов, исполнявший обязанности заместителя главноначальствующего Советской военной администрации Германии маршала Жукова и уполномоченного НКВД СССР по Группе советских оккупационных войск. Ему было поручено организовать поиск и отправку в Советский Союз немецких архивов и ученых, работавших с Вернером фон Брауном.
6
Из протокола допроса подполковника Токаева майором Хопкинсом 24 декабря 1947 года:
– Итак, вы получили приказ прибыть в Берлин. Когда это было?
– В первых числах июня 1945 года.
– Ехали поездом?
– Нет, самолетом.
– С какого аэродрома вылетели?
– Из Внукова.
– На каком самолете летели?
– На военно-транспортном Ли-2.
– Летели один?
– Нет, с группой военных летчиков.
– Сколько их было?
– Человек пятнадцать. Их направили в 16-ю Воздушную армию.
– Как вы это узнали?
– Рассказал знакомый офицер. Он проходил переподготовку у нас в академии.
– Куда прилетели?
– В Иоганисталь.
– Сколько времени продолжался полет?
– Около пяти часов.
– Кто вас встретил на аэродроме?
– Капитан Квашнин из Смерша на «виллисе». Он с самого начала был прикреплен ко мне. Осуществлял оперативное сопровождение.
– Что это значит?
– Охранял и помогал в работе. Когда было нужно задействовать дополнительные силы.
– Какие силы?
– Обычно до десяти солдат. Когда находили архивы и нужно было их вывезти. Особенно когда они были в западных оккупационных зонах.
– Он следил за вами?
– Постоянно, это входило в его обязанности.
– Как вы об этом узнали?
– За всеми следили. Это все знали.
– За вами следил только капитан Квашнин?
– Думаю, что нет, у него были люди. Но их я не знаю.
– Значит, на аэродроме в Иоганистале вас встретил капитан Квашнин. Куда он отвез вас?
– В Карлсхорст, там было все командование группы наших войск. Я доложил генерал-полковнику Серову о прибытии и получил сутки на обустройство.
– Где вы поселились?
– С неделю жил в офицерском общежитии в Карлсхорсте, потом снял комнату у немецкой семьи возле Трептов-парка. Комнату мне нашел Квашнин.
– Все старшие офицеры Красной Армии квартировали в Карлсхорсте. Почему вам разрешили поселиться не там?
– Не знаю. В Карлсхорсте все было занято. Думаю, что капитан Квашнин получил согласие своего начальства.
– Как вы добирались от Трептов-парка до места службы?
– Мне выделили машину с водителем. Сначала старый «фольксваген». Но он часто ломался, его сменили на «ганзу».
– Водитель был советским военнослужащим?
– Нет, немцем. Его звали Норберт Биндер. Я платил ему двести марок в месяц, расходы мне компенсировали в финчасти. А до него был другой водитель, Вилли Брем. Но он плохо знал машину, не мог устранить даже мелкую поломку. Поэтому я его заменил.
– Вы все время ездили с водителем?
– Нет, иногда я его отпускал и сам садился за руль. Когда не хотел, чтобы о моей поездке знали.
– Ваши водители были осведомителями Смерша?
– Я этого не исключал.
– Вы сказали, что вашим заданием был поиск немецких архивов и ученых, работавших в ракетной программе фон Брауна. Как вы стали секретарем Контрольного союзного совета?
– Это получилось случайно. Однажды в кабинет Серова вошел маршал Жуков. Я как раз докладывал о ходе работ. Серов представил меня. Георгий Константинович спросил: «Грамотный?» Серов ответил: «Кандидат технических наук» – «Почерк хороший?» – «Разборчивый» – «Годится. Пошли, будешь вести протоколы». В Совет входили генерал Эйзенхауэр, фельдмаршал Монтгомери и генерал де Тассиньи. На заседаниях Совета я сидел рядом с Жуковым, маршал мне доверял. Потом Жукова отозвали в Москву и назначили главнокомандующим Сухопутными силами. Его заменил генерал армии Соколовский. Немного позже он стал маршалом.
– О Контрольном совете мы еще поговорим. Вернемся к началу вашего пребывания в Берлине. Вы жили один?
– До конца мая 1946 года один. Потом мне разрешили вызвать жену и дочь.
– Мы знаем, что очень редко кому разрешали вызвать семью в Берлин. Только высшим руководителям СВАГ1. И то не всем. Почему для вас сделали исключение?
– Получилось так. Однажды меня вызвал к себе маршал Соколовский. Ему сообщили, что я замечен в сомнительной связи.
– Кто сообщил? Капитан Квашнин?
– Вряд ли, на Соколовского у него не было выхода. Его начальником был Серов.
– Значит, Серов?
– Возможно. Я не стал спрашивать, а Соколовский бы не ответил.
– Что за связь?
– С одной немкой.
– С кем?
– С Эльзой Рихтер, певицей из ресторана отеля «Кронпринц» на Курфюрстендамм.
– Курфюрстендамм находится в британской оккупационной зоне. Как вы туда попали?
– В Берлине границ нет, я мог свободно ездить по всему городу.
– Продолжайте. Эльза Рихтер была вашей любовницей?
– Да.
– Как вы с ней познакомились?
– В ресторане отеля «Кронпринц» у меня была встреча с человеком, который мог знать об одном ученом-ракетчике, сотруднике фон Вернера. Встреча закончилась вечером. Шел сильный дождь. Эльза как раз вышла из отеля. Я предложил ее подвезти, она села ко мне в машину. По дороге разговорились. Ей было двадцать пять лет. Она рассказала, что муж погиб на восточном фронте, живет одна с дочерью четырех лет. Дочь заболела воспалением легких, нужны антибиотики, а лекарства на черном рынке очень дорогие. Я пообещал помочь, достал пенициллин в нашем госпитале и передал Эльзе. Она пригласила меня к себе. У нее была комната на Фридхофштрассе возле старого немецкого кладбища.
– Как часто вы с ней встречались?
– Когда как. Иногда раз в неделю, иногда реже. Зависело от моей занятости на службе.
– Как это происходило?
– Я подъезжал на машине к «Кронпринцу» к тому времени, когда она заканчивала выступление. Она садилась ко мне, ехали к ней.
– Вы заходили в отель?
– Нет. В ресторане всегда было много американцев, англичан и богатых немцев из спекулянтов. Русский офицер вызывал бы ненужный интерес. Я не хотел привлекать к себе внимание.
– О вашей связи доложили Соколовскому. Что он вам сказал?
– Могу повторить, но вы не поймете.
– Ругался?
– Это мягко сказано. Сказал, что я безответственный кобель и это до добра не доведет. Кто знает, кто такая эта певичка и с кем она связана. И он бы немедленно отправил меня в Москву, если бы не важность работы, которой я занимаюсь.
– Что вы ответили?
– Что я мог ответить? Что все мы кобели, кто больше, кто меньше.
– А он что?
– Сказал, что есть только один способ это прекратить. И приказал вызвать в Берлин жену. Аза с Беллой приехали через месяц. Больше с Эльзой я не встречался.
– Как приезд вашей семьи воспринял Серов?
– Был очень недоволен. Он с самого начала относился ко мне с подозрением. Вообще-то он всех подозревал, такой человек…
Комментарий майора Хопкинса: «Показания подполковника Токаева кажутся достоверными в части обстоятельств его переезда в Берлин. Его описание здания НКВД на Лубянке соответствует сведениям, полученным нами ранее от других источников. Вместимость самолета Ли-2 и время полета из Москвы до аэродрома в Иоганистале также названы правильно. Сомнения вызывает причина, по которой ему разрешили жить вне Карлсхорста. Из этого района Берлина, контролируемого советскими патрулями, ему было бы гораздо труднее выехать в британский сектор, что он сделал 3 ноября 1947 года.
Особое внимание обращает на себя странное разрешение Токаеву вызвать в Берлин семью. Если правильны наши подозрения о том, что Токаев является советским агентом, которого готовили к внедрению в Великобританию, можно предположить, что он заранее поставил условием своего согласия уход на Запад вместе с семьей.
Подозрительность к Токаеву генерал-полковника Серова можно объяснить тем, что внедрение агента готовили советские спецслужбы, не подчиненные Серову, втайне от него и его сотрудников. Что говорит об очень высоком уровне секретности операции.
Считаю необходимым:
1. Уход на Запад такого секретоносителя, каким является подполковник Токаев, расценивается в СССР как государственная измена и влечет за собой репрессии по отношению к его родственникам и друзьям, оставшимся в Советском Союзе. Нужно найти возможность узнать о судьбе его сестры Нины, двоюродных братьев Темура и Хагуди, племянника Харитона и ближайших сотрудников Токаева в Военно-воздушной академии имени Жуковского.
2. Навести справки о капитане Квашнине, которому была поручена слежка за подполковником Токаевым. Побег его подопечного должен был привести к серьезным дисциплинарным мерам вплоть до разжалования и предания суду.
3. Дать задание нашей агентуре в Германии встретиться с певицей отеля “Кронпринц” Эльзой Рихтер и проверить достоверность сведений, сообщенных Токаевым».
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+8
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе