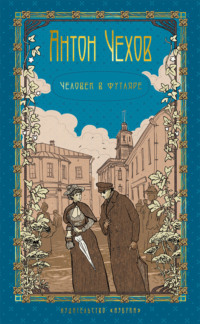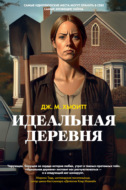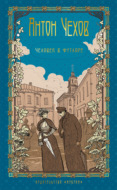Читать книгу: «Человек в футляре», страница 2
Профессия, как и мировоззрение, искажает мир. «Какой скелет!» – кричал, согласно старому анекдоту, профессор-анатом, аплодируя в концертном зале арии Шаляпина. В рассказе С. Довлатова жена-машинистка не может читать произведения мужа-писателя: она их набирает.
Доктор Чехов, постоянно используя профессиональные знания, боится профессионального взгляда. В письме к молодой писательнице он яростно защищает коллег-гинекологов: больше всех зная о женской природе, они остаются идеалистами, страстно тоскующими по поэзии (Е. М. Шавровой, 16 сентября 1891 г.; П 4, 373).
Наблюдая за другой своей знакомой, он даже в ее смертельной болезни усматривает проявление жизненной силы и жизненной нормы. «…Старшая дочь, женщина-врач – гордость всей семьи и, как величают ее мужики, святая, – изображает из себя воистину что-то необыкновенное. У нее опухоль в мозгу; от этого она совершенно слепа, страдает эпилепсией и постоянной головной болью. Она знает, что ожидает ее, и стоически, с поразительным хладнокровием говорит о смерти, которая близка. Врачуя публику, я привык видеть людей, которые скоро умрут, и я всегда чувствовал себя как-то странно, когда при мне говорили, улыбались или плакали люди, смерть которых была близка, но здесь, когда я вижу на террасе слепую, которая смеется, шутит или слушает, как ей читают мои „Сумерки“, мне уж начинает казаться странным не то, что докторша умрет, а то, что мы не чувствуем своей собственной смерти и пишем „Сумерки“, точно никогда не умрем» (А. С. Суворину, 30 мая 1888 г.; П 2, 278).
Через три года Чехов продолжит и подчеркнет эту мысль в некрологе З. М. Линтваревой: «В то самое время, когда вокруг нее зрячие и здоровые жаловались порой на свою судьбу, она – слепая, лишенная свободы движений и обреченная на смерть – не роптала, утешала и ободряла жаловавшихся» (16, 258).
Нервность – страх – психопатия – душевная боль – припадок – мания. Проходя по невидимым ступеням душевной лестницы, Чехов все время помнит о норме. Случаи явной патологии, иногда обсуждаемые в письмах, обычно остаются за рамками чеховского художественного мира. «На редкость неинтересные преступления», – скажет он, вернувшись с Сахалина. В письме обсудит случай эротического помешательства (А. С. Суворину, 18 мая 1891 г.; П 4, 233), но в «Припадке» даст совершенно иной – бытовой, «прозаичный и неинтересный», – облик падших женщин («Чем же он победил ее сердце? – спросил Васильев. – Тем, что купил ей белья на пятьдесят рублей»).
Первый шаг в преодолении страха – простое открытие многообразия, разноплановости бытия, открытие другого. В мире Чехова люди часто не подозревают друг о друге: жизнь и смерть, печаль и радость сосуществуют, не отменяя и не опровергая друг друга. Так, выяснение отношений между отцом и сыном в рассказе «Дома» предваряется неслучайным описанием: «Был девятый час вечера. Наверху, за потолком, во втором этаже кто-то ходил из угла в угол, а еще выше, на третьем этаже, четыре руки играли гаммы. Шаганье человека, который, судя по нервной походке, о чем-то мучительно думал или же страдал зубной болью, и монотонные гаммы придавали тишине вечера что-то дремотное, располагающее к ленивым думам. Через две комнаты в детской разговаривали гувернантка и Сережа».
В рассказе «В сарае» (1887) люди мирно играют в карты, поглядывая на дом напротив, где произошло самоубийство.
Сходный по функции и настроению эпизод есть в «Почте». Потерявший надежду на общение студент «сонно и хмуро поглядел на завешанные окна усадьбы, мимо которой проезжала тройка. За окнами, подумал он, вероятно, спят люди самым крепким, утренним сном и не слышат почтовых звонков, не ощущают холода, не видят злого лица почтальона; а если разбудит колокольчик какую-нибудь барышню, то она повернется на другой бок, улыбнется от избытка тепла и покоя и, поджав ноги, положив руки под щеку, заснет еще крепче».
В «Счастье» (1887) мир будет увиден с иной, более высокой точки зрения и уже не героем, а самим повествователем. За спинами тоскующих, вздыхающих о прошлом людей возникнет второй план, потом третий – бесконечное пространство, простор, внушающий уже не страх, а надежду. «Солнце еще не взошло, но уже были видны все курганы и далекая, похожая на облако, Саур-Могила с остроконечной верхушкой. Если взобраться на эту Могилу, то с нее видна равнина, такая же ровная и безграничная, как небо, видны барские усадьбы, хутора немцев и молокан, деревни, а дальнозоркий калмык увидит даже город и поезда железных дорог. Только отсюда и видно, что на этом свете, кроме молчаливой степи и вековых курганов, есть другая жизнь, которой нет дела до зарытого счастья и овечьих мыслей».
В рассказе «По делам службы» (1898) кончает с собой неврастеник Листницкий. В этом самоубийстве следователь находит нечто симптоматичное, даже обнадеживающее: «Прежний так называемый порядочный человек стрелялся оттого, что казенные деньги растратил, а теперешний – жизнь надоела, тоска…»
А потом, после ночного кошмара, он сам попадает в атмосферу нервности, душевного неблагополучия и чувствует муки совести без вины виноватого. «И теперь, когда у Лыжина сильно билось сердце и он сидел в постели, охватив голову руками, ему казалось, что у этого страхового агента и у сотского в самом деле есть нечто общее в жизни. ‹…› И он чувствовал, что это самоубийство и мужицкое горе лежат и на его совести; мириться с тем, что эти люди, покорные своему жребию, взвалили на себя самое тяжелое и темное в жизни, – как это ужасно!»
Следователь и доктор повторно едут на вскрытие зимним нерадостным утром, когда даже природе «стыдно за свой разгул, за безумные ночи и волю, какую она дала своим страстям».
Другой доктор («Случай из практики», 1898) приезжает по вызову к дочке владелицы фабрики, приходящей в себя после припадка, и вместо лечения ведет с ней долгие терапевтические разговоры.
В этом рассказе с пугающей простотой обнаруживается мотив абсурда социальной реальности. По пути Королев встречает рабочих, в лицах и походке которых угадываются «физическая нечистота, пьянство, нервность, нервность и растерянность». Семейство хозяев – «бабье царство», состоящее из неграмотной, запуганной старухи-матери, ее дочери, «наследницы пяти громадных корпусов», измученной страхом перед жизнью, и гувернантки Христины Дмитриевны, как оказывается, единственной счастливицы в этом холодном доме.
«Тут недоразумение, конечно, – думал он, глядя на багровые окна. – Тысячи полторы-две фабричных работают без отдыха в нездоровой обстановке, делая плохой ситец, живут впроголодь и только изредка в кабаке отрезвляются от этого кошмара; сотня людей надзирает за работой, и вся жизнь этой сотни уходит на записывание штрафов, на брань, на несправедливости, и только двое-трое, так называемые хозяева, пользуются выгодами, хотя совсем не работают и презирают плохой ситец. Но какие выгоды, как пользуются ими? Ляликова и ее дочь несчастны, на них жалко смотреть, живет в свое удовольствие только одна Христина Дмитриевна, пожилая, глуповатая девица в pince-nez. И выходит так, значит, что работают эти пять корпусов и на восточных рынках продается плохой ситец для того только, чтобы Христина Дмитриевна могла кушать стерлядь и пить мадеру».
(Мысль Королева отзовется в расстановке персонажей «Вишневого сада». В чеховской комедии время от времени чувствуют себя несчастными все – и проигравшие старые хозяева, и победитель Лопахин, – и лишь жизнерадостный мерзавец Яша, ничем не смущаясь, ни о чем не жалея, лакает шампанское на поминках прошлого.)
В долгой откровенной беседе доктора с девушкой снова возникает мотив противопоставления времен, тогда и теперь. «Вы в положении владелицы фабрики и богатой наследницы неспокойны, не верите в свое право и теперь вот не спите, это, конечно, лучше, чем если бы вы были довольны, крепко спали и думали, что все обстоит благополучно. У вас почтенная бессонница; как бы ни было, она хороший признак. В самом деле, у родителей наших был бы немыслим такой разговор, как вот у нас теперь; по ночам они не разговаривали, а крепко спали, мы же, наше поколение, дурно спим, томимся, много говорим и все решаем, правы мы или нет».
Доктор уезжает с фабрики в праздничный весенний день, под пение жаворонков и звон церковных колоколов, думая «о том времени, может быть уже близком, когда жизнь будет такою же светлою и радостной, как это тихое воскресное утро». Люди и мир меняются – природа остается прежней, напоминая о надежде, осуществленной гармонии, норме.
В конце ночного разговора доктор заглядывает в более определенное будущее. «Хорошая будет жизнь лет через пятьдесят, жаль только, мы не дотянем. Интересно было бы взглянуть».
Через пятьдесят лет в Советском Союзе был год 1948-й, а Дж. Оруэлл писал свою антиутопию «1984». Мир Чехова казался (или оказался?) в середине ХХ века потерянным раем, а чеховские герои – счастливыми неврастениками.
Страдающего сейчас человека обычно не спасает мысль, что раньше было (или позже будет) хуже. Но утешает – пусть даже призрачная – надежда. «Мало ли куда можно уйти хорошему, умному человеку» – «Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах…»
В конце повести «В овраге» (1900) есть замечательная сцена, может быть, одна из самых потрясающих душу сцен в русской литературе. Возвращаясь из больницы с мертвым ребенком, посреди буйства и радости весенней природы, Липа встречает в поле неизвестных людей, простых мужиков, один из которых пожалел ее («взгляд его выражал сострадание и нежность»), произнес самые простые приличествующие случаю слова: «Ты мать, – сказал он. – Всякой матери свое дитя жалко».
И эта фраза, и этот взгляд потрясают Липу. «„Вы святые?“ – спросила Липа у старика. – „Нет. Мы из Фирсанова“. – „Ты давече взглянул на меня, а сердце мое помягчило. И парень тихий. Я и подумала: это, должно, святые“».
Оказывается, если и есть на свете святые, то они живут в самом обычном Фирсанове. И святостью в глазах Липы оказываются вещи самые обычные и простые – доброта, жалость, внимание к ближнему.
«Святость» оказывается синонимом человеческой нормальности. А эта «норма» становится исчезающим исключением. И все же она неистребима. В мире Чехова «искра Божья» вдруг сверкает в самых разных обстоятельствах, надежда возникает на самом краю безнадежности. «Твое горе с полгоря. Жизнь долгая – будет еще и хорошего и дурного, всего будет. Велика матушка Россия!»
Но и самая долгая жизнь когда-нибудь подходит к концу. Надеясь, мучаясь, радуясь, страдая то от многолюдства, то от одиночества, убегая и возвращаясь, чеховский человек (как и всякий человек вообще) приближается к своему последнему испытанию.
Смерть героя: память и забвение
В художественном мире, в отличие от реального, смерть героя не имеет всеобще принудительного значения. Чаще всего бессмертны (или временно смертны) герои эпоса и сказки, неуязвимы и постоянно молоды персонажи приключенческого и детективного жанров. С другой стороны, смерть (гибель) героя – излюбленный прием, финальная точка произведений разных жанров, направлений, эпох. «Не даются подлые концы! – как-то пожаловался Чехов. – Герой или женись, или застрелись, другого выхода нет» (П 5, 72).
«Смерть» принадлежит к числу «последних вопросов», «экзистенциальных» тем, «архетипов», чрезвычайно существенных для понимания мира любого писателя. В той противоречивой картине действительности, которую выстраивает Чехов с первых же произведений, мотив смерти занимает весьма существенное место. В его ранних рассказах и повестях не только больше людей, чем в «малонаселенных» романах Тургенева или Гончарова, но и больше смертей.
В 1880–1887 гг. Чеховым было написано около 40 произведений, где данный мотив оказывался доминирующим (в сущности, темой) или фабульно существенным (а всего таких произведений более 60). В этот ряд встают «Смерть чиновника», «На кладбище», «Мертвое тело», «Старость», «Горе», «Ночь на кладбище», «Актерская гибель», «Панихида», «Рассказ без конца», «Скука жизни», «Учитель», «Хорошие люди», «Враги», «Тиф», «Следователь», «Володя», «Скорая помощь», «В сарае» и т. д.
Наиболее простой (но парадоксальный: оказывается, можно смеяться и над этим) случай – комическая разработка фабулы.
Чиновник (не человек!) умирает из-за того, что на него, по его же вине, накричал старикашка-генерал из другого департамента («Смерть чиновника»).
Разочарованный газетчик «с удовольствием повесился», потому что «не о чем писать», «все это уже было», после чего его приятель «сел за стол и в один миг написал: заметку о самоубийстве, некролог Рыбкина, фельетон по поводу частых самоубийств, передовую об усилении кары, налагаемой на самоубийц, и еще несколько других статей на ту же тему» («Два газетчика»).
Писатель в заказном «святочном рассказе» наскоро убивает одного героя, отравляет второго, а пока он это сочиняет, знакомые дамы в соседней комнате торопят его, собираясь отправиться на прогулку («Заказ»).
Еще один писатель тяжелым пресс-папье убивает некую даму Мурашкину, измучившую его чтением бесконечной и бездарной «идейной» пьесы («Драма»).
На похоронах генерала Запупырина перед выносом тела два чиновника успевают побеседовать о преимуществах женского счастья перед мужским («Женское счастье»).
На других похоронах записной оратор по ошибке произносит надгробную речь о живом, стоящем рядом с ним чиновнике-коллеге, а тот обижается вовсе не на преждевременный некролог, а совсем на иное: «Ваша речь, может быть, годится для покойника, но в отношении живого она – одна насмешка-с! Помилуйте, что вы говорили? Бескорыстен, неподкупен, взяток не берет! Ведь про живого человека это можно говорить только в насмешку-с» («Оратор»).
В одних случаях смерть героя условно пародийна, в других – гротескна, в третьих – информационно нейтральна, но всегда включена в комический контекст, смешна. Таков первый член чеховской художественной «антиномии».
Но в других рассказах, совсем рядом, она привычно страшна, изображена уже не условно, а в жестких, даже жестоких подробностях, за которыми узнается взгляд не раз анатомировавшего трупы врача: «„А разве есть такие яды, которые убивают в четверть часа, мало-помалу и без всякой боли?“ – спросил он у доктора, когда тот вскрывал череп» («Следователь»).
В «Барыне» муж убивает жену, в «Драме на охоте» следователь совершает несколько убийств, в «Володе» кончает с собой юноша-гимназист. «Враги» начинаются со смерти сына врача, в «Учителе» перед нами последние дни больного чахоткой героя, «Скука жизни» тоже начинается с сообщения о смерти единственной дочери старухи-помещицы, а дальше безжалостно изображается процесс постепенного, в чем-то отталкивающего угасания ее мужа, старика-генерала, – настоящие конвульсии умирания.
Но самые, пожалуй, «чеховские» вещи те, где противоположные члены «антиномии», смешное и страшное, сходятся в рамках единого сюжета.
Такую модель в 1880-е гг. Чехов опробует неоднократно. Блистательно, по принципу «кумулятивного» сюжета, развертывается действие в «Актерской гибели» (1886). «Благородный отец и простак Щипцов, высокий, плотный старик, славившийся не столько сценическими дарованиями, сколько своей необычайной физической силой», внезапно заболевает. Приятели, комик Сигаев, первый любовник Брама-Глинский (по паспорту Гуськов), трагик Адабашев, театральный парикмахер Евлампий (по кличке Риголетто), по очереди навещают больного и потчуют касторкой и коньяком. Сам же Щипцов собирается ехать в родную Вязьму и с удовольствием вспоминает о прежних подвигах: «Бил я на своем веку тридцать трех антрепренеров, а что меньшей братии, то и не упомню. И каких антрепренеров-то бил! Таких, что и ветрам не позволяли до себя касаться! Двух знаменитых писателей бил, одного художника! ‹…› В Херсоне лошадь кулаком убил. А в Таганроге напали раз на меня ночью жулики, человек пятнадцать. Я поснимал с них шапки, а они идут за мной да просят: „Дяденька, отдай шапку!“». Но в финале рассказа «актерская гибель» уже не пародийна, не гротескна, не условна. Это – «гибель всерьез», где косноязычие утешителя Сигаева лишь подчеркивает, подсвечивает трагизм ситуации: «„Ни жены, ни детей, – бормотал Щипцов. – Не идти бы в актеры, а в Вязьме жить! Пропала, Семен, жизнь! (Тут чеховский герой произносит слова, которые от Платонова, героя первой пьесы, перейдут к дяде Ване. – И. С.) Ох, в Вязьму бы!“ ‹…› комик махнул рукой и, чтобы утешить больного, сам стал говорить про Вязьму. „Хороший город! – утешал он. – Отличный, брат, город! Пряниками прославился. Пряники классические, но – между нами говоря – того… подгуляли. После них у меня целую неделю потом был того… Но что там хорошо, так это купец! Всем купцам купец. Уж коли угостит тебя, так угостит!“ Комик говорил, а Щипцов молчал, слушал и одобрительно кивал головой. К вечеру он умер».
По интонации конец этого рассказа отчетливо напоминает более раннюю «Смерть чиновника», перед нами столь же неожиданное и «нейтральное» упоминание о смерти: «Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и… помер». Но за структурно похожими финалами стоят совершенно разные архитектонические формы, диаметрально противоположные эмоции.
Аналогичная структура – в рассказе «Скорая помощь» (1887). Вокруг вытащенного из пруда «утоплого человека» – веселая суматоха праздничной толпы: сотский рассказывает, как героически его спасали; писарь приказывает откачивать, подбрасывая на рогоже, и «кричит не своим голосом: „Шибче! Шибче! Все сразу, и в такт! Раз! раз! Анисим, не отставай, прошу тебя убедительно! Раз!“»; восемь мужиков «качают с жадностью и с азартом» под одобрительные звуки толпы; проезжавший мимо приказчик отдает новое распоряжение: «Обмерших от утонутия надо не откачивать, а растирать. Так в каждом календаре написано»; его спутница-барыня советует еще применить искусственное дыхание, а потом давать жженые перья и щекотать. Итог такой бурной деятельности неожидан и ужасен: «…Помер, Царство ему Небесное, – вздыхает Анисим, крестясь. – О ту пору, как из воды вытащили, движимость в нем была и глаза раскрывши, а теперича закоченел весь». Утопленник принял смерть все-таки на суше. Из самых лучших побуждений «ребята» – мужики вместе с «идеологами» – руководителями фактически замучили несчастного старика. Комический эпизод, анекдот и здесь оборачивается трагедией.
Внезапность и простота человеческого конца в обыденнейшей атмосфере, лишенной всякого намека на лиризм, сентиментальность, красивость, отсутствие какой бы то ни было «тайны» поражает в этих сходных чеховских сюжетах.
Иногда такой сюжет принимает едва ли не «формульный» вид, сжимается до анекдота. В миниатюре «О бренности» герой «сел за стол, покрыл свою грудь салфеткой и, сгорая нетерпением, стал ожидать того момента, когда начнут подавать блины». Дальше подробно описаны напитки и закуски, наконец-то принесенные кухаркой блины и… «…Он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку, потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот… Но тут его хватил апоплексический удар».
Конечно, эта «масленичная тема для проповеди» чисто анекдотична. Но сходная, в сущности, ситуация лежит и в основе того ненаписанного водевиля, о котором Чехов через много лет расскажет Т. Щепкиной-Куперник:
«Нас застиг дождь, и мы пережидали его в пустой риге. Чехов, держа мокрый зонтик, сказал: „Вот бы надо написать такой водевиль: пережидают двое дождь в пустой риге, шутят, смеются, сушат зонты, в любви объясняются – потом дождь проходит, солнце, – и вдруг он умирает от разрыва сердца!“ – „Бог с вами! – изумилась я. – Какой же это будет водевиль?“ – „А зато жизненно. Разве так не бывает? Вот шутим, смеемся – и вдруг – хлоп!
Конец!“»6
Смысл такого взгляда, пожалуй, хорошо передает сентенция булгаковского героя: «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!»
Большинство героев чеховских рассказов, о которых идет речь, не так искушены, как Воланд, они не встречались с «беспокойным стариком» Иммануилом Кантом и даже не слыхали о нем, но их простые мысли и слова обращены к той же загадке:
«И как на этом свете все скоро делается!» («Горе»). «Да… Стар уж стал я ездить… Сыну бы ездить, а не мне… То настоящий извозчик был… Жить бы только… ‹…› Так-то, брат кобылочка… Нету Кузьмы Ионыча… Приказал долго жить… Взял и помер зря…» («Тоска»). «И Писание ясно указывает на суету скорби, и размышление… но отчего же душа скорбит и не хочет слушать разума? Отчего горько плакать хочется? ‹…› Умри я или кто другой, оно бы, может, и незаметно было, но ведь Николай умер! Никто другой, а Николай!» («Святой ночью»). «Жил человек и помер! ‹…› Сегодня утром тут по двору ходил, а теперь мертвый лежит» («В сарае»).
К концу 1880-х гг., после жестокой натуралистичности «Спать хочется» и размышлений в «Степи» об «одиночестве, которое ждет каждого из нас, и могиле», этот мотив генерализуется, становится предметом специального исследования в повестях «Огни» и «Скучная история».
В «Огнях» история инженера Ананьева призвана опровергнуть философию «мировой скорби» (еще раз такой образ мысли будет воспроизведен и исследован в «Палате № 6», некоторые суждения Ананьева кажутся набросками рагинских размышлений и сюжетных ситуаций «Палаты»). Мысль о неизбежности смерти («пессимизм»), по мнению героя, может быть, закономерна и оправданна лишь в старости: «Их (стариков. – И. С.) пессимизм является к ним не извне, не случайно, а из глубины собственного мозга и уж после того, как они проштудируют всяких Гегелей и Кантов (вот и у Чехова появился Кант. – И. С.), настрадаются, наделают тьму ошибок, одним словом, когда пройдут всю лестницу от низу до верху. Их пессимизм имеет за собой и личный опыт, и прочное философское развитие». Сознание же молодых «виртуозов» она разрушает, ибо ведет к нравственному релятивизму: «Кто знает, что жизнь бесцельна и смерть неизбежна, тот очень равнодушен к борьбе с природой и к понятию о грехе: борись или не борись – все равно умрешь и сгниешь… наше мышление, отрицая смысл жизни, тем самым отрицает и смысл каждой отдельной личности. Понятно, что если я отрицаю личность какой-нибудь Натальи Степановны, то для меня решительно все равно, оскорблена она или нет».
Впрочем, этот идейный итог, как всегда у Чехова, корректируется «нелогичной» жизнью. Истина Ананьева вовсе не обязательна для студента Штернберга («Никто ничего не знает, и ничего нельзя доказать словами»), что осознает и сам инженер: «Убедить вас невозможно! Дойти до убеждения вы можете только путем личного опыта и страданий…»
Между «Огнями» и «Скучной историей» Чехов пережил смерть брата. «…Гроб пришлось видеть у себя впервые» (П 3, 227). И это потрясение, безусловно, отозвалось в последней повести, отозвалось не в сюжете, а в глубинной, мировоззренческой сути.
В «Скучной истории» Чехов словно делает следующий шаг. То, что для героев «Огней» было более или менее отдаленной перспективой, было все-таки «философией», он делает непосредственным фактом жизни старого профессора. Герой знает (это обстоятельство учитывается далеко не всегда) о своем скором конце. И его размышления на самые, казалось бы, случайные темы есть, в сущности, подведение жизненных итогов, поиски смысла в пограничной, «экзистенциальной» ситуации.
Ананьев, который «находился в той самой поре, которую свахи называют „мужчина в самом соку“», считал, что соломоново «суета сует» к старости должно восприниматься спокойно, но 62-летний профессор Николай Степанович не защищен от страха и сомнений ни своим научным мировоззрением, ни именем, ни семьей и учениками: «…Душу мою гнетет такой ужас, как будто я вдруг увидел громадное зловещее зарево… Ужас у меня безотчетный, животный, и я никак не могу понять, отчего мне страшно, оттого ли, что хочется жить, или оттого, что меня ждет новая, еще неизведанная боль?»
Однако эта «физиология» чувства сочетается у старого профессора с бескомпромиссностью и последовательностью мысли. «Его вилянье перед самим собой», о котором говорил Чехов в письме (П 3, 252), в наименьшей степени касается смерти. Герой не только ставит себе диагноз («мне отлично известно, что проживу я еще не больше полугода»), строго оценивает итоги жизни, но и спокойно заглядывает «за край», в мир без него: «Теперь мое имя безмятежно гуляет по Харькову, месяца через три оно, изображенное золотыми буквами на могильном памятнике, будет блестеть, как самое солнце, – и это в то время, когда я буду уж покрыт мхом».
Простая картина, фантастичнее которой не может создать даже самый головокружительный полет воображения. Еще раз развернутая разработка этого мотива будет дана в рассказе «Гусев» (1890).
В свое время М. М. Бахтин в «Проблемах поэтики Достоевского» предложил сравнительный анализ толстовских «Трех смертей» и построенной им аналогичной сюжетной модели у Достоевского. «Барыня видит и понимает только свой мирок, свою жизнь и свою смерть, она даже не подозревает о возможности такой жизни и смерти, как у ямщика и у дерева, – пишет Бахтин. – Поэтому сама она не может понять и оценить всю ложь своей жизни и смерти: у нее нет для этого диалогизирующего фона. И ямщик не может понять и оценить мудрости и правды своей жизни и смерти. Все это раскрывается только в избыточном авторском кругозоре. Дерево, конечно, и по природе своей не способно понять мудрость и красоту своей смерти, – это делает за него автор. Таким образом, завершающий тотальный смысл жизни и смерти каждого персонажа раскрывается только в авторском кругозоре…»7
По Бахтину, в монологическом мире Толстого три изображенные смерти иерархически соотнесены: ложь, «мелкость» смерти барыни – мудрость и правда угасания ямщика – мудрость и красота гибели дерева.
«Достоевский прежде всего заставил бы все три плана отражаться друг в друге, связал бы их диалогическими отношениями, – продолжает размышление М. М. Бахтин. – Жизнь и смерть ямщика и дерева он ввел бы в кругозор и сознание барыни, а жизнь барыни в кругозор и сознание ямщика».
Но такой сюжет оказывается для Достоевского нехарактерным. «Достоевский никогда не изобразил бы трех смертей: в его мире, где доминантой образа человека является самосознание, а основным событием – взаимодействие полноправных сознаний, смерть не может иметь никакого завершающего и освещающего жизнь значения. Смерть в толстовском ее осмыслении в мире Достоевского отсутствует. Для мира Достоевского характерны убийства (изображенные в кругозоре убийцы), самоубийства и помешательства. Обычных смертей у него мало, и о них он обычно только осведомляет»8 (две последние фразы вынесены у М. М. Бахтина в примечание. – И. С.).
Однако в диалогическом мире Достоевского смерть (или самоубийство) – тоже аргумент в «большом диалоге». Она тоже по-своему «освещает» значение жизни, тоже включена в некую иерархию (кончина Зосимы – самоубийство Кириллова или Ставрогина).
Чеховский «Гусев» структурно напоминает Толстого. Перед нами «три смерти» на возвращающемся с Сахалина в Россию пароходе. «У моря нет ни смысла, ни жалости», – думает Гусев. Ни смысла, ни жалости нет и у смерти. Умирает солдат Степан, о котором известно только то, что он играл в карты; умирает «воплощенный протест», Павел Иванович, российский фанатик-правдолюбец, в чем-то неприятный, но в своих обличениях идущий до конца («Отрежь мне язык – буду протестовать мимикой, замуравь меня в погреб – буду кричать оттуда так, что за версту будет слышно, или уморю себя голодом, чтоб на их черной совести одним пудом было больше, убей меня – буду являться тенью»); умирает и Гусев, бывший мужик и солдат, этого интеллигентского языка абсолютно не понимающий, язычески считающий, что на краю света к стене цепями прикованы злые ветры. Но эти смерти – не урок и не аргумент. Они иерархически не соотнесены. Смерть беспощадно уравнивает очень разных людей.
Такая прямота и жесткость взгляда характерна для Чехова. «Бог делает умно: взял на тот свет Толстого (Д. А. Толстой – министр внутренних дел. – И. С.) и Салтыкова и таким образом помирил то, что нам казалось непримиримым, – напишет он незадолго до „Гусева“. – Теперь они оба гниют, и оба одинаково равнодушны» (А. С. Суворину, 4 мая 1889 г.; П 3, 205).
И природа существует в этом рассказе тоже не как аргумент (смерть дерева у Толстого, «клейкие листочки» у Достоевского), а как параллельный, прекрасно-равнодушный мир.
Уже один из чеховских современников в связи с «Гусевым» вспомнил заключительное четверостишие из пушкинского «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»:
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.
Аналогия оправданная, но, пожалуй, излишне «оптимистическая»: нет в финале «Гусева» «младой жизни» и «гробового входа», а есть стая акул, нападающая на сброшенный в океан труп умершего солдата.
С большим, на наш взгляд, основанием можно было бы в данном случае вспомнить одно из последних стихотворений Тютчева – «От жизни той, что бушевала здесь…», – развивающее сходную тему, но с акцентом не на будущем («младая жизнь»), а на прошлом:
Природа знать не знает о былом.
Ей чужды наши призрачные годы.
И перед ней мы смутно сознаем
Себя самих – лишь грезою природы.
Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной9.
Мысль о «полном равнодушии» природы «к жизни и смерти каждого из нас», в котором, быть может, «залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле», впоследствии столь же отчетливо прозвучала в «Даме с собачкой».
Такая позиция обозначает резкую грань между Чеховым и его великими современниками. Для Толстого, Достоевского с их нравственно-религиозными поисками существует некая единая философия жизни и смерти, жизнесмерти. Их взор устремлен за грань, в другую жизнь. «Куда он ушел? Где он теперь?..» – думает Наташа Ростова, стоя у тела только что умершего князя Андрея. «Если человек научился думать, – про что бы он ни думал, – он всегда думает о своей смерти. Так все философы. А какие же истины, если будет смерть?» – записал Горький слова Толстого10.
Для Чехова же существует лишь проблема и философия жизни, об ином он говорить отказывается. «Для Толстого и Достоевского смерть, Бог – не граница. Сплошь и рядом отсюда они только начинают. Чехов здесь кончает. Подводя к некоему пределу, он предоставляет сознание читателя собственному (мистическому) опыту»11, – замечает А. П. Чудаков.
Начислим
+5
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе