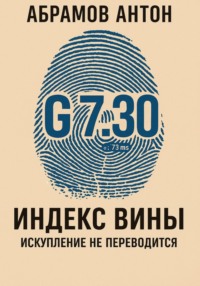Читать книгу: «Индекс вины», страница 2
Зачем человечеству мера вины
Человечество всегда искало меру.
Сначала меру зерна в амбаре и меру камня в храме. Потом меру крови на поле битвы и меру золота в подвалах королей. Но была одна величина, которую измерить никак не удавалось: вина.
Законы пытались её взвесить. Судьи складывали доказательства, присяжные вычитали оправдания, адвокаты делали скидки на обстоятельства. Но итог оставался зыбким: один и тот же поступок мог значить смерть в одной стране и штраф в другой.
Религии пытались дать универсальную шкалу. Десять заповедей, семь смертных грехов, бесконечные проповеди о покаянии. Но и там цифра ускользала: кто скажет, сколько весит гордыня? или сколько слёз достаточно, чтобы искупить измену?
Философы строили системы морали. Кант требовал поступать так, будто твой поступок станет всеобщим законом. Утилитаристы предлагали мерить счастье и страдание как валюту. Но мир упорно не хотел сводиться к уравнениям: слишком разные судьбы, слишком разные контексты.
И всё же человечество снова и снова возвращалось к одному: если нет общей меры, общество распадается.
Без единого языка вины и заслуг люди перестают доверять друг другу. Каждый суд кажется продажным, каждый герой – фальшивым, каждая жертва – напрасной.
XXI век дал последнюю иллюзию свободы: алгоритмы, большие данные, прозрачные транзакции. И именно здесь – в цифровой точности – люди впервые осмелились поставить меру вины на уровень арифметики. Так родился GIndex.
Его создатели говорили просто:
– Всё можно измерить.
Ущерб – через потерянные часы, здоровье, разрушенные связи.
Искупление – через добровольные дела, переводы ресурсов, участие в спасении.
Разница и есть вина.
Неважно, что мир кричал: «Вина не измеряется!»
Важно, что миллионы усталых граждан сказали: «Попробуем».
И потому что усталость оказалась сильнее философии, цифра победила.
Сначала её ввели в школах, как эксперимент: «индекс добросовестности». Потом в налогах: «индекс ответственности». Потом в судах: «индекс искупления». И шаг за шагом цифра проникла во все сферы.
GIndex стал тем, чем не были ни заповеди, ни кодексы, ни конституции.
Он стал общим числом, понятным всем.
И если у тебя G = 1.8 – это зелёная зона, ты «свой».
Если G = 6.2 – жёлтая, ты «риск».
Если G = 9.7 – красная, ты «угроза».
Никого больше не волновали твои оправдания.
Мир увидел цифру рядом с именем и сделал вывод.
Впервые в истории человечество перестало спорить, кто виновен. Оно просто смотрело в счётчик.
И то, что казалось освобождением, стало новой клеткой.
Но клеткой прозрачной, а значит терпимой.
Когда цифра становится опорой
Пожалуй, самое честное, что можно сказать о GIndex: он не придумал справедливость, он дал ей тело. До него справедливость была как климат: о ней говорили, в неё верили, ею клялись, но она оставалась погодой – переменчивой, локальной, зависящей от громкости голоса и толщины кошелька. GIndex превратил климат в термометр и барометр. Можно спорить о калибровке и шкале, но сам факт измеримости изменил мир глубже, чем любая революция.
Сначала изменения казались смешными, даже мелочными. Исчезли «безответные» поступки. Тот самый утренний рывок в метро, когда взрослый мужчина плечом отодвигает подростка к дверям, перестал быть «ничем»: короткий штрих в индексе, отражение его раздражения и неожиданная привычка контролировать себя. Кто-то уступал место не из доброты, а из страха. Но ребёнок, сидящий рядом, видел не мотивацию, а действие; его будущая совесть формировалась не в проповедях, а в повторяющихся сигналах действительности. В этом и заключалось первое достоинство системы: она делала добро видимым, а зло ощутимым. Не вечным и не абсолютным – ощутимым здесь и сейчас.
Самым страшным и самым спасительным стало то, как GIndex вошёл в дверь, за которой государство традиционно опускало глаза: семья. Домашнее насилие столетиями было невидимой тьмой – слишком частным, слишком стыдным, слишком «не нашим делом». С введением индекса крик за стеной перестал быть «просто шумом»: он обрёл статус сигнала, след, который нельзя растереть по ковру. Множество мужчин, привычно считавших квартиру своей территорией, впервые ощутили внешнюю границу собственной власти. Да, многие семьи распались, но уцелевшие стали другими: уважение, пришедшее сначала как вынужденная дисциплина, укоренилось как бытовая этика. Парадоксальный, но трезвый плюс GIndex: он не сделал людей святыми; он сделал не святую жизнь терпимее для слабых.
Ещё одно тихое, но решающее улучшение произошло там, где человек всегда чувствовал себя безнаказанным хищником в сети. До индекса слово считалось лёгким: написал – и растворилось, травля – «юмор», угроза – «перегиб». С введением ответственности за цифровые действия слово доросло до поступка. Исчезли стаи, выискивающие очередную жертву ради развлечения; остались споры, осталась ирония, осталась полемика, но они перестали ломать жизни. Да, свобода «не думать о последствиях» ушла. Но взамен возникло новое достоинство речи: она снова стала значить. В двадцать первом веке вернуть смысл слову – уже само по себе милосердие.
Экономика – область, где метрика особенно сильна. «Что измеряется, то управляется» – старая истина. Но до GIndex измерялись лишь доходы и расходы, а не внешние эффекты: выбросы, уклонение от налогообложения, эксплуатация. Индекс впервые объединил вред и благо в общем счёте. Город увидел, где бизнес по-настоящему заботится о среде, а где просто переклеивает ярлыки; налоговая помощь стала точнее: не «по справке о бедности», а по реальной траектории жизни – кто вытягивает себя и других, а кто паразитирует на системе. Фонды перестали распределять средства по знакомству – им пришлось объяснять каждую цифру. Впервые социальная политика стала похожа на навигацию, а не на разбрасывание риса по ветру.
Парадоксально, но индекс дал пользу и власти. Чиновник, привыкший к безличной вертикали, обнаружил, что его решения оставляют след не только в отчёте, но и в репутационной ткани. Коррупция не исчезла, но стала дороже: риск утраты должности и допуска, риск «красной зоны» перевешивал выгоду отката. Власть, которая знала ранее одну мотивацию – страх потерять кресло, получила новую – страх потерять лицо. Любой циник усмехнётся: «Мало ли что поставили в цифру». Но поведенческая экономика не улыбается, она просто считает: когда цена неблаговидного поступка растёт, таких поступков становится меньше. В бытовом и среднем звене стало меньше. Этого достаточно, чтобы у честных инициатив появился кислород.
Система не навязывала добро государством, она, скорее, накладывала прозрачность на миллионы микродвижений. Кто-то каждые выходные ставил галочки, защищая собственный кредит, на субботнике, в приюте, на линии волонтёров; кто-то, наоборот, впервые в жизни делал что-то бескорыстно и впервые получал признание, пусть и в виде маленького числа на экране. Справедливость – это не только наказание виновного, но и должная видимость того, кто делает мир лучше. GIndex вернул человеческому достоинству публичность, которую не обеспечивали ни лайки, ни медали.
Особо стоит сказать о детях. Школа привычно измеряла знания и забывала поступки. С введением индекса учитель увидел ещё один слой: ребёнок, который делится тетрадью с одноклассником, тот, кто остаётся после уроков помогать уборщице, тот, кто вытаскивает из травли слабого. Эти жесты перестали быть невидимыми. Они аккумулировались – не как «годовая пятёрка по уверенному поведению», а как реальная нитка в биографии. Поступление в университет перестало быть исключительно лотереей ЕГЭ: личная ответственность, доказанная в поступках, давала шанс детям из неблагополучных семей. Это не отменяло неравенств; но впервые их можно было сокращать на основании наблюдаемой добродетели, а не деклараций.
Мир искусства и медиакультура пережили появление индекса сложнее других. Кто-то кричал, что индекс убивает свободу жеста. Но выяснилось обратное: он убивает лишь лень, сарказм ради сарказма и «искусство травли». Зато по-настоящему смелые высказывания, рискующие во имя смысла, получили новую защиту: ответственность легла на тех, кто разрушает диалог, а не на тех, кто его ведёт. Парадокс? Да. Но человеческая свобода всегда существовала в коридоре из ответственности.
Наконец – то, ради чего затевались любые реформы: чувство, что жизнь не проходит между строк. У бесчисленных людей – медсестёр, мелких предпринимателей, учителей, социальных работников – появилась тихая уверенность: их работа не потеряется, их ночные смены, их «помочь соседке» не исчезнут в песке. В языках разных культур это называлось по-разному: честь, карма, благодать. GIndex попытался дать этому общую грамматику. Да, грубую; да, уязвимую; да, местами циничную. Но благодаря этой грамматике общество училось согласовывать усилия. Кто-то ехидно спрашивал: «А нельзя ли быть добрым без табло?» Можно. Но миллионы не были. Метрика стала костылём, который помог научиться ходить. Не навсегда; но его оказалось достаточно для того, чтобы мышцы памяти окрепли.
Большой страх – «материализация совести» убивает совесть. Он реален. Но есть и большой дар: в культуре, где считалось мужеством «плевать на правила», вдруг стало мужеством – не плевать. Не потому что «так велит система», а потому что система, оттолкнув, показала зеркало. И в этом зеркале человек увидел, каким хочет быть. Вера – не алгоритм, милосердие – не формула, но и то, и другое нуждаются в опыте. Индекс не заменил путь. Он лишь подсветил кочки на дороге, по которой мы шли на ощупь.
Справедливость не стала абсолютной. Но стало меньше тупиков: меньше «не слышат», «не видят», «не помогут». Стало меньше демонической анонимности, где зло любит жить. Стало меньше «ничего не поделаешь». И если измерять не лозунгами, а человеческими слезами и ночным сном, это уже огромный шаг. Возможно, через поколение мы откажемся от костыля. Возможно, научимся идти без приборов. Но до того дня лучше идти с подсветкой, чем снова ползти в темноте, утешая себя мифами о «естественном».
GIndex не сделал людей ангелами. Он сделал их заметнее – друг другу и самим себе. И этого достаточно, чтобы сказать: мир стал лучше. Не идеальным, но более честным к повседневной боли и к повседневному добру. А это, если оглянуться на столетия, и есть то «малое чудо», на которое способны не небеса, а математика, соединённая с ответственностью.
Справочник гражданина GIndex
(издание Soteria, Санкт-Петербург, 2046 г.)
GIndex
Единый глобальный индекс вины. Число, отражающее баланс проступков (H) и искуплений (A). Впервые в истории человечества справедливость стала измеряемой.
Прозвище в народе: «чистота», «счётчик совести».
A-кредит
Зачисление за доброе дело (Act). Получается при верификации поступка.
Пример: помощь соседу, участие в программе наставничества, добровольческая смена.
В быту: «плюсик», «капля ангела».
H-штраф
Баллы за проступок (Harm). Начисляются при выявлении нарушения.
Пример: дезинформация, агрессия, мелкое воровство.
В быту: «минус», «грех», «чёрная метка».
Decay (d)
Коэффициент старения поступка. Со временем как добро, так и зло «выцветают», но не исчезают.
Прозвище: «ржавчина».
r(Δt)
Износ искупления: чем старше доброе дело, тем меньше его вес в формуле.
Прозвище: «просрочка».
SL-Null
Это резервный слой системы, в котором временно хранятся необработанные события, не прошедшие полную верификацию. Доступ к SL-Null ограничен; его использование допустимо только при проверках DLS. SL-Null – это подвал памяти, куда сбрасывают то, что не вмещается в парадный зал. Там лежат тени: поступки, ещё не ставшие фактами. Именно там можно увидеть правду, пока её не перекрасили.
Прозвище: «нулёвка», «карман для чужого добра».
DLS – Day List of Stabilizations
«Дневной лист стабилизаций». Закрытый список событий, которые могут разнести социальный граф: теракты, громкие смерти, спасения.
Прозвище: «чёрная книга».
Soft escort
Режим «мягкого сопровождения». Скрытое наблюдение, двое сопровождающих из тени. Не задерживают, не говорят, лишь фиксируют отклонения маршрута.
Прозвище: «тень на хвосте».
Hook
«Крючок» в коде переноса, оставляемый инженерами. Позволяет в редких случаях пройти назад и увидеть подлог.
Прозвище: «зацеп».
σ-delay
Микропромедление сети. Цифровая дрожь, которая показывает момент вмешательства координатора.
OBL-0x00 («Гладкая доска»)
Протокол обнуления конфликтов. Временный перенос заслуги на «чистого» героя, чтобы толпа не знала о спорных обстоятельствах.
Прозвище: «подмена», «чистильщик».
Подросток-Т
Стандартная маска идентификации несовершеннолетнего. Защищает персональные данные.
Прозвище: «Т-тень».
Soteria
Это комплекс защитных протоколов, встроенных в систему Gindex для обеспечения стабильности и предотвращения катастрофических сбоев. Надстройка над GIndex, центр координации и стабилизаций. Именно здесь принимают решения о перераспределении добрых дел.
Прозвище: «Орден координаторов».
Координатор
Специалист Soteria. Решает, куда направить спорные заслуги или как сгладить конфликт в системе.
Прозвище: «бухгалтер доброты».
Чистильщики – это специальные оперативные группы (OBL-ops), действующие по поручению органов стабилизации. Функция: устранение рисков, способных вызвать недоверие к системе. Это те, кто стирает следы чужой боли, как дворник смывает кровавое пятно водой.
Они действуют не ради злобы, а ради тишины: чтобы обществу показалось, что ничего не случилось.
Архитекторы – это высший совет проектировщиков и идеологов Gindex. Задачи: разработка концепции, контроль параметров шкалы, внесение изменений в алгоритмы стабилизации. Архитекторы обладают правом этического вето – они определяют, какие изменения допустимы в матрице вины. Это жрецы числа. Они утверждают, что знают предел человеческой вины и меру искупления. Они строят лестницы, по которым поднимаются миллионы, но сами сидят наверху и решают, какие ступени выдолбить, а какие оставить. Их слова звучат как философия, но за каждым тезисом – холодный расчёт: «массы не выдержат правды».
Апостиль – это официальная связка документов и цифровых следов, удостоверяющая подлинность записи о событии. Он включает: дайджест телеметрии, подписи верификаторов, цепочку сохранности и хеш-оттиски. Без апостиля событие не имеет юридической силы. Печать, скрепляющая хаос.
Узел верификации – это элемент инфраструктуры Gindex, предназначенный для подтверждения достоверности событий. Каждый узел фиксирует параметры действия: время, координаты, идентификаторы участников, подтверждения сенсоров и служебные хеши. Здесь тень превращается в след, а след – в цифру.
Без узла добро остаётся лишь намерением, вина – лишь шёпотом, а искупление – пустым словом
Прозвище: узел
Этический следователь
Не полиция, а прокурор совести. Собиратель дел и досье, посредник между гражданином и системой. Выносит материалы в судебные узлы.
Прозвище: «совестник».
Глава 1. Весы
«A-кредит – фиксированная единица заслуги, которая может быть передана другому гражданину при соблюдении процедуры стабилизации индекса».
(Справочник гражданина Gindex, Раздел I «О заслугах», §4.3)
Утро двадцать пятого декабря в Петербурге начиналось с низкого света, будто кто-то подсунул под тучи длинную холодную лампу. Ржавые рельсы блестели тонкой слезой, и даже Неву будто затянули пленкой – вода шла, а лезвие течения было тупым.
Марина Коваль вышла из подъезда, задержала дверь плечом и машинально провела телефоном по рамке считывателя. Рамка пискнула, экран в ладони на миг вспыхнул:
[GIndex: 6.2 • зона жёлтая]
Доступ: класс B • наблюдение: активно
Она не любила этот миг – короткое касание, как чужой палец к горлу. Но город без него уже не открывался: турникеты, двери ведомств, лифты, даже коммунальные шкафы – всё спрашивало у тебя, кто ты в цифрах.
На углу над газетным киоском висел привычный экран-витрина: лица, цифры, вспышки «плюс» и «минус». Сводка ночи бежала тихой строкой: «Пожар на Охте, эвакуация, A-кредиты подтверждены», «На проспекте Энергетиков – фиктивные заявления, π понижено». Подростки с капюшонами стояли, смотрели, как на прогноз погоды. Никто не удивлялся: как только мир научился хранить память, он полюбил её так сильно, что стал в неё верить сильнее, чем в собственные глаза.
Служебный вызов пришёл, когда Марина сквозила двориком к Невскому. Тонкий звук – не трель, а треск льдинки о стекло. Она подняла трубку, не глядя на номер.
– Коваль, – сказал знакомый голос Лыхачёва, – Северная гавань. Фонд «Детям воздуха». Смерть. Чистая.
– «Чистая» – это какая? – спросила она, прижимая телефон щекой и укрывая его шарфом от мороси.
– Без борьбы. Без очевидной травмы. Но на столе – распечатка A. И… – он вздохнул. – Имя ты знаешь. Круглов.
Слово упало, как якорь.
Круглов Пётр Степанович, благотворитель на всех чужих фотографиях, чья улыбка была как нитка, связывающая чужие карманы и чужих детей. Индекс 0.15, зефирный голос, аккуратно подобранные галстуки. Ещё вчера вечером он был в прямом эфире, на форуме, говорил о новой этике ответственности. Марина мельком видела, переключая новости в такси: светлая сцена, доброжелательный смех, благостная статистика. «Справедливость – это прозрачность», – говорил он. Город соглашался. Так удобно верить в то, что видишь на экране.
– Я еду, – сказала Марина.
Северная гавань – стекло, бетон и гладкая вода внизу, где встают молодые офисные дома, похожие на ледяные плитки, уложенные в ряд. У входа охрана держала двери двумя пальцами. Всё остальное делала система: считывала, проверяла, открывала.
Внутри пахло кофейной пеной и новым пластиком. Марина увидела знакомые куртки криминалистов – неприметный серо-синий, чтобы не запоминаться в чужих глазах, – и кивнула. Судмедэксперт, женщина с узким лицом и скобкой серебристых волос, уже снимала перчатки, аккуратно, будто с пальцев снимали кольца.
– Контур чист, – сказал дежурный, – следов взлома нет. «Скорая» констатировала смерть за пять минут до нашего прибытия. На часах 9:18. Тело на ковре, спина, голова на подушке. Как будто лёг и… – он поискал слово в воздухе, – выключился.
Комната была обидно правильной. На стене фотографии в одинаковых белых рамах: Круглов на стройке в каске; Круглов в детском доме, рука на голове у мальчишки; Круглов на сцене с табличкой «Ответственность: новая нормальность». Фотографии были как камни для переправы: по ним легко перейти реку, не замочив ног.
Тело лежало действительно аккуратно. Пиджак застёгнут, галстук прямой, туфли отодвинуты ровно на ширину ладони. Марина отметила, почти не думая: трупные пятна на спине и задней поверхности рук, фиксированные; ригидность умеренная; температура в комнате двадцать два; время смерти примерно три-шесть часов назад, но лучше будет сказать после врача. На журнальном столике стояла чашка с кофейной корочкой и распечатка с QR-метками, как чек, только крупная, как афиша.
Она наклонилась над распечаткой. «A₄ – системное улучшение / эвакуация при техногенной аварии; π=0.98; σ=1.2; r=1.0; присвоено: Круглов П.С.; время: вчера 19:43; узел: Soteria-Василеостровский». В углу надпись от руки: «V-mesh?». Почерк был чужой, беглый, тонкая шариковая инъекция в бумагу, которая не любила рукописного.
– Этот лист… – Марина не отрывала взгляда. – Кто положил?
– Нашли на столике. Девушка из фонда говорит, что распечатал он сам ночью. На принтере очередь документов, но этот последний. Журнал печати в айти-отделе.
Марина посмотрела на кофейную корочку. Рядом капля на подставке, высохшая неровно, след напоминал глаз.
– Сомнения начались у самого святого, – тихо сказала она.
Судмедэксперт присела на корточки, коснулась шеи перчаткой.
– Внешних признаков насилия нет. Пятна фиксированы. Ригор в средней фазе. Стандарт. – Она подняла брови. – Но зрачки неравномерно реагировали, когда «скорая» была здесь, так они сказали. Это бывает. А бывает и не только так.
– Токсикология, – кивнула Марина.
– И ещё кровь, моча, стекловидное. – Эксперт всегда говорила так, будто поминала. – Вы же знаете, Коваль, что иногда человек умирает по всем правилам, и всё равно это чья-то рука.
Лыхачёв вошёл без стука, словно дверь была декорацией. Снял перчатки, сунул в карман. Он нравился Марине своей старомодной прямотой, как рубанок в шкафу из МДФ. Глаза у него были усталые и внимательные, как у человека, который привык пересчитывать чужие ошибки, а свои хранить на дне ящика.
– Видела? – кивнул он на распечатку.
– Видела. Время девятнадцать сорок три. В этот момент он был на сцене форума. На видео таймкод, стрим. Он не мог никого спасти.
– Значит, спасал кто-то другой, а запись его, – сказал Лыхачёв. – Или запись ничья. И его в ней просто нет.
Марина выпрямилась, посмотрела в окно. Гладь воды внизу была почти металлической, и здание напротив отражалось в ней как в экране: идеально, но только пока не подойдёшь близко. Стоило наклониться, и всё распадалось на пряди бликов. Ей нравился этот трюк воды. GIndex был на него похож: издалека кажется зеркалом, подойди ближе – и увидишь только свет.
– Вызывай цифровиков, – сказала она. – Пусть поднимут V-mesh. И пускай Soteria, хоть раз в жизни, отдаст первичные журналы, а не ссылки на пресс-релиз.
– Они скажут, что ты моралистка, – усмехнулся Лыхачёв.
– Пусть скажут, – ответила Марина. – Моей морали хватает, чтобы помнить: на весах не обязана лежать только чужая кожа.
Этическое следствие вели не в погонах, а в шахматной доске. Так когда-то сказал один учитель Марины, и шутка прилипла. В обычных отделах искали кровь, деньги, мотив. В их ещё и аномалии смысла: там, где индекс вины шёл не так, как должен; там, где чужое добро становилось чужим имуществом; там, где вред был списан на того, кому нечем было заплатить. Им приходилось ловить вещи лёгкие, как дым, без пальцев и отпечатков, но с алгоритмической тенью.
В коридоре фонда – стекло, белые стены, фотографии «до» и «после»: руины и отремонтированная школа; пустой двор и стадион; девочка с пустыми глазами и девочка с книгой. Такие штуки учат тебя верить в перемены, как в чудо. Но Марина знала, что чудо – это тоже бюджет.
Лев Шааль пришёл быстро, он всегда приходил быстро, если дело пахло данными. В системе он числился аналитиком по доверительным метрикам: тот, кто умел из цифровой пыли вытягивать целые картины. Его не считали чиновником и не называли следователем, скорее, хранителем временных рядов, летописцем индекса. Невысокий, в чёрной футболке под курткой, без шарфа – он явно был из тех, кому погода шум, но не состояние. Нёс ноутбук как чашу с водой: осторожно, двумя руками, готовый в любой момент поставить на ровную поверхность.
– Привет, – сказал он, и чуть наклонился к Марине. Они не обнимались, не жали руки – знали, что между ними всегда стоит невидимый стол с чужой жизнью на нём.
– V-mesh? – спросила она.
– Если нам дадут, – ответил он. – Но я уже дернул пару нитей. По квитанции три канала: ролик с места, подтверждение диспетчера и два свидетеля. Всё за девять минут. Ускоренная процедура.
– Похоронная команда добра, – сказала Марина. – И кто свидетели?
– Один – координатор этого фонда. Второй – внештатный соглядатай Soteria. Оба с высоким TrustScore. Третьего нет.
– А поле «исполнитель»?
– Автозаполнение: совпадает с «загрузил». Это бывает по ускоренному протоколу, если нет явной идентификации исполняющего лица. – Лев поднял глаза. – Проще говоря: кто первый принёс запись – того и шляпа. До апелляции.
Марина кивнула. Это она знала лучше, чем хотелось бы.
– И ещё, – продолжил Лев, – сам Круглов, по идее, смотрел эту квитанцию ночью: в логе печати видно два захода. Сначала просмотр, потом печать. На телефоне – запрос к первичной связке, к V-mesh. Он видел там своё имя и знал, что это не правда: запись приклеена к нему, как чужая кожа. И, глядя на экран, он, возможно, пытался не понять почему, а выдержать, сколько ещё сможет хранить это внутри себя.
– Не выдержал несоответствия? – спросил Лыхачёв, который слушал молча, как человек на скамейке у чужой исповеди.
– Или выдержал слишком много, – сказала Марина. – И кто-то помог.
Судмедэксперт заглянула в комнату и положила на стол аккуратный прозрачный пакет. Внутри были таблетки – белые, круглые, рядами в блистере.
– Снотворное, – сказала она. – По форме – зопиклон или брат его. Следов рвоты нет. Обращайте внимание на стаканы, на воду. Токс подтвердит. Но я бы не бежала впереди протокола.
Марина кивнула. Она любила то, как судмед привыкла говорить «не бежать»: в их работе можно было вполне физически убежать от правды, если не привязывать себя ремнями к фактам.
– Я хочу посмотреть его кабинет, – сказала Марина.
В кабинете было так же, как везде: стекло, дерево, два монитора, мягкий свет. На столе блокнот. Настоящий, бумажный, смятый в углу. Марина открыла наугад. Несколько строчек: «Прозрачность – это милосердие», «Если никто не забыт – значит, Бог нашёл нас». Строчка на полях, решительная: «Сколько добра нужно для нуля?»
Она запомнила этот вопрос, хотя знала: придёт день, и он будет стучать в её голове, как молот по наковальне.
– Объяснила бы мне ещё раз, – сказал Лыхачёв, когда они вышли в холл, – почему вас, этических, так не любит половина города, а вторая половина попросту боится?
Марина улыбнулась уголками губ.
– Потому что мы не судьи и не священники, – сказала она. – Судья решает, виновен ли ты по закону, священник – по Богу. А мы следим, чтобы архитектура памяти не разрушалась. Чтобы GIndex считал честно. Это значит, что мы ходим в чужие биографии, как по чердакам, где пыль и фотографии, и ищем, где цифры не совпали с тем, что могло быть. На людях это оставляет след: никто не любит, когда кто-то трогает его счет.
– А если человек чист? – спросил он.
– Чистых не бывает, – сказала Марина. – Бывают аккуратно вымытые.
– Поэзия, – поморщился Лыхачёв, но без злости.
– Поэзия – это когда есть воздух. – Марина посмотрела в окно, где Неву срезали белые чаечьи крылья. – А нам приходится жить в вакууме.
В их бюро загнать в сеть означало не выложить пост, а вписать инцидент в центральную шину GIndex – ту самую невидимую магистраль, по которой шли все эти плюсы и минусы. Когда этическое убийство – смерть, сопряжённая с вероятной манипуляцией индексом – попадало в шину, система ставила жёлто-чёрный маркер на все транзакции вокруг: блокировала A-переводы, приостанавливала выдачу допусков, требовала от верификаторов выдать первичные журналы. Это не нравилось никому – ни фондам, ни Soteria, ни людям, которые могли купить всё, кроме приватности.
Марина спустилась в подвал – не каменный, а цифровой: внизу, на первом этаже, за матовой дверью располагалась маленькая комната без окон, узел – туда стягивались копии журналов, там же стоял их полевой валидатор, низкая коробка с матовым окошком, через которое словно дышала сама система. Он не выглядел ни сложным, ни важным – обычный серый предмет, какой ставят в угол и забывают. Но именно он решал, чей поступок будет зафиксирован, а чей исчезнет, будто его и не было. Валидатор не спрашивал, почему человек сделал то или иное, не вникал в мотивы и страхи. Он только отмечал: был в цепи или стоял в стороне. И в этой простоте была его страшная сила – он делал человеческое действие строкой протокола, холодной записью, которую потом можно было пересылать в базы, печатать в отчётах, превращать в индекс. Лев уже сидел за столом, ладонь на трекпаде, плечи слегка вперёд, как у пианиста.
– Смотри, – сказал он, не поднимая глаз. – Поток по узлу «Soteria-Василеостровский». Вчера с 19:40 до 19:52 произошло семь инцидентов. Наш третий. Первые два мелкие: «поддержка при эвакуации», «передача инсулина». Третий «эвакуация при техногенной аварии». Дальше фотодокументирование последствий и два интервью героя. Всё упаковано в один кластер. Это как вагончики, скрепленные одной сцепкой.
– Кто сцепщик?
– Координатор фонда. И пиарщик Soteria. – Лев почесал щеку, оставив на коже валик. – Я не люблю, когда пиар стоит рядом с первичкой. Это как если бы врач с операционной ходил тут же с пресс-секретарём и показывал, как он режет.
– Это и есть новый век, – сказала Марина. – Мир не разделяет уже руки и языки.
Лев щёлкнул ещё раз.
– И самое интересное, – сказал он тихо, – вот: поле «исполнитель». Я вижу след автозаполнения – зелёный штамп. В норме, если есть спор, «исполнитель» остаётся пустым и вешается на первичную аттестацию. Тут же автоподстановка с ID подателя заявки. А податель – верифицированный аккаунт фонда. Не сам Круглов. Но на выходе «присвоено Круглову». Я не люблю такие развилки.
– И я, – сказала Марина. – Загоняй в сеть.
Он кивнул. Набрал команду. На экране появилось окно запроса. «Тип: этическое убийство / манипуляция индексом. Состояние: инициировано. Меры: заморозка A, запрос первички, уведомление омбудсмана». Лев нажал «выполнить». Полоса прошла быстро, как дрожь. На мгновение комната показалась Марине живой, как организм, который ощутил укол.
– Готово, – сказал Лев. – Теперь все вокруг этого куска будут бегать медленнее.
– Хоть кто-то, – сказала Марина.
Телефон дрогнул в кармане. Сообщение. «Soteria: выражаем соболезнования. Сообщаем о полной готовности сотрудничать. Уточняем: ускоренная верификация не допускает ошибок, ответственность несут аккредитованные узлы. Любые слухи о присвоении заслуг являются частью информационных атак на добросовестные учреждения».
– Они уже играют, – сказала Марина.
– Они всегда играют, – согласился Лев. – Просто иногда нам дают фортепиано без клавиш.
– Поэзия, – отозвалась Марина, и он улыбнулся.
Вечер заступал на свой пост рано, как охранник, который любит приходить на смену за сорок минут. Марина ехала в машине, смотрела на город через прямоугольник стекла: ладьи мостов, струи света, желтые окна. В наушнике был тихий голос Лыхачёва, который отдавал распоряжения, и отрывистые ответы «Да», «Принял», «Выходим». Она вынимала на ходу из этих слов скрепки, складывала в стопку, запоминала.
– Поговори с омбудсменом, – сказал Лыхачёв. – Я знаю, ты не любишь их, но этот – с головой. Попроси приостановить публичные церемонии. Пока.
– Варсонофий? – спросила Марина.
– Он. – В голосе Лыхачёва не было насмешки. – И ещё: не лезь в прессу. Подождём токс.
– Я никогда не лезу, – сказала Марина. – Они сами вылезают.
Она выключила связь. На секунду в машине стало тихо, как под водой. Она вспомнила – это всегда приходило неожиданно – ту статью, которую написала десять лет назад, ещё работая журналисткой. «Клиника милосердия» оказалась клиникой неумения: в отчётах – свечи, в крови – сахар, в карманах – ничья копейка. Она показала это миру, как вскрытый нарыв. Клиника закрылась. Десять человек умерло за месяц, потому что им негде было получать инсулин. Тогда у Марины не было GIndex, но если бы был – он бы загорелся красным. Потом стали считать. Ей прибавили «H». Она стала «жёлтой», а потом научилась не смотреть на цифру, потому что иначе не услышишь собственный шаг.
Начислим
+10
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе