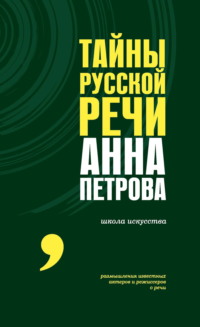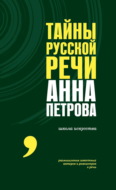Читать книгу: «Тайны русской речи», страница 5
Речевой поток и монотон
Понятие «монотона» как дороги к сверхзадаче очень значимо в сегодняшней театральной речи. Напомним, в учебниках конца XIX и начала XX века правила выразительности были всегда связаны с силовым и мелодическим ударением.
В сегодняшней речи ударное слово может не выделяться силой и даже высотой, часто акцент происходит за счет удлинения гласных. Именно об этом говорит в своей анкете А. Калягин: «Нет, ударение не одиноко, оно тащит за собой весь хвост, рождающий следом слова как интонационное единство, насыщенное целью». Это и есть направленная по перспективе реплика, когда слово не существует отдельно, фраза стремится вперед, к сквозной смысловой задаче, не теряя энергии потока, становясь как бы стремительным продолжением этого ударного слова.
Точно сказано! Ведь именно в этом отражается правда сценического существования. Когда главное слово в своей стремительности тащит за собой фразу, то есть весь смысл укладывается в одну задачу, все подчиняется главной цели, ходу по перспективе.
Вообще понятие перспективы для современного театра ключевое – именно движение по перспективе и есть движение к выявлению человеческих отношений не за счет выразительности речи, а за счет ее устремленности к цели.
Конечно, существует интонационная узнаваемость всех выразительных качеств, и она воплощается в паузах, ударении, ритме, темпе, звучании голоса, в походке, в жесте, выражении лица и глаз, в интонации речи артиста. Замечательно сказал Евгений Лебедев: «Я слушаю глаза и смотрю интонацию».
Индивидуальность актера выражается в том, как он мыслит, как он себя ведет и как говорит. Речь как бы «подперта» поведением. Надо пытаться «раскопать» внутреннюю жизнь и уже на этом выстраивать свое отношение к слову этого человека. У каждого в речи есть индивидуальный «грим» для выявления смысла. Любой сложившийся артист имеет это уникальное звучание, свой тональный рисунок.
Само звучание должно нами «чувствоваться» на ощупь, но мы не можем изобразить интонацию. Ее можно только прожить, потому что все спрятано внутри, за словом, так же как все спрятано за текстом.
Может быть, поэтому все опрошенные в анкетах крайне разноречиво говорят об интонации. Для одних поймать интонацию означает попасть в роль. Для других – почувствовать интонацию автора. Для третьих – услышать собственную интонацию роли. И тогда личная авторская «интонация», звучащая в тексте, вдруг становится личной интонацией актера.
Интонация и пунктуация
Принято считать, что существует три вида речевой интонации в зависимости от цели высказывания: повествовательная, вопросительная и восклицательная.
Все, что связано с речью на сцене, с работой над словом, непременно выходит и на проблему пунктуации. Пунктуация – нотные знаки русской интонации.
Знаки препинания в письменной речи существуют внутри предложения и связаны с его грамматической конструкцией. В устной речи по знакам препинания изолированного предложения мы узнаём общее «значение»: перечисляю ли я, или спрашиваю, или отвечаю, предлагаю, то есть решаю некие действенные задачи в условиях стабильной конструкции отдельного предложения. И тогда знаки препинания, а по сути, их интонирование, совершенно адекватны предложению.
Мы работаем с художественным текстом, в котором авторские знаки препинания индивидуальны, и потому они не только грамматические значки, которые отражают в предложении его прямое значение. Они уточняют авторское высказывание. Восклицательные знаки у Грибоедова; тире – у Тургенева; Достоевский «ставит запятую там, где она ему нужна»; скобки – у Салтыкова-Щедрина; у Пастернака «один из важнейших знаков многоточие»; Марина Цветаева говорила, что в поэзии есть только два знака препинания – «тире и курсив». Для Чехова, по его словам, знаки препинания «служат нотами при чтении».
Что предлагает нам Чехов? Вот небольшой пример: «…молодая дама, невысокого роста блондинка, в берете».
В этой авторской реплике музыкальность, гармония звучит и в однородности грамматических повторов – дама, блондинка, в берете.
Совсем иначе звучала бы авторская фраза, стоит чуть изменить порядок слов, если три существительных перестанут звучать повторным аккордом: блондинка невысокого роста.
Многие авторы нашей анкеты используют «авторскую пунктуацию в полной мере и на каждом этапе, если автор такие стилистические особенности предлагает».
В наше время письменная речь все больше отдаляется от литературных стандартов XX века. Все больше и больше знаки препинания перестают быть просто грамматическими маркировками, а создают особую эмоциональную стилистику речевого потока, и очевидно, что каждый знак препинания в устной речи может нести самый разный смысл – и регулярно получает «обратные смыслы», становясь самостоятельными, отдельно от слов живущими знаками отношений и намерений «???», «!!!!!», «…». И, конечно (здесь сразу хочется убрать грамматические запятые вокруг слова «конечно»), мощное влияние оказывает опыт жизни в интернете. Неслучайно даже в школе сейчас говорят, что точка является не знаком препинания, а знаком выражения эмоций, и, мало того, предлагают точки из текста убирать: эмоционально воспринимаемые точки становятся знаками раздражения и даже агрессии.
В театре режиссер и актер всегда имеют дело с авторским текстом, и поэтому разговор о знаках – это разговор о смыслах, о праве идти за автором или предлагать свои решения.
Именно интерпретация меняет знаки препинания в устной речи. По мере проникновения в смысловые задачи в связи с режиссерским решением начинается кардинальное изменение знаков – снятие старых, создание новых. Насколько авторская стилистика воплощена в знаках и не опасно ли ее нарушать и разрушать – вопрос спорный.
Кто-то в анкетах отвечает, что принцип сегодняшнего театра – как раз разрушить авторскую пунктуацию и систему воплощения в слове, в фразе, в мелодике привычных канонов.
Кто-то говорит, что пунктуация не играет никакой роли, на нее не стоит обращать внимание. Кто-то считает, что к пунктуации надо возвращаться на том этапе, когда роль уже освоена. Станицын говорил, что с самого начала должен выучить текст и узнать авторскую пунктуацию, иначе он будет ошибаться и не сможет сыграть.
Сохранились записи больших артистов еще до 1960-х годов, где в блестящих очень личностных монологах слышны паузы, которые соответствуют авторским знакам препинания… Это хорошо слышно в записях М. Ермоловой в «Фуэнте Овехуна» М. Царева в роли Глумова «На всякого мудреца…» в Малом театре или, десятилетиями позже, В. Топоркова в «Плодах просвещения» во МХАТе.
Пунктуация автора нередко далеко выходит за рамки грамматики и тогда свидетельствует об авторских сигналах понимания «смыслов».
М. Кнебель «обращает на пунктуацию автора большое внимание и старается ее использовать»; Г. Товстоногов – «у классиков обязательно»; В. Машков отмечает, что иногда «в паузах спрятан смысл роли»; В. Рыжаков говорит: «уделяю внимание всегда».
Н. Чиндяйкин, Μ. Матвеев, В. Егоров тоже считают, что в классической пьесе пунктуация много дает актеру. Д. Брусникин полагает, что в знаках препинания заложен авторский смысл; Н. Журавлева воспринимает их как нотные знаки автора; Н. Михалков «идет за внутренним "я"»; М. Брусникина говорит, что пунктуация в зависимости от решения «перестает ею быть»; Д. Крымов и А. Мягков «замечают», Т. Владимирова и В. Езепов стараются «не замечать».
И все по-своему правы. Но в этих, подчас диаметрально противоположных, мнениях тоже отражается одна из важнейших проблем театра – соотношение правил языка и правил речи. Сами знаки препинания, конечно, относятся к правилам логики языка. Поэтому практики театра, оценивая значение этих правил, по сути – правил чтения знаков препинания, ссылаются прежде всего на свою личную внутреннюю лабораторию речи. Отношение к знакам – это отношение к интерпретации авторского текста. И потому все высказывания так интересны и так важны для каждого, кто владеет искусством речи.
Правила расстановки знаков препинания в предложении знакомы нам со школы, как и отраженные ими «интонации» простых намерений, действий – вопрос, ответ, перечисление, восклицание, многоточие, – грамотная их расстановка и озвучивание некогда были основой обучения актера выразительному чтению: пауза перед последним прилагательным, пауза перед глаголом или пауза после точки с запятой. Да, в каждом языке есть модель, рисунок, передающий типическое узнаваемое звучание вопроса и ответа, восклицания и продолжения. Владеющий языком владеет его интонацией и мелодикой его пунктуации.
Но, как мы знаем, в живой речи все зависит от смыслов, от намерений, наконец, от интерпретации и партнеров, а потому фиксирование интонации, «обучение» интонации противопоказано самой идее живого театра.
Но тогда и воплощение смыслов связано с тремя вариантами высотного ударения (развитие, продолжение, завершение) – конечно же, при огромном и неформальном их разнообразии и полной зависимости от смысловой задачи. Это и есть смысловой поток, который разорвется только при условии изменения задачи. А тогда появятся иные ударения, паузы и знаки препинания. Вот простой пример того, как это происходит в устной речи.
«Ты мне нужен! Я хочу тебя увидеть! Найди время!» (восклицательный знак здесь просто как знак развития).
«Ты мне нужен, я хочу тебя увидеть, найди время…» (многоточие как знак продолжения).
«Ты мне нужен. Я хочу тебя увидеть. Найди время». (Точки как знак завершения.) Эти знаки здесь поставлены для наглядности.
Здесь необходима методологическая ясность: в письменной речи на уровне отдельного предложения расстановка знаков препинания стабильна. Стабильны, неизменны и все звучащие компоненты предложения.
В устной речи смысловая логика может менять знаки кардинально, и зависит это лишь от интерпретации.
Разбор художественного текста на основе грамматической логики расстановки пауз и ударений в предложении не открывает содержания, не нужен и просто вреден.
4. Законы мелодики русской речи
Это законы, воплощающие смысловые намерения говорящих:
• закон развития;
• закон продолжения;
• закон завершения.
Мы рассмотрели некоторые главные понятия школы К. Станиславского, открытия, касающиеся живого общения, смыслового понимания законов устного и письменного текста
Сделаем выводы.
Природа текста написанного и того же текста, произнесенного в конкретной ситуации и с определенными намерениями принципиально различны.
В письменной речи при грамотном чтении на уровне «значения» расстановка ударений, пауз знаков препинания каждого отдельного предложения стабильна. Стабильны, неизменны и все звучащие компоненты предложения.
Разбор художественного текста на основе грамматической логики расстановки пауз и ударений в предложении не открывает подлинного содержания, не нужен и просто вреден.
В устной речи появляется новая, смысловая логика, опирающаяся на контекст и конкретные намерения говорящего. «Смысл» меняет понимание написанного текста и его характер. «Управляя» текстом, он может объединять предложения, меняя кардинально знаки, и зависит это лишь от интерпретации, от глубины погружения в обстоятельства и скрытые связи, отношения, тайные намерения и далеко не раскрытые цели, задачи, намерения – как автора, так и персонажей, и самого исполнителя.
Раздел III
К. Станиславский о законах речевого общения
Генеральное определение К. Станиславским законов устной разговорной речи, продолженное мастерами театра, – важнейшее смысловое открытие ХХ века, важнейшее и для исследования психологии поведения, законов общения между людьми, неоценимый и недооцененный вклад в науку о человеке.
Открытие было сделано в поисках нового живого и современного театра, который создавали первоклассные мастера, определившие во многом жизнь и развитие театра мирового. Но значение «метода» гораздо объемнее.
Целостность любого явления содержит в себе разные аспекты понимания и применения.
Новые знания о мире живой речи, сформированные в русском театре ХХ века, и прежде всего система Станиславского и ее законы, стали общемировыми открытиями в понимании психологии человека, законов и смыслов его поведения, его деятельности.
Изложенные здесь законы общения, сформулированные в системе К. Станиславского, и есть законы речи – ключи к открытию и пониманию написанного текста, превращению словесной ткани в содержательную и персональную живую речь.
Элементы, звенья «системы» Станиславского являются, по существу, не только составными элементами сценического действия, но и конкретной реальностью поведения человека в его отношениях с действительностью.
Мы всегда находимся в реальных обстоятельствах времени, места, в условиях и ситуациях общения, взаимодействуя с партнерами, мы осуществляем последовательную цепь действий, стараясь не терять их логику и смысл, стараясь осознавать свои задачи и намерения, веря в их объективную ценность, двигаясь по перспективе, по «сквозному действию», стремясь к «сверхзадаче», опираясь на правду переживаемого чувства, совершаемых действий, намерений, желая изменить, улучшить ситуацию в нужном и верном «своем» смысле; опираясь, рассчитывая на накопленный опыт и знания, живущие в том числе в «видениях воображения», в нашей эмоциональной памяти, идем к цели.
1. Об элементах «системы»
Речь и молчание, образ действования и образ чувствования, неустанное внимание к внутренней жизни человека – основа родившейся в реалистическом театре художественной системы.
Воображение. В работах Станиславского, в практике его последователей постоянно разговор ведется об элементах «системы», как о важнейших понятиях школы: воображение, восприятие, «третий объект», сверхзадача, перспектива, словесное действие, воплощающее в постоянном единстве целостный процесс взаимодействия людей в социуме.
Осмысленное, целенаправленное поведение и – обратите внимание – сила человеческого воображения. Все наши знания, весь опыт – ничто без мощного воображения.
Мы все, насколько нам дано, по сути дела, оживляем невидимый мир. Через слово «представьте», через глубинное его знание, через воображение мы превращаем его в нашу реальность и реальность наших партнеров. Один так, другой иначе, современный художник так, классический художник иначе, в кино одними средствами, в быту иными, но все равно это образный ряд мы впитываем в себя. Мы все, насколько нам дано, каждый по-своему, представляем, видим этот образный ряд – и не «перед носом», нет, – он живет в пространстве нашего воображения то фрагментами, то подробно, то многозначно. Об одновременном видении этой множественной реальности, невероятном душевном подъеме Левина пишет Л. Толстой в «Анне Карениной»: «И что он видел тогда, того после уже он никогда не видал. В особенности дети, шедшие в школу, голуби сизые, слетевшие с крыши на тротуар, и сайки, посыпанные мукой, которые выставила невидимая рука, тронули его. Эти сайки, голуби и два мальчика были неземные существа. Все это случилось в одно время: мальчик подбежал к голубю и, улыбаясь, взглянул на Левина; голубь затрещал крыльями и отпорхнул, блестя на солнце между дрожащими в воздухе пылинками снега, а из окошка пахнуло духом печеного хлеба и выставились сайки. Все это вместе было так необычайно хорошо, что Левин засмеялся и заплакал от радости».
Очень хорошее определение дал Юрий Норштейн, наш знаменитый мультипликатор – «словесная оптика». Да, это словесная оптика, которая существует в речи, но она же есть в живописи, в кино, в жизни – где угодно. Только через построение в своем воображении образного мира, где одно нанизывается на другое, существует живое общение и восприятие другого человека, искренность и сила происходящего или сила самого образа, как бы его решение, его невероятность так велика, что я этой силе подчиняюсь, она для меня убедительна. Это описывается старым классическим понятием «катарсис», когда проживание, переживание от каких-то художественных событий настолько велико, что ты на минуту становишься равным этому миру или человеку.
У больших режиссеров и, конечно, у Станиславского очень много сказано про воображение и про «создание киноленты видений». Да и каждый артист знает о воображении очень многое и считает его ключом к творчеству.
Но что значит в конкретном применении понятие «видения воображения»?
В жизни, естественно, мы внимательно воспринимаем собеседника, его глаза, обращенные к нам, ожидаем его реакцию.
Но вот к нам обращается исполнитель, читающий любимых авторов, – Тургенева, Гоголя, Шолохова, Булгакова, Астафьева…
События присвоены, поняты, стали своими, личными переживаниями, и человеку есть чем поделиться со слушателями… Точнее сказать, конечно, со зрителями. Но глаза говорящего как будто отсутствуют, он «видит» не нас, он смотрит не на нас, зрителей. Он видит собственное воображение, перед ним проходят «видения». Но в жизни наше внимание поглощено не картинками-видениями, а партнерами.
Видения воображения и «Третий объект»
Когда-то у Ефремова было замечательное выражение – «что ты тащишь из-за кулис». Работа над тем, чего нет и что живет «за кулисами» текста для мастеров его школы всегда краеугольный камень репетиций, и как только актер начинает понимать это, рождается подлинность чувств, становится ясной, очевидной дорога к живому слову.
Но ведь то же самое «закулисье» работает и в жизни!
Если любому человеку, прохожему, не артисту, просто задать какой-то вопрос, например: «Где Красная площадь?» – он обязательно на мгновение остановится, посмотрит на тебя, уйдет в себя, потом начнет поворачиваться, ища взглядом, где находится этот Кремль. Пространство «третьего объекта» пока пусто… И мы погружаемся в воображение, заполняем пространство нашим Знанием – не галлюцинациями конечно, нет – это мгновения памяти, сигналы, следы знания, опыта жизни…
Всегда, хоть мгновение, но встречный «ищет» – поймает ли он объект, попадет ли в него, – и тогда ответит: не знаю, знаю, даже покажет направление. Но он ищет. То есть в любом разговоре мы опираемся на «знание» нашего воображения, всегда имеем то, что мы «тащим из-за кулис» – как след, как скользящий, совсем не полный, мгновенный отпечаток.
Причем подлинной властью обладает и образ реальной действительности, и образ, созданный большим художником.
Обратимся к собеседнику с вопросом о Пушкине или о Есенине – и мгновенно каждый «знает», «соотносит» имя со своей реальностью, своим опытом: облик, строчка, полка на которой стоит книга, и даже еще рождается внутренний вопрос: а зачем? что?
Зададим вопрос: Андрей Болконский – блондин или брюнет? Почти все говорят: брюнет. Кто-то говорит: да нет, нет, блондин, нет, брюнет. На какое-то мгновение в ответ на вопрос появляется в воображении именно то, что мы «тащим из-за кулис». Мы «узнаём» этого человека, может, потому что чувствуем некое соответствие с каким-то своим образом героя, или вызываем мгновенно в воображении образ артиста, игравшего эту роль, но ни один человек не сказал еще: а его вообще не было, его создал Лев Толстой.
В этом смысле мы никогда не бываем «наедине с партнером». О чем бы мы ни говорили, мы говорим о том, что для нас важно в разговоре, но чего здесь физически может не быть. Это и есть то, что можно назвать «третий объект», «видения-знания», внезапно возникающие в пространстве нашего воображения силами всех данных человеку чувствований.
Мы всегда разговариваем через объект, через обстоятельства, через то, ради чего мы разговариваем. В этом смысле мы всегда втроем: я, ты и то, чего нет, но о чем, о ком мы говорим и что «вытаскиваем из-за кулис».
И движущая сила диалога – не просто партнер, но и то, что мы предлагаем «увидеть», вообразить, куда мы выводим нашего партнера, нашего собеседника – не какую невидимую, но абсолютно живую реальность. И этот «третий объект» – ключевой в работе над словом. «Третий объект» прячется в воображении и перерабатывается нашим жизненным и творческим опытом.
По существу, «третий объект – это наши знания о мире, открывающиеся в нашем воображении; все что «увидено» всеми органами чувств. Не перед глазами, а «вне нас» и «отовсюду», увиденное и оживленное мощью воображения.
Интересно, что общение с партнером через «третий объект» для некоторых мастеров служит генеральным способом для рождения свободной звучной речи на сцене. Так утверждает, например, режиссер и актриса Р. Литвинова.
К. Станиславский называл видения «кинолентой» – тогда, во времена молодого двухмерного кино, это определение было совершенно точным.
Наверное, сегодня можно сказать: не лента перед глазами, а кино – трехмерное, объемное, бесконечное видение. Мы можем определить его и более точно – «знание», в которое поверит и погрузится партнер.
Образ за словом не только «предмет», но и ситуация, и обстоятельства, и свой опыт, и опыт автора, и опыт героя.
То, что мы «тащим из-за кулис», «закулисье», непосредственно связано и с восприятием, отношением к ситуации, поиском решений. Тогда воздействие – результат, а от восприятия зависит эмоциональное и действенное намерение. Слово само по себе – драгоценное достояние, но приобретает ценностные смысловые свойства только в диалоге.
Итак, «третий объект», воображаемая реальность выражена подробнейшим образом, осмыслена, и все загадки загаданы. Литературный текст с его образным метафорическим содержанием, персонажами, пейзажами, событиями – источник воображения. Большой художник укладывает в текст невидимую реальность. Мы можем идти обратным путем – при помощи таланта, фантазии, воображения «показывать» ее зрителю.
Это как бы встречные процессы. И только работа над текстом, над тем, чего «нет», развивает в человеке способность хорошо говорить, глубоко думать и очень многое понимать.
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе