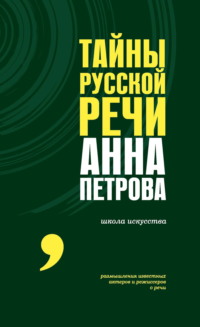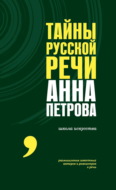Читать книгу: «Тайны русской речи», страница 4
Раздел II
Язык и речь
Согласно школе выразительного чтения, язык и речь существуют по одним и тем же законам, и таким образом устная речь повторяет, озвучивает письменную по правилам расстановки ударений, пауз, интонации, знаков препинания.
Отсюда родилась главная ошибочная идея: законы и правила логики языка (написанного текста) и речи (текста сказанного) одни и те же (с некоторым дополнением: в речи некоторые правила могут нарушаться). Из этой идеи вырастала вполне закономерно необходимость изучения логических и мелодических правил грамматики: расстановка ударений, характер звучания, понижения и повышения тона, выражающие чувства.
Книги о выразительном чтении учили правилам, культуре и выразительности речи, учили пониманию и произнесению литературного текста – «озвучиванию» текста, уже написанного автором. Но – и это самое главное – рассматривали систему обучения актеров как обучение некой музыкальной грамоте, как интонационную и логическую схему предложений, в которой воплощается содержание.
Помните Щепкина: «Научись прежде читать как следует»? То есть грамотно озвучивать написанное. Но ведь и театр искал строгого «соответствия слова и чувства, движения и жеста». Конечно, надо было быть большими самостоятельным артистами для преодоления канона, наверное, такими, как «великая Семенова», о которой говорил Пушкин, и каким был сам М.С. Щепкин.
Очень важно напомнить, что соблюдение интонации знаков препинания считалось законом не только чтения, но и живой речи. На этом строилось само выразительное чтение и его преподавание. Именно об этом Волконский когда-то говорил: пауза – ударение – интонация, вот в чем невозможны перемены. Мало того, поэтому актеры изучали звучание знаков препинания. И упражнения были связаны с интонированием вопросительного знака, восклицательного знака, точки и запятой.
Во всех старых книжках о логике речи логический разбор текста всегда начинался с грамматического разбора предложения, на основе жесткой, грамматикой продиктованной системы ударности, паузы, интонации. Подробно можно познакомиться с классической школой в работе Т. Запорожец «Логика сценической речи». Эти правила ударности и пауз фиксировались – по степени их важности – одним, двумя, тремя подчеркиваниями, фиксировалась и расстановка пауз. Вот некоторые из этих правил. Из двух существительных ударение падает на существительное, стоящее в родительном падеже; прилагательное перед существительным не ударяется, при перечислении нескольких прилагательных ударяется только последнее, стоящее перед существительным. Как видим, все термины этой школы связаны с грамматическими категориями. И это очень важно понять!
Определены, зафиксированы знаками препинания паузы, интонация предложения вопросительного, восклицательного, утвердительного и т. д. Интонационный рисунок стабилен, и по нему и русский, и даже не владеющий языком иностранец понимают намерение говорящего как некие действенные сигналы: так и только так говорящий спрашивает, отвечает, восклицает.
Конечно, стабильность мелодическая, стабильность паузы, ударения существует в информационном тексте, заключенном в предложении. То есть информация – это фиксированность факта. Простой пример: на вокзале объявляют время прибытия поезда. По всем правилам грамматической логики, этот текст прочитывают без эмоциональных оценок, без «выразительности», без указаний и рекомендаций. Идеальная информация, но ведь не живой разговор между партнерами. В ней нет «намерения» говорящих. Нет намерения, то есть нет интерпретации, а значит, нет и живых отношений.
Прежде всего поэтому логический разбор сцен пьесы на основе грамматики рождал бесконечные противоречия педагогики с режиссерской и актерской практикой. На первый план все больше выходил смысл спектакля, интерпретация пьесы и роли, основой работы актера становился разбор действенных задач, скрытых в глубинах текста отношений, намерений. Театральной школе стало жизненно необходимо преодолеть глубинные разногласия, о которых заговорили практически все. Что такое слово на сцене и как им пользоваться, как рождается живая неформальная логика речи.
И в этом поиске, конечно, самую радикальную роль сыграл Станиславский. Вот его слова: «Законы речи – обоюдоострый меч, который одинаково вредит и помогает».
Собственно, здесь отражен конфликт логики языка письменного и устного. Как только написанная реплика входит в контекст устного разговора, она перестает быть формальной и формально интонированной. Об этом хорошо сказал В. Волькенштейн, драматург и некоторое время помощник Станиславского: «Слово в драме – драматическая реплика – имеет значение прежде всего действенное. Слово-действие в самой своей примитивной непосредственной форме является кратким приказом или просьбой, прямым вопросом (реплика распознавания), кратким "хочу" или "не хочу". Такое слово может быть названо действенным по преимуществу».
1. «Значение» и «смысл» в устной речи
Но проблема действенного слова, практически решенная в художественном методе Станиславского, была важна не только для театра – русская лингвистика давно искала пути перехода из стихии языка в стихию речи, искала мостик между «чтением» и «разговором».
Академик Л. Щерба когда-то предложил прочесть грамматически правильное предложение из несуществующих слов: «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка». Мы можем его озвучить, – и вот она, устная модель написанного предложения. Какая-то особа женского пола что-то, кажется, довольно агрессивно делает с большим созданием мужского пола, а заодно и с маленьким. Кто, что, как и с кем – все ясно. Главное ударение будет падать на точку, потому что в логике русского предложения главное слово находится в конце. Пауза после «куздры», «бокра». И тут совершенно ясно: он или она, большой или маленький, какой или какая, что уже сделала и что делает. Но нет только одной важной составляющей: нет контекста, нет обстоятельств, нет цели, нет смысла, есть только сообщение.
Пражский лингвистический кружок, где сотрудничали и русские ученые из числа высланных из России на философском пароходе, предложил основывать переход от грамматики письменного языка к устной речи через понятия «известного» и «нового» – «темы» и «ремы» в предложении.
Живое искреннее слово, вопрос воспитания живой речи, методы освоения литературного текста, поэзии и прозы, практический метод обучения искусству живого слова – важнейшая тема.
Вопрос этот актуален прежде всего для нашей жизненной практики, для теории речевой деятельности, для школьного обучения. И открытия, сделанные в этой области театром ХХ века, абсолютно уникальны.
К. Станиславский, исследуя опыт жизни и опыт театра, точно, подробно, доказательно раскрывает психологические законы общения как взаимодействия, разработав целостную теорию и практику превращения письменной речи в устную, мотивированную, искреннюю, подлинно содержательную. Этой методологией владеет русский реалистический театр.
Значение и смысл; сверхзадача и перспектива речи; глубинный анализ и интерпретация.
Законы и правила расстановки логических ударений и пауз в письменной и устной речи – для нас особенно интересная тема. Звучит не очень выразительно, даже скучновато, но для театральной педагогики этот вопрос – один из главных, определяющих, и потому он ставится в наших анкетах.
Об этом поговорим подробно и начнем с истории.
В театральной школе всегда обучали «логике сценической речи», в разных учебниках и пособиях называя ее то законами, то правилами.
Однако логика речи на сцене, логика разбора текста оставалась логикой отдельного предложения – «грамматической» логикой!
Мастера театра о логике речи
Какая именно «логика речи»? О каких правилах идет речь?
Именно здесь и возникают и сходятся противоречия.
Логика речи как свод правил о расстановке ударений и пауз в написанном тексте подробнейшим образом раскрыта в книгах об ораторском искусстве и в учебниках для артистов.
В наших анкетах мастера говорят о логике по-разному.
Правила знать, конечно, надо, – отмечают Е. Писарев и К. Серебренников;
Всегда – в стихотворном тексте, говорит В. Рыжаков.
Очевидно, что слово «правила» в русском языке многопланово и многосмысленно. Сразу возникает вопрос: о каких правилах идет речь?
Грамматических или смысловых? О правилах чтения написанного текста или правилах устного разговора «этим текстом»? Для каких случаев эти правила верны и где их границы?
Очевидно, в данном случае Рыжаков имеет в виду строковые паузы в стихах, а Писарев – правила расстановки пауз и ударений в предложении.
Грамматических правил логики предложения никто в наших анкетах не называет (иногда вскользь вспоминают правило ударности двух существительных, одно из которых стоит в родительном падеже, это правило упоминает в своем труде К. Станиславский).
Однако все отвечающие на вопросы анкеты отмечают, что логических ошибок не делают, хотя правила забыты. Действительно, ведь и все мы не помним правил грамматики, выученных в школе, но ошибок, надеюсь, не делаем. И поэтому мне было очень любопытно услышать мнение Г. Товстоногова: «Правил не знаю, говорю грамотно».
М. Кнебель: «Правил не знаю, говорю правильно».
Очень многие актеры: «Законов не помню, говорю верно».
При этом в анкетах говорят о «собственных, своих законах логики», например: «не останавливаться на фразе, думать о кантилене речи», или – совершенно замечательно – «не бить по словам», «не ставить ударения на глаголах», «произносить четко последний слог фразы, оставляя его на сцене для партнеров». Это неожиданно, но верно. Бесценен опыт артиста, приемы, выработанные его собственной практикой и опытом коллег. Для каждого становится важным что-то свое.
Правил логики речи «не помню», – говорит А. Покровская.
«Теоретических законов речи не знаю. Мне кажется, если речь идет о риторике, – это не актерское дело», – И. Ясулович
«Никаких правил не знаю», – Т. Владимирова.
«Не знаю», – Е. Миронов, Ч. Хаматова, В. Алентова.
«Не всегда они нужны и зависят от решения спектакля», – В. Фокин.
«Только исходя из режиссуры и решения спектакля», – Е. Миронов.
«Только после найденного психологического жеста», – Н. Михалков.
«Точное высказывание дает право нарушать все правила и возможность по-новому читать текст», – А. Шапиро.
Многие мастера оставляют прочерк: К. Хабенский, О. Табаков, К. Серебренников, В. Фокин.
Так что же? Правила не нужны?
«Нужны, – отвечает В. Рыжаков. – Для того чтобы нарушать, надо их знать».
«Нет правил расстановки ударений и пауз», – считают К. Богомолов и Д. Брусникин.
«Все важны! Ничего лишнего нет!» – С. Крючкова, И. Золотовицкий, В. Камышникова.
«Законы – багаж, который нужно забыть», – категоричен Е. Евстигнеев.
Мастера театра говорят о живой логике устной речи!
И это совершенно правильный взгляд!
Попробуем разобраться.
Пьеса и спектакль
Пьеса существует в двух ипостасях: текст, написанный автором, и тот же текст, произнесенный актером.
Текст, написанный автором, имеет буквальное «значение».
При разборе, в контексте, в режиссерском решении, текст приобретает «смысл», и мы им «взаимодействуем».
А именно это – противоречие между «значением» и «смыслом» – главный вопрос и в жизни, и в сценическом действии. Устная речь не только выражает эмоции, но интерпретирует «смыслы». Предложение превращается во фразу только в контексте, в определенной ситуации и с определенными задачами.
Предложения, из которых состоит текст, дают понимание сюжета и чувств, им вызванных, но подлинность сценической жизни рождается при разборе внутренней реальности, тайных смыслов, скрытых намерений. Может быть, той самой «жизни человеческого духа», которую можно вычитать за написанными словами.
Речь устная перестает быть «озвучиванием» письменной и зависит от цели и смысла человеческого общения, то есть от интерпретации текста!
Ведь и в жизни, в условиях живого разговора, предложение вливается в речевой поток взаимодействия, и тогда уже работают законы «смысловые». Так и говорит А. Покровская: «Смысловое содержание и режиссерское решение все определяет».
Мастера театра говорят о логических ударениях в написанном предложении и тогда, понимая, что они есть, могут их и не помнить. Ведь они говорят о живой логике устной речи! А в живой логике разговора правила иные, и опыт артистов не только выходит за пределы грамматического разбора, но и отрицает его. Логика речи стоит «за текстом», кроется в обстоятельствах, отношениях и целях разговора.
Театральная педагогика готова предложить методологию разбора написанного автором текста, а значит, и понимания текста, всем интересующимся. Использовать, например, в подготовке учителей русского языка и литературы..
2. Смысловые законы устной речи
Каковы же законы речи устной? Законы ее логики, отраженные в ударениях, паузах и, наконец, в интонации? Попробуем рассмотреть законы, по которым устный текст «работает» в жизни и звучит в театре для зрителя или слушателя.
Логика разговорной речи
Законы логики речи есть законы жизненного поведения, взаимодействия, общения, которые открыл и исследовал К. Станиславский.
В спонтанном диалоге обычно не бывает смысловых ошибок, нарушений логики в ударениях и паузах. Речь свободно регулируется внутренними законами речевого общения, едиными для разных языков. Люди сообщают, спрашивают, возражают, восклицают, предлагают, т. е. воздействуют словом. Законы речи универсальны для разных языков, на которых общаются люди, как универсальны всеобщие законы порождения и воспроизведения текста.
Разговор в жизни развивается именно по законам человеческого общения, а его движущей силой является цель, ради которой предлагается тот или иной сюжет, и в спонтанном разговоре не бывает смысловых ошибок, нарушений логики в ударениях и паузах.
Но и сочиненный текст, авторский рассказ, диалог в спектакле, будет подлинным, живым, если рождается и существует в подлинности человеческого взаимодействия.
Законы логики разговорной речи
Обозначим их терминами, принятыми в театральной практике:
– Закон предлагаемых обстоятельств – событие всегда погружено в определенную ситуацию. С предлагаемых обстоятельств начинается понимание ситуации, а значит, и разбор текста.
– Закон превращения текста в киноленту «вИдений» – слова превращаются в систему живущих в нас зрительных образов, ассоциаций, связей, отношений, памятных знаков, иногда погружаясь в прошлое и вновь стремясь в будущее, становясь достоверными эпизодами нашей собственной реальности.
– Закон нового – поэтапно развиваясь, события и фразы текста стремятся от известного к неизвестному.
– Закон перспективы – события сменяют друг друга, намерения наши всегда устремлены вперед, к цели, и текст всегда находится в развитии.
– Закон контекста — внутренний «смысл» происходящего формируется чередой предшествующих и последующих событий, фактов, ситуаций, фраза живет между прошлым и будущим.
– Закон подтекста – интерпретация фразы, ее акценты и характер зависят от обстоятельств и намерений говорящих.
– Закон сравнения – во фразе главным является то, с чем идет сравнение, и ударение падает именно на это слово (заря горела, как пламя).
– Закон сопоставления – во фразе главными являются оба сопоставляемых понятия и оба слова принимают на себя ударение (тяжелыми были как день, так и ночь).
– Закон противопоставления – оба противопоставленных слова принимают на себя ударение (горит зеленый, а не красный свет).
Законов логики устной речи немного, но именно по этим законам общаются люди.
Обратим самое серьезное внимание на то, что в списке законов логики речевого общения нет грамматических терминов – только смысловые!
Законы речи существуют, «работают» в контексте задач, обстоятельств, отношений, конкретных целей, тайных и явных намерений, скрытых подтекстов и невысказанных целей, потому что они, эти законы, являются законами человеческого общения и в нем осуществляются. Они создают образ мира, который по определению должен присутствовать в звучащем тексте.
Остановимся подробнее на законе сверхзадачи.
Сверхзадача всегда зашифрована, спрятана в тексте и становится ясной только по мере глубинного разбора, в контексте, в правильном понимании смысловой ситуации и связана с собственными намерениями говорящего.
Ради чего мы ведем разговор?
Ради чего написан рассказ, пьеса и ради чего звучат они сегодня?
Конечно, весь вопрос в понимании, интерпретации и намерениях говорящих. Мы интерпретируем фразу, и из этого рождаются конкретные, осмысленные ударения и паузы в речи.
Простое сообщение «Поезд отправляется в пятнадцать часов» может нести чистую информацию, но в диалоге может обозначать любое намерение: поддержать, возразить, остановить, предупредить, порадовать, и в зависимости от задачи изменится звучание фразы, акценты, паузы.
Как только в акт речи включается «намерение», у говорящего фразу появляется некий знак ожидания реакции собеседника, и это скажется в поведении, ударениях, в паузах, в интонации…
Возникает «послание» собеседнику: сделать из сказанного выводы и принять свое решение; между участниками возникает диалог… Так рождаются осмысленные ударения и паузы в речи.
Итак, законы логики речи есть законы жизненного поведения, законы сценического взаимодействия.
Именно об этом говорят режиссеры и артисты в наших анкетах.
Ученик Станиславского Завадский: «Законы речи неразумно, бессмысленно сводить к правилам установки ударения, пауз, нужно идти от логики действий».
В анкетах нового времени все мастера говорят о том же – о противоречии логики речи письменной и устной.
Н. Журавлёва назвала основные правила логики речи в условиях сценического взаимодействия, вновь отослав нас к Станиславскому, и определила их как ненарушаемые законы речи – общения, подчеркнув, конечно, что не случайно даже в их названиях нет и не может быть грамматической терминологии.
Итак, мастера театра разделяют понятия грамматической и разговорной логики. Грамматическое чтение текста не дает понимания его смыслов.
В живой логике человеческого взаимодействия ударения и паузы рождаются интерпретацией содержания текста, и должны быть «своими».
Текст написанный становится живым, достоверным, разговорным, содержательным, только когда он перерабатывается, осмысливается, превращась в текст сказанный.
Открытые и сформулированные в системе Станиславского законы и правила логики речевого общения, законы речи – обьективная реальная школа живого слова в общекультурной жизни общества и необходима как метод, система для самого широкого использования.
Однако споры о путях освоения логики речи, «ударений и пауз» были всегда и составляли основу конфликта между «мастерами» и «речевиками».
Большинство актеров и режиссеров, которым я задавала вопросы, говорили, что актеры, и особенно молодые, не умеют ставить ударения и не могут выразить смысл.
Это вызывает трудности именно потому, что ударные слова, как и паузы, не формальны – они живые, подвижные. Вот строки известных стихотворных текстов:
«Прощай, письмо любви…»
«Прощай, свободная стихия!»
«Прощай, немытая Россия!»
«Прощай до лучших дней…»
«Прощай! И если навсегда…»
«Прощай, прощай! И помни обо мне».
«Прощай, позабудь и не обессудь».
Читаем. Грамматикой предписаны определенные паузы, восклицания, ударения. Но ради чего каждое «прощай»? Куда ведет авторский смысл? Контекст? Намерения? Запомнить? Забыть? Укрыться? Отомстить? Простить? А в каких обстоятельствах?
Из ответов на эти вопросы рождается разная логика, разная и живая интонация, а ударения и паузы сразу не только меняются, но могут исчезать.
В этой связке находятся и все спорные понятия прочтения и воплощения текста в устной речи, доставшиеся педагогике со времен «выразительного чтения».
3. Речевая интонация и ее правила
Загадочная тема – интонация!
У каждого времени своя «интонация». По моим наблюдениям, каждые 25–30 лет происходит «речевая революция». Мы слышим интонацию как голос времени и моментально узнаём ее в спектакле и фильме, в информационном эфирном потоке на радио и телевидении.
Все, что связано с живым словом, воплощается в его звучании, и потому интонация, можно сказать, «висит в воздухе», и в спектакле по звучанию реплики мы улавливаем смысл отношений, тон и манеру разговора людей. И при этом мнения о неуловимости интонации у мастеров сходятся.
Большие художники театра и кино, тонко чувствуя время, точно улавливают и осваивают его интонацию. Неслучайно создатели Художественного театра так много говорили и спорили о «тоне» спектакля и роли, о том, что «чувства важнее слов». А в записях замечательных русских артистов мы слышим, как по-разному звучит один и тот же текст с точки зрения его звуковой выразительности.
Каждая эпоха театра отражается в интонации. И в далекие времена ее специально создавали, она входила в определение самой профессии. В классицизме она совпадала с текстом, ее можно было показать, ей можно было научить и ею необходимо было пользоваться. Это был интонационный рисунок чувств.
Мы слушаем записи М. Ермоловой. Ее голос сегодня кажется уникальным, нездешним, и его можно слушать бесконечно, но в нем дыхание другого времени.
Искусство В. Качалова наполнено жизнью, но это другая жизнь в другом времени. Когда мы слушаем его записи, теперешние студенты удивляются, насколько это не живая, театральная речь. Но сквозь эту неживую речь проявляется такая мощь чувства, правда жизни! Чем дольше слушаешь Качалова, тем ближе становится его искусство. Это касается и других артистов, которые воплощали на русской сцене высокую драму.
В бытовом, характерном театре меньше менялись эстетические ощущения. Он был гораздо ближе к живому человеку. А высокая трагедия для великого актера, и для великой актрисы Ермоловой, была существованием в совершенно ином духовном мире. Эта другая духовность, как бы вторая реальность, сегодня звучащая отчужденно, невероятно сильно воздействовала на зрителей. Большой артист поражал глубиной переживания, силой своего чувствования, отражавшихся в неповторимой интонации. И это самое грандиозное, что есть в изменяющемся звучании русской речи на сцене на протяжении последних ста лет.
Каждый большой артист звучит по-своему убедительно и достоверно. Зритель услышал, и сразу узнал, и принял Евстигнеева, Доронину, Юрского, Караченцова, Табакова, Андрея Миронова… Но, возможно, пройдет время и появятся новые слуховые привычки, иные патерны восприятия, и будет поражать и вызывать восторг совсем иная живая речь.
Есть парадокс: слово необходимо, но слова мешают! И высказаться надо, и крайне трудно сделать высказывание подлинным. Иной спектакль живет много лет и играется сотни раз. Скажем, «Синяя птица» и «На дне» только в сезоне 1928 года игрались более шестисот раз.
Естественно, нередко в спектакле довольно быстро возникают штампы, интонационные и речевые, иными словами, уже лишенное содержания высказывание. Это неизбежный этап сценического искусства (да и вообще искусства). Нечто рождается как новое для данных обстоятельств, в этой ситуации, свободно развивается, тиражируется, а затем умирает как расхожее и распроданное…
Поистине, интонация – одна из самых больных проблем сцены, ее можно найти, но нельзя выдумать. Как писал известный режиссер А. Гончаров, интонация должна быть перпендикулярна к тексту, идти по касательной, по диагонали, но только не параллельно.
В разных театрах разные режиссеры «слышат» живое слово совершенно по-разному. Когда-то в «Современнике» О. Ефремов услышал звучание жизни вне интонационного раскрашивания, как простой целостный поток речи, как мелодическое единство, – мы называем его «монотоном». Это позволяло очень точно выразить намерения, двигаться по перспективе пьесы и роли.
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе