История Израиля. От истоков сионистского движения до интифады начала XXI века
Текст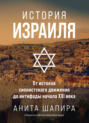


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 49,90 ₽
- Объем: 860 стр. 35 иллюстраций
- Жанр: новейшая история, популярно об истории, публицистика
Евреи и их соседи
Палестина при османском владычестве не представляла собой единую политическую единицу. Галилея и Самария были двумя санджаками (округами) под названиями Акко и Наблус и входили в состав Бейрутского вилайета (провинции). Иерусалимский санджак, включавший центральную часть Палестины, холмы Хеврона, южную прибрежную равнину и Северный Негев, был важен из-за внимания международного сообщества к святым местам, поэтому находился под прямым управлением Стамбула. Несмотря на такое разделение, в Палестине возникли первые ростки арабского национального движения, возглавляемые образованными арабами-христианами. Арабы-мусульмане были в основном лояльны Османской империи и едва ли обладали независимым политическим сознанием. После Младотурецкой революции 1908 года, вселившей надежды на просвещенный режим, который позволил бы выражать националистические настроения в империи, в Палестине стали заметны некоторые проявления арабского национализма, такие как издание газеты Al Karmil в Хайфе, проповедовавшей антиеврейские настроения, но в этот период все еще трудно усмотреть какое-либо особое национальное сознание палестинских арабов. Однако арабы знали о попытках евреев поселиться в Палестине и были обеспокоены этим, воспринимая поселенцев как иностранное вторжение. В 1891 году арабские сановники из Иерусалима направили султану прошение, умоляя его остановить волну еврейских иммигрантов, прибывающих в Палестину. В ответ Высокая Порта (османское правительство) обнародовала запрет на въезд евреев в страну.
Споры о том, что впоследствии стало называться «арабской проблемой», были в основном внутриеврейскими, а не являлись реакцией на проявления арабского национализма, и вращались вокруг поведения евреев по отношению к арабам. В своем эссе Truth from Eretz Yisrael («Истина из Эрец-Исраэль») Ахад ха-Ам осудил еврейских землевладельцев за плохое обращение с арабскими рабочими (1891). Ицхак Эпштейн в своей статье A Hidden Question («Скрытый вопрос») выступил против лишения собственности арабских феллахов-арендаторов на территории основанных еврейских поселений, даже когда им выплачивалась щедрая компенсация (1907). Рабби Биньямин (Иегошуа Редлер-Фельдман) предложил поощрять и развивать арабское население наряду с евреями, что должно было стать одним из способов сближения двух народов (1911)[62]. Вслед за своим вождем и наставником Бороховом Бен-Гурион и Бен-Цви (ставший впоследствии вторым президентом Израиля) считали, что арабские феллахи были потомками древних евреев, которые сначала обратились в христианство, а затем в ислам; теперь, с еврейским заселением, они должны будут ассимилироваться среди евреев. Эти идеи вызвали оживленную дискуссию в сионистской прессе, но сомнительно, чтобы эта дискуссия имела какое-либо практическое значение: еврейский ишув был еще слишком молодым и разрозненным, чтобы представлять реальную угрозу для арабов, но ему было нечего предложить им. Учитывая нехватку ресурсов у сионистского движения, такие идеи, как у Рабби Биньямина, были совершенно неосуществимыми.
Однако в жизни в ишуве присутствовала некоторая экзистенциальная тревога, и евреи внимательно следили за тем, что происходило среди арабов. Столкновения между евреями и арабами в этот период были в основном соседскими спорами по таким вопросам, как земля, вода и выпас скота. В повседневной жизни евреи должны были принимать меры для защиты своей жизни и имущества, а в мошавах работали арабские охранники, которые зачастую действовали заодно с ворами. Тем не менее принцип самообороны был неотъемлемой частью идеологии Второй алии. Первые члены Poalei Zion, иммигрировавшие в Палестину, принадлежали к группе самообороны в Гомеле и принесли эту традицию с собой в рамках программы изменения образа еврея, провозглашая решимость защищать еврейские жизни и собственную честь. В 1907 году в Седжере члены Poalei Zion сформировали тайное общество Бар-Гиора.
В 1908 году организация Hashomer («Стража») сменила Bar-Giora, взяв в качестве своего лозунга строку из стихотворения Яакова Кахана: «В крови и в огне Иудея пала, в крови и в огне она возродится». Hashomer была неоднозначна; колонисты (еврейские фермеры) считали, что ее члены склонны провоцировать арабов, напрасно усложняя отношения с ними. У членов рабочих партий также были сомнения по поводу организации. Принятие арабских символов и экипировки – абайя, куфия, патронташи, оружие, лошадь – казалось отходом от еврейской культуры. Выбор профессии охранника рассматривался как отказ от тяжелого сельскохозяйственного труда в угоду романтизированному насилию. Вместо фигуры земледельца Hashomer создала образ борца, который, казалось, противоречил философии рабочих. Важность Hashomer в тот период состояла не столько в ее реальных действиях, сколько в том факте, что она попыталась создать еврейские силы самообороны в Палестине. Точно так же, как билуйцы стояли у истоков всех первопоселенцев, Hashomer была родоначальником еврейских сил обороны.
Формирование национальной культуры
За 30 лет между Первой алией и Первой мировой войной в Палестине появились зачатки не только современного еврейского населения, но и национальной культуры. Эта культура характеризовалась светской еврейской идентичностью, переходом на иврит в качестве разговорного языка и требованием независимости от культур диаспоры.
Двумя великими культурными наставниками того периода были Ахад ха-Ам и Миха Йосеф Бердичевский. Общество Bnei Moshe («Сыновья Моисея»), основанное Ахад ха-Амом, имело влияние среди либеральной интеллигенции в мошавах, тогда как Бердичевский оказал влияние в основном на Вторую алию. Контраст между ними создал два полюса современной еврейской идентичности, различия которых заключаются в восприятии еврейского прошлого, его символов и значения, а также в том, что составляет желаемый образ «нового еврея». Версия Ахад ха-Ама о еврейском прошлом была нравоучительной историей о людях, которые по самой своей природе презирали физическое превосходство и превозносили духовную и нравственную силу. По его мнению, еврейский опыт пропитан этим качеством, которое сформировало его историю. Бердичевский, напротив, рассматривал это якобы моральное качество как следствие национальной слабости евреев, восходящей к разрушению Храма. Для него эта черта была результатом потери жизнеспособности и естественности людей, живущих на своей земле, обладающих природной агрессивностью, спонтанностью, близостью к природе и стремлением к власти.
Если Ахад ха-Ам подчеркивал принцип «не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф»[63] (который он изменил на «дух», исключив остальную часть стиха), Бердичевский считал, что этот акцент подавляет естественный инстинкт нации не уклоняться от применения силы. Ахад ха-Ам чтил раввина Йоханана Бен-Заккая, который, согласно легенде, бежал из осажденного Иерусалима накануне разрушения и умолял римлян пощадить Явне, где он основал центр иудаизма, отделенный от Иерусалима (и который продолжал существовать после потери национального суверенитета). Бердичевский, в свою очередь, превозносил фанатиков, которые предпочли умереть на валах Иерусалима и не сдаваться. Явне и Бейтар (центр восстания Бар-Кохбы) стали символами двух соперничающих вариантов современной еврейской идентичности. Первый рассматривал духовность как сущность иудаизма, в то время как второй подчеркивал экзистенциальное бытие евреев. Ахад ха-Ам провозглашал такую еврейскую идентичность, которая не была обязана соблюдать ритуальные заповеди, но отождествляла себя с историческим иудаизмом. Его концепция была основана на предположении, что существует одна монолитная, целостная и подлинная еврейская природа. Бердичевский бросил вызов подобному восприятию во имя других еврейских качеств, которые поколениями подавлялись этой гегемонистской концепцией. Он взывал к образам силы и героизма времен Первого и Второго Храмов, от Иисуса Навина, Самсона и Саула до Хасмонеев и воинов Масады, которые до тех пор традиционные еврейские исторические повествования упускали из виду.
Моралистическая концепция Ахад ха-Ама подходила интеллигенции Hovevei Zion, первого поколения поселенцев, но была несовместима с бунтарским духом второго поколения алии, которое бросало вызов слабости евреев. Диалектическая концепция Бердичевского, которая превозносила спонтанную жизнеспособность и призывала к открытию для культуры большого мира, привлекла их больше, чем предложенный Ахад ха-Амом образ «вод Силоама, текущих тихо»[64], так как он пропагандировал отстранение евреев от иностранцев из-за страха ассимиляции. Ахад ха-Ама высоко ценили как честного критика, но Бердичевский и виталистическая школа мысли имели большее влияние; поэма Кахана Habiryonim («Стоящие вне закона»), из которой был взят девиз Hashomer, превозносит фанатиков, изгнанных и осужденных еврейской традицией. Эти две версии светской еврейской идентичности внесли свой вклад в культуру ишува, а порой и переплетались друг с другом.
Одним из самых важных изменений, произошедших в Палестине, была секуляризация. Этот процесс практически не затронул ультраортодоксальные общины Иерусалима, придерживавшиеся собственного образа жизни, но это было ясно видно в мошавах Первой алии. Первое поколение строго соблюдало заповеди, и жизнь вращалась вокруг синагоги; первым общественным зданием, которое было построено, оказалась миква, ритуальная баня. Но второе и третье поколения быстро стали секуляризованными, что привело к культурному столкновению уже в 1890-х годах. Мошавы не были закрыты для влияния окружающего мира, и что-то в атмосфере Палестины и сельском образе жизни побуждало молодых людей отвернуться от религии. Хотя образование в мошавах было традиционным, оно включало светские, национальные элементы, и учителя, которые в большинстве своем не соблюдали заповеди, также оказывали влияние.
Споры между религиозными и светскими евреями в основном касались публичного поведения, такого как театральные представления или танцы, в которых участвовали как мужчины, так и женщины. В этих конфликтах победило молодое поколение. Они также переняли у своих арабских соседей формы досуга, в том числе скачки, праздники в арабском стиле (фантазии) и бедуинскую одежду (аналогичную одежде, принятой в Hashomer). Возникла «местная» культура, с общением на иврите, с агрессивным поведением, с упором на физическое развитие и самоопределением, диаметрально противоположным культуре евреев диаспоры. Те жители мошавов, которые родились уже в Палестине, явно демонстрировали светскую идентичность. Более того, будучи коренными жителями, они чувствовали себя вправе быть лидерами и пользовались этим, чтобы провести различие между своей идентичностью и идентичностью иммигрантов из Второй алии.
Секуляризация оказалась еще более выражена среди членов Второй алии. Они происходили из традиционных семей, но удаленность от дома, общество их сверстников, опыт совместной жизни молодых мужчин и женщин и отсутствие надзора со стороны взрослых – все это привело к быстрому отказу от религиозных обрядов. Ш. Й. Агнон иронично описал этот процесс: «Рабинович не имеет ничего общего со своим Создателем и ничего против своего Создателя. С того дня, как Рабинович покинул свой родной город, сомнительно, чтобы он помнил Его. Человеку приходится иметь дело со многими проблемами, и у него нет времени вспомнить все»[65]. Тем не менее большинство вольнодумцев сохраняли свою связь с еврейскими праздниками и обрядами перехода – бракосочетанием, обрезанием, бар мицвой и т. д. Остаточное стремление к традиционным рамкам жизни, утраченное с переездом в Палестину, хорошо описано А. Д. Гордоном: «Любой, кто не видел воодушевления молодых людей в Святые дни, не поймет этого и не поверит. Видно что-то очень странное: наши будни намного красивее, чем у наших собратьев в диаспоре, а суббота и праздники намного красивее в диаспоре. Мы пытались создавать новые праздники, но создать национальные праздники, в соответствии с логикой и изобретением – разве это не похоже на “изготовление” стихов на заказ?»[66]
Слова Гордона раскрывают сложность создания новой традиции без магии ритуалов многих и многих поколений, стоящих за ней. Исследователи обычно описывают формирование национальной культуры как спланированное строительство чего-то заранее спроектированного. Фактически было множество дополнительных чертежей. Надо говорить не о рассчитанных действиях, а о копировании шаблонов, с которыми сионисты были знакомы по национальным движениям в Европе, и адаптации их к особым потребностям и характеру евреев. Создание национальной культуры фактически началось в диаспоре во время еврейского Просвещения, с литературы, которая открыла еврейскому читателю мир эмоций и воображения. Обширная деятельность по переводу с русского, немецкого, английского и других языков позволила создать корпус мировой литературы на иврите, который в последней четверти XIX века утолил жажду более широкой культуры среди первого поколения Просвещения, жившего в черте оседлости. Туда вошли не только лучшие произведения мировой литературы, но и исторические романы, пьесы, популярные песенники, детская литература и т. д. Периодические издания на иврите также преуспевали, предлагая популярные материалы для чтения как для молодежи, так и для стариков. Это был исходный материал, на котором юные читатели формировали свое мировоззрение. Между страницами Гемары[67] ешиботники прятали книги и периодические издания, пробуждающие в них тоску по царству национальной гордости, героизма и добровольного самопожертвования. Эти книги, стихи и песни сформировали сионистский нарратив, и общий опыт создал воображаемое сообщество, которое использовало одни и те же тексты, одни и те же образы, пело одни и те же песни и было движимо одними и теми же ритуалами.
Превращение иврита из языка молитв и священных текстов в язык еврейской культуры, а не только в язык улицы и дома, стало одним из величайших достижений сионистского движения. Общий язык считался краеугольным камнем национализма, доказательством существования нации. Необычный характер этого достижения наиболее очевиден при сравнении с попытками других народов, например ирландцев, которые имели лишь ограниченный успех в возрождении древнего языка. Успех сионистского движения был особенно поразительным, поскольку он происходил в процессе миграции, расселения и формирования национальной идентичности.
Необходимость общения между еврейскими общинами Востока и Запада сделала иврит естественным выбором; как мы видели, первые иммигранты Первой Алии говорили на иврите с семьей Челуш в Яффо. Это был один из самых убедительных аргументов в пользу иврита и против идиша как национального языка, хотя миллионы евреев говорили на идише. В период Второй алии, когда происходили эти дебаты, все еще было неясно, одолеет ли иврит не только идиш, но и иностранные языки, проникшие на еврейскую культурную арену.
Учителя иврита в Палестине приняли сефардское произношение, потому что считали его наиболее близким к древнееврейскому, но этот выбор, вероятно, также выражал скрытую тенденцию различать традиционный ашкеназский иврит и новый палестинский иврит. Выходцам из Восточной Европы было нелегко овладеть сефардским произношением. До своей иммиграции Й. Х. Бреннер, впоследствии один из самых выдающихся писателей на иврите, очень его боялся. Берл Кацнельсон молчал в течение десяти дней после прибытия в Палестину, пока не освоился с языком. Палестинский иврит легче усваивался мужчинами, которые были знакомы с религиозными текстами с юности, тогда как женщинам приходилось выучивать его с нуля. В тот же период иврит стал языком литературы и культуры.
Героями триумфа иврита были учителя. Свободных преподавательских должностей было немного, поэтому лучшие умы Палестины искали эту работу в мошавах или городах. Что касается развития национальных образовательных и культурных практик в Палестине, учителя были ведущей элитной группой. Интеллигенция изо всех сил пыталась заработать себе на жизнь, даже когда ее члены формулировали разговорный иврит и язык преподавания, возрождали терминологию, необходимую в их работе, писали учебники и учили стихи и песни, которые распространяли среди своих учеников. Учителя также сформировали сионистский календарь и связанные с ним церемонии: Ту би-Шват, праздник посадки деревьев; двадцатое таммуза, день Герцля; и праздник Хануки, который превратился из празднования чуда с маслом в празднование героизма Маккавеев. Подчеркивалось скорее сельскохозяйственное значение трех праздников паломничества (Песах, Шавуот и Суккот), нежели их религиозное значение. Именно учителя организовывали экскурсии к историческим местам, таким как могилы Маккавеев и Бейтар, уделяя первоочередное внимание местам, связанным с героизмом и славой прошлого. Так они прививали знания и любовь к своей стране. Для них религиозные памятники, такие как могилы патриархов в Хевроне или могила праматери Рахили, были нежелательными. Основание в 1903 году Ассоциации учителей, первого подобного национального органа, отразило глубокое самосознание учителей и их веру в то, что они взяли на себя ответственность за предприятие с большим историческим значением.
В этом молодом обществе Библия была основополагающим текстом. Ицхак Табенкин, лидер рабочего течения, писал: «Библия была своего рода свидетельством о рождении, которое помогло разрушить барьер между человеком и страной и взрастило “чувство родины”… Это проявлялось в тесном, прочном контакте с Книгой и в то же время в чем-то столь необычном для рабочих – Библии находили почти в каждой рабочей комнате»[68]. Библия символизировала связь с национальным прошлым. Это был путеводитель по фауне и флоре страны, а также к местам древних поселений, которые на протяжении поколений были покрыты пылью, а теперь вновь обнаружены – поражающие воображение места, такие как гора Гильбоа, броды реки Иордан и долина Аялон. Это сохранило историческую память – то, что Ахад ха-Ам называл «книжной памятью»[69], – а также конкретизировало Землю Израиля, образуя прямую связь между прошлым и настоящим. Это было источником национальной гордости, доказательством еврейского творчества на земле Родины.
Но Библия также была текстом, полным универсального стремления к справедливости между народами, социальному равенству и миру во всем мире. В ней можно найти доказательства доктрин Ахад ха-Ама и Бердичевского. В конце первого десятилетия XX века разгорелись споры о том, как преподавать Библию в еврейской гимназии в Яффо (которая вскоре стала гимназией Герцлия в новом городе Тель-Авив), отражавшие различное отношение к значению Библии в националистическом контексте. Учитель Бен-Цион Моссинсон преподавал Библию в духе библейской критики Юлиуса Велльгаузена, рассматривавшего Библию как литературу, написанную людьми, которую можно критиковать и исправлять. Залман Эпштейн, умеренный религиозный сионист, и даже Ахад ха-Ам рассматривали эту концепцию как оскорбление наиболее фундаментальных исторических ценностей страны. Молодое поколение, однако, охотно поддерживало светское отношение к Библии, пыталось понять ее в современном буквальном духе через филологию и археологию, без слоев традиции, окружавшей ее на протяжении поколений.
Посредством Библии Моссинсон стремился привить своим ученикам любовь к Земле Израиля и неприятие жизни диаспоры. Таким образом, он создал психологический разрыв между «здесь» и «там», при этом присвоив Библии понятие «здесь». Этому противоречивому подходу противостояли многочисленные учителя, но он был близок по духу «родным» инстинктам, которые развивали сами студенты.
К 1910 году в Палестине было несколько ведущих газет. Hatzvi («Газель») и Hahashkafa («Перспектива»; она регулярно меняла свое название, чтобы избежать турецкой цензуры) Элиэзера Бен-Иегуды, они выражали франкофильские взгляды семьи Бен-Иегуды. Другими были Haherut («Свобода»), иерусалимская сефардская газета; Hapoʻel Hatzaʻir, орган этой партии; и Haʻahdut («Единство»), газета Poalei Zion, после недолгой попытки опубликовать журнал на идише партия приняла принцип, согласно которому иврит был доминирующим языком в Палестине.
Существовали десятки образовательных учреждений, связанных с национальной школьной системой, от детских садов до средних школ, семинаров для учителей, школы искусств Бецалель, консерватории и т. д. Несмотря на то что большинство студентов обучались в традиционных хедерах или образовательных программах благотворительных организаций, таких как французский Всемирный еврейский союз и немецкое общество Ezra, культурный климат страны был сформирован национальной системой образования. Буржуазная интеллигенция в Яффо (после 1909 г. – Тель-Авив) или Иерусалиме нашла общий язык с трудящимися Второй алии; вместе они провели кампанию по внедрению ивритской культуры в еврейский мир Палестины, и их союз сформировал эту культуру.
В то время доля писателей и других деятелей культуры была довольно высока среди евреев в стране. Кто-то из этой интеллигенции прожил здесь недолго, кто-то – много лет. Среди них были С. Бен-Цион, Й. Х. Бреннер, А. Д. Гордон, Давид Шимонович, Ш. Й. Агнон, Аарон Харевени, А. З. Рабинович и Моше Смилянский. Они стремились распространить интеллектуальную ивритскую культуру – в основном в форме литературы, – но столкнулись с двумя трудностями: во-первых, большинство ишувов в недостаточной степени знали иврит, чтобы получать удовольствие от чтения этой литературы, а во-вторых, предпочитали популярную культуру – и на идише. Каждый раз, когда в Яффо ставили пьесу на идише, она собирала огромную аудиторию обычных людей, которые жаждали развлечений на своем родном языке, развлечений, которых, к сожалению, не хватало на академических лекциях на иврите, читавшихся в клубах политических партий или в гимназии Герцлии, центре ревностного распространения иврита. Людей также привлекали цирк, шествия, гимнастические представления или кино, появившиеся в это время. Для интеллигенции это были унизительные проявления дешевой культуры, недостойные проекта национального возрождения, но они были более востребованы, чем высокие произведения на иврите, изобилующие националистическими посланиями. Конкуренция между идишем и ивритом привела к столкновениям между фанатиками иврита и носителями идиша. В своих домах иммигранты по-прежнему говорили на своем родном языке; простые люди говорили на идише, более образованные – на русском или немецком, а выпускники Союза – на французском. То были молодые люди, получившие образование в Палестине, для которых иврит служил разговорным языком.
Несмотря на конфликты, сформировалось ивритоговорящее сообщество, которое в течение нескольких лет продемонстрировало свою силу против внешнего культурного давления. Первое событие, доказавшее существование культуры на иврите, вошло в историю как «дело Бреннера». Бреннер, заслуживший высокую репутацию в писательском сообществе и среди работников Второй алии, опубликовал в Hapo’el Hatza’ir статью под названием Al Hizayon Hashmad («О феномене обращения»), где утверждал, что обращение в христианство не стоит большого обсуждения, поскольку те, кто обратился, в любом случае потеряны для еврейского народа, у которого есть гораздо более важные проблемы. Он приправил свои замечания провокационной критикой высокого статуса Библии в национальной и раввинистической учебной программе, даже добавив, что он не полностью отвергает Иисуса из Назарета как историческую личность. Статья вызвала большой резонанс в диаспоре, и Ахад ха-Ам призвал Одесский комитет прекратить финансирование Hapo’el Hatza’ir. Когда комитет проинформировал газету о своем решении возобновить финансирование только после смены редакционной коллегии, в Палестине начался всеобщий протест среди писателей и интеллигентской общественности. Было немыслимо, чтобы толстосумы Одессы контролировали общественное мнение в Палестине. Буржуазия и социалисты, образованные люди из мошавов и городская интеллигенция объединили свои силы в этом протесте, который засвидетельствовал существование в Палестине отдельной образованной общины. Она настаивала на своей независимости и отвергала идею, что богатые люди, проживающие в Одессе, могут навязывать свое мнение.
Второе событие, продемонстрировавшее силу этой интеллигенции, стало известно как «языковая война». В 1913 году совет управляющих общества Ezra в Германии решил, что преподавание в некоторых классах Техниона, который будет построен в Хайфе, и в высшей школе (ставшей впоследствии Высшей школой Реали) будет вестись на немецком. Против Ezra был организован общественный протест с требованием, чтобы языком обучения стал иврит. Протесты начались снизу среди студентов и учителей, организовавших забастовку. Ассоциация учителей и сионистская организация поддержали это действие в какой-то степени неуверенно, поскольку безуспешно пытались найти компромисс. Спор быстро превратился в общенациональную проблему. Бастующие учителя и ученики бойкотировали Ezra и открывали альтернативные школы, которые сионистская организация была вынуждена финансировать. До этого она избегала участия в образовании, что стало предметом раздора между ее религиозными и светскими членами. Участие рабочих партий, всех газет, учителей и студентов поставило общество Ezra в трудное положение.
В то время как борьба между идишем и ивритом была борьбой двух национальных языков, протест против Ezra был направлен против немецкого языкового колониализма. Борьба против иностранного языка объединила весь новый ишув, поскольку велась прежде всего против внешнего авторитета, диктующего культурную политику в Палестине. Достигнув компромисса с сионистами в отношении Техниона в 1914 году, Ezra до некоторой степени оправилось, но потеряло свою инициативу в области образования, и когда Британия оккупировала Палестину, все учреждения Ezra в стране были закрыты.
Накануне Первой мировой войны ишув насчитывал около 85 000 человек, что составляло примерно 12 % от общей численности населения страны 700 000 человек. Произошло увеличение с 5 % от общей численности населения 450 000 в 1880 году. Более половины евреев жили в Иерусалиме, и от 10 000 до 15 000 жили в Яффо (включая Тель-Авив, построенный как прилегающий пригород), общая численность населения которого увеличилась примерно до 45 000 человек. Накануне войны население сельскохозяйственных поселений составляло от 12 000 до 12 500 человек. После 30 лет сионистского освоения в Палестине было основано 45 сельскохозяйственных поселений. Но помимо реального существования мошавов, поместий, ферм и рабочих мошавов, которые оставили свой след в ландшафте страны, эти поселения представляли собой подтверждение того, что евреи могут быть поселенцами и строителями страны. Несмотря на все трудности и недостатки, ишув был динамичным и продуктивным. У него сформировалась впечатляющая система образования и интеллектуальная активность, выходившая далеко за рамки потребностей местного населения, выражающая видение интеллектуалов о том, что в этом месте зарождается новое еврейское государственное образование. Внутреннюю борьбу в ишуве демонстрировало динамичное, разнополярное общественное мнение.
Духовные искания сопровождались социальными инновациями. Концепция трудового поселения и эксперименты с частными и кооперативными поселениями превратили Палестину Второй алии в своего рода один большой социально-экономический эксперимент. Все было сделано в небольшом, зачаточном масштабе: фермы для обучения женщин-работниц животноводству и огородничеству, кибуц Мерхавия, группы овощеводов, питомники растений, рабочие группы по найму по контракту, коммуна Седжера и квуца в Ум-Джуни, позже ставшая Дганией. Это была атмосфера сельскохозяйственных и человеческих экспериментов, познания природы и познания человеческой натуры. Людям из этих ключевых групп, которым удалось пережить период войны, было уготовано стоять у истоков ишува в эпоху британского мандата.
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽