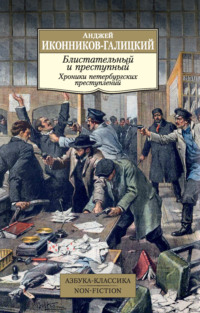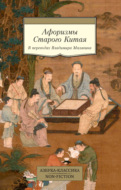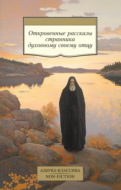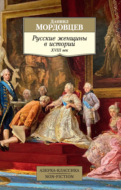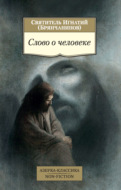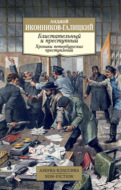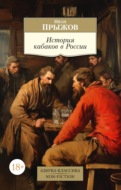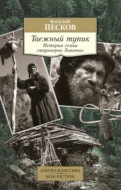Читать книгу: «Блистательный и преступный. Хроники петербургских преступлений», страница 4
Явная и тайная жизнь петербургского обывателя
Главный герой истинных, а не придуманных криминальных историй вовсе не романтический Ринальдо Ринальдини, не Робин Гуд, не Мефистофель и не злодей со скошенным лбом и свирепым взглядом. Итальянский антрополог-криминолог второй половины XIX века Чезаре Ломброзо совершенно зря пытался доказать существование врожденных «преступных типов»: якобы предрасположенность к преступлению заложена в будущем преступнике от рождения и проявляется в особенностях его анатомического строения и психофизиологического склада. Если бы так, всех преступников можно было бы определить как ядовитые растения, переловить, изолировать – и обыкновенные добропорядочные обыватели зажили бы припеваючи, не зная, что такое грабеж, воровство и убийство. На практике именно этот обыватель – средний человечек, прилично одетый, неброский, как правило семейный, частенько не без образования, имеющий чин, звание и место в обществе, – и есть подлинный герой криминала. Именно он зачастую выступает и в роли преступника, и в роли жертвы. Великий знаток преступного мира сыщик И. Д. Путилин говаривал, что из ста обывателей девяносто не отваживаются на самое страшное преступление – убийство – только из страха наказания и что если эти девяносто обывателей из ста были бы абсолютно уверены в своей безнаказанности, то в случае надобности легко пошли бы на душегубство, не говоря уж о чем другом.
Мир петербургского криминала не что иное, как оборотная сторона, грязноватая изнанка мира блистательной Северной Пальмиры. Лицевая сторона не бывает без оборотной. Петербургские преступники – чиновники, офицеры, гвардейцы, князья, адвокаты, придворные, извозчики, мастеровые, врачи, горничные и лакеи, солдаты, рабочие, даже околоточные и городовые, даже профессора, даже художники и писатели… Из нескольких сотен тысяч душ человеческих, столпившихся в углах и закоулках каменного лабиринта под тусклым невским небом, хищный демон преступления по ему одному ведомым причинам выхватывал то одну, то другую жертву; кого-то толкал на убийство, кого-то – на подделку деловой подписи, кого-то заставлял украсть, кого-то – смошенничать, кого-то – поджечь… Случайный выбор совести и судьбы. Как в оперной арии: сегодня ты, а завтра я.
Петербургский обыватель – наш главный герой. Кто он?
Он обязательно состоит в каком-нибудь сословии
С этого стоит начать, ибо тут главное – de jure и de facto – отличие тогдашнего россиянина от сегодняшнего. Принадлежность к сословию накладывала глубочайший, ничем не вытравимый отпечаток на весь образ жизни, стиль мышления, характер поведения, внешность, манеру одеваться, на вкусы и пристрастия и даже особенности интимной жизни каждого россиянина, каждого петербуржца.
Вот они, основные сословия государства Российского: дворянство, духовенство, почетное гражданство, купечество, мещанство, крестьянство (до 1861 года разделявшееся на крепостных и находившихся вне крепостной зависимости крестьян); особое место в этой системе занимали казаки, а также иноверцы и инородцы. Первые четыре сословия были привилегированными, то есть обладали рядом особых прав (свобода от рекрутской повинности, податные льготы и т. п.). В ходе реформ 1860–1870-х годов некоторые права были изменены, некоторые – распространены на все сословия (например, свобода от телесных наказаний). В Петербурге были представлены решительно все сословия, но лидировали по численности крестьяне (почему – см. ниже), далее шли служащие (мелкие чиновники, офицеры, солдаты, придворные служители) и мещане, далее – инородцы (преимущественно «чухны» и остзейцы); далее – потомственные дворяне, купцы и духовенство. Сословия имели свое внутреннее корпоративное и территориальное устройство: крестьянские миры, городские общества, ремесленные цехи, купеческие гильдии, дворянские собрания и т. п. Нижегородский мещанин, тверской государственный крестьянин, орловский однодворец, московский купец второй гильдии – каждый осознавал себя частью именно своего сословия и социального круга.
Образ жизни, род занятий, стереотипы поведения, особенности культуры, социальная психология и даже внешний вид и стиль одежды у представителей разных сословий были свои. Безупречная прическа, холеные руки, белоснежный воротничок – идет дворянин; сапоги и стрижка «под горшок» – верный признак мастерового, крестьянина на заработках; одет по-благородному, но лицо простовато, манеры слащавы и говорит немножко вычурно – молодой мещанин. И так далее.
Сословная принадлежность практически всегда передавалась по наследству (исключения: личное дворянство и личное почетное гражданство; связанные с этими состояниями права предоставлялись за личные заслуги и не наследовались). Способы выхода из родительского сословия были строго ограничены. Для мужчин это прежде всего успешная государственная служба: достижение определенного чина давало права личного или потомственного дворянства. Другой вариант: отставной солдат, из какого бы сословия он ни происходил, имел право приписаться к непривилегированному сословному обществу по месту жительства и роду промысла. Для людей, готовых идти жертвенным путем, пострижение в монахи давало возможность влиться в духовное сословие. Был и негативный способ, ведущий к деклассированию: совершение преступления, за которое следовало наказание, сопровождавшееся лишением прав состояния. Что касается женщин, то для них путь государственной службы был невозможен, зато имелся другой, недоступный мужчинам: выйти замуж за представителя иного сословия. Жена вступала в сословие мужа; исключение делалось для дворянок: выйдя замуж за недворянина, женщина сохраняла права дворянства, но не могла передать их детям от этого брака. Впрочем, межсословные браки традиционно не приветствовались обществом и даже осуждались, а потому были редкими.
В своем старом, дореформенном виде сословный строй был органичен, устойчив и являлся мощнейшим стабилизатором общества. После отмены крепостного права, с развитием капиталистических отношений сословия стали разрушаться – и в аспекте социально-экономическом, и в правовом, и в культурном, и в бытовом. Массовый отток населения из деревни в город на постоянное место жительства или на сезонные работы; уравнение в правах представителей разных сословий при осуществлении судебной реформы; развитие банков и рост промышленности и, между прочим, успехи железнодорожного строительства, сделавшего неизмеримо более легким и доступным перемещение по стране, – все это лишь некоторые из множества факторов, подтачивавших и разрушавших сословную систему. В крупных городах, и в первую очередь в Петербурге, процесс разрушения межсословных граней шел стремительно. Проявлялось это вот в чем.
Петербург, как никакой другой город империи, испытал мощный наплыв сельских жителей, кои числились в крестьянском сословии. К середине 1870-х годов около половины постоянных жителей Петербурга по документам числились крестьянами. А ведь ежегодно в столицу наезжало из деревень еще и множество сезонных рабочих!
«В каменных джунглях» столицы, как нигде, интенсивно шли процессы люмпенизации. Активнее всего – в среде служилого люда, мещан, приезжающих в город на заработки крестьян и, как это ни странно, среди дворянского сословия. Так, большую часть питерских нищих в 1870–1872 годах составляли отставные нижние чины – 35,6 % (военная столица!), затем мещане – 27,7 %, крестьяне – 22 % и лица дворянского сословия – 8,5 %. В общем числе официально зарегистрированных столичных проституток 37,5 % приходилось на крестьянок, 33,6 % – на мещанок, 25 % – на солдаток и солдатских дочерей; 3,6 % – на представительниц всех, вместе взятых, привилегированных сословий. (В скобках напомним, что дворяне составляли лишь около 2–3 % населения страны в целом, крестьяне же – свыше 80 %.)
В то же время активно шло социальное сближение капиталистического класса (представленного главным образом купечеством) и дворянства. Родовитые дворяне-предприниматели, такие как князь Вяземский (владелец так называемой Вяземской лавры), крупный промышленник князь Тенишев, финансист барон Фитингоф и другие, по роду занятий и социальной психологии мало чем отличались от богатых купцов. В свою очередь, купцы гнались за чинами, орденами и другими привычными атрибутами высшего сословия и все чаще удостаивались их.
Еще один любопытный социокультурный процесс – размывание духовного сословия. Сыновья священников, получавшие бесплатное и неплохое образование в духовных семинариях, все чаще предпочитали не идти по стопам отцов, а поступать в светские высшие учебные заведения или на государственную службу. Нередко именно они становились носителями наиболее радикальной, а то и антисоциальной идеологии. Примеры: идеологи революционного народничества Добролюбов и Чернышевский, создатель народовольческих бомб Кибальчич.
И наконец, стремительно растет число межсословных браков. Женитьбы небогатых дворян на купеческих дочках, равно как и купеческих сынков на бедных дворянках, стали притчей во языцех и предметом изображения комедиографов. Менее заметны, но куда более многочисленны были браки между представителями мещанского и крестьянского или мещанского и купеческого сословий. Были и вовсе экзотические случаи: молодой князь Щербатов, например, женился ради денег на семидесятисемилетней неграмотной вдове… Она, правда, была вдовой генерала, но по второму своему браку; по рождению же принадлежала к крестьянскому сословию (об этом см. в ч. II, гл. «Любовь, брак… и преступление»). Это пример редкий, но характерный для Петербурга пореформенных лет.
Под воздействием этих и других факторов на месте старых сословий начинают складываться новые общественные классы: капиталисты, городской пролетариат и интеллигенция. Между тем законы Российской империи не только не поспевали за этими процессами, но и во многих смыслах игнорировали их. В результате обязательная с точки зрения закона фиксация сословной принадлежности становилась делом все более бюрократическим. Все чаще сословная принадлежность определялась не реальным положением в обществе, а записью в паспорте; запись же эта делалась на основании формальных признаков: по месту рождения и по сословной принадлежности родителей. Народоволец Желябов никогда в сознательной жизни не пахал землю, но на суде по делу о цареубийстве 1 марта 1881 года проходил как «херсонский крестьянин Андрей Желябов»; его революционная возлюбленная на том же процессе именовалась «дворянка Софья Перовская»; их соратник и создатель роковой бомбы – «сын священника Николай Кибальчич».
Сословная принадлежность указывалась в документах следующим образом: сословие и место приписки, затем имя (иногда отчество) и фамилия. «Саратовский дворянин Дмитрий Каракозов», «костромской крестьянин Комиссаров» (ставший, после того как его рука отстранила направленный на государя пистолет Каракозова, «дворянином Комиссаровым»). В определенных случаях более полно: «крестьянин Новгородской губернии, Белозерского уезда, Покровской волости Иван Петров Сидоров». Когда речь шла о дворянах и духовных лицах, не имевших приписки, писали просто: «священник Гавриил Чернышевский», «дворянин Владимир Михневич». Неслужащие и неслужившие дети дворян писались просто дворянами, служащие – с обязательным указанием действительного чина или чина, полученного при отставке: коллежский асессор такой-то, отставной надворный советник такой-то. Обучение в высших учебных заведениях в смысле прав приравнивалось к государственной службе, поэтому в документах учащиеся именовались без указания происхождения: «действительный студент Дмитрий Разумихин», «бывший студент Родион Раскольников». Женщины паспортов, как правило, не имели, а вписывались в паспорт мужа (до замужества – отца); соответственно, в документах именовались: «жена майора Ковалева», «вдова генерала Хомутова», «дочь коллежского регистратора…», «купеческая дочь…», «дочь мещанина…». Дворянские жены и дочери могли именоваться просто: «дворянка такая-то».
Он обязан молиться Богу
Наряду с сословной принадлежностью в паспортах, в других важных документах, в текстах имущественных договоров, в обвинительных заключениях и судебных приговорах указывалось вероисповедание. Каждый житель империи обязательно принадлежал к одному из дозволенных вероисповеданий; отсутствие вероисповедания законом не допускалось. Самым массовым и единственным государственным вероисповеданием было православное. Среди дозволенных крупнейшими по численности были христианские: лютеранское, католическое, старообрядческое, армянское; а также нехристианские: мусульманское (магометанское), иудейское (еврейское), буддийское. Необходимо отметить, что нигде в документах дореволюционной России не указывалась национальность; эту графу заменяло вероисповедание. Исключение составляли евреи, национальность коих была неразрывно связана с религией. Поскольку в те времена еврей, отказавшийся от веры отцов, выходил из еврейского общества, постольку он с точки зрения закона переставал быть евреем. Поэтому дочь симферопольского еврея Мордки Палема Мариама Палем после принятия крещения стала именоваться: «симферопольская мещанка Ольга Васильевна Палем (отчество давалось по имени крестного отца. – А. И.-Г.), православного исповедания» (и в этом статусе проходила обвиняемой по делу об убийстве своего сожителя действительного студента Александра Довнара). Представители нерусского населения и при этом неправославные в совокупности именовались инородцами. Их инородчество указывалось только в том случае, когда отсутствовали принятые в документах социальные признаки, например: «бухарский житель Ислам Каримов, мусульманского исповедания».
В Петербурге жили представители всех названных вероисповеданий. Православные составляли абсолютное большинство. Кроме них, много было лютеран – в основном немцы, эстонцы и финны (последних именовали «чухонцы», «пригородные чухны»). К лютеранам относились и многочисленные в Петербурге «рижские граждане» (то есть мещане города Риги). Далее шли: католики (поляки), мусульмане (татары), армяне, старообрядцы. Все они имели в городе свои храмы. Очень мало было буддистов, храм их община смогла построить только в начале XX века. Что же касается евреев, то они хотя и не имели права свободно селиться вне черты оседлости, все же активно проникали в Петербург, и постепенно здесь сложилась довольно многочисленная еврейская община. Для того чтобы легально поселиться в Петербурге, еврею необходимо было получить разрешение полицейских властей, которое прежде всего выдавалось богатым коммерсантам, купцам, представителям дефицитных в столице профессий и учащимся. Возможность жить в Петербурге давало вступление в брак с лицом христианского вероисповедания и, конечно, принятие крещения. Евреи широко пользовались всеми этими законными и множеством незаконных способов пребывать в столице. Евреев было много среди петербургско-московского купечества, среди издателей и журналистов (Н. А. Нотович, А. Ф. Маркс, А. Я. Липскеров, И. Я. Гурлянд, И. Ф. Манасевич-Мануйлов), среди банкиров и финансистов (к концу XIX века еврейский капитал в лице Гинзбургов, Рубинштейнов, Поляковых, Гуревичей и других уже полностью преобладал в столице). Чрезвычайно активно включалась еврейская молодежь в подпольную революционно-террористическую деятельность. Данные полицейской статистики указывают на неожиданный факт: и в жизни преступного мира столицы евреи играли роль очень заметную, во всяком случае значительно превышавшую их пропорциональное представительство среди столичного населения.
Он служит или мечтает о службе
Россия – страна чинопочитания. Так обстоит дело и сейчас; стократ весомее слово «чин» звучало столетие назад. «А какой на тебе чин?» – от ответа на этот вопрос зависела и мера уважения, и глубина поклона, и формула обращения. Императорский Петербург с его многочисленными департаментами и канцеляриями был подлинной столицей чинопочитания и законодателем чиноразличительных мод.
Система чинов императорской России в основном сложилась еще в начале XVIII века и была узаконена Петром Великим в 1722 году. Указ вводил так называемую Табель о рангах, то есть регламент, определяющий порядок прохождения государственной службы, старшинство и взаимное соотношение служебных чинов. За два столетия в Табель о рангах вносились изменения, но в основных чертах она сохранилась, пережив эпоху реформ, до революции 1917 года.
Из государственных служащих вне Табели о рангах находились «нижние чины» – например, канцеляристы, унтер-офицеры и солдаты. Их служба не давала никаких прав и привилегий (кроме права выбора места жительства и рода занятий после отставки) и носила обязательный, а в большинстве случаев принудительный характер. Солдат до 1874 года набирали из низших податных сословий по рекрутским наборам; после 1874 года, после введения всеобщей воинской повинности, – по призыву. Ежегодно определялось потребное для армии количество новобранцев, после чего конкретные лица призывного возраста призывались на службу по жребию.
Служба в чинах Табели (в классных чинах) была добровольной и давала ряд важных прав и привилегий: право на получение государственного жалованья и на ношение мундира, свободу от телесных наказаний, право подавать в отставку и, наконец, важнейшее: при достижении чина определенного класса (этот уровень постоянно повышался) – получение прав дворянства. Однако служба накладывала на человека и ряд ограничений: так, например, чиновник или офицер, вознамерившийся жениться, должен был испрашивать у начальства разрешение на этот шаг. От начальства зависела выдача служащим паспортов и подорожных, и им нельзя было отлучиться от места службы в иной город без соответствующего разрешения. От чиновника или офицера требовалось соблюдение строгих правил поведения; особенно суров был офицерский кодекс чести, но и гражданским чиновникам много чего не полагалось. Например, находиться в мундире в «скверных» местах (публичных домах, трактирах, у цыган). Буянить на улице. Попадать в участок. Печатать под своим именем статьи или стихи в газетах. За подобного рода «безобразия» чиновника могли хорошенько «распечь», а то и уволить от службы без прошения, без пенсиона и без производства в следующий чин. Это, конечно, не значит, что офицеры, чиновники (и приравненные к ним по правам и обязанностям учащиеся государственных учебных заведений) строго воздерживались от посещения кабаков и борделей; просто-напросто, направляясь туда, надобно было переодеться в партикулярное.
Социальный статус носителя классного чина был тем выше, чем дальше от столиц служил его носитель. В Петербурге, где государственных служащих роилось особенно много, высок был статус носителей только самых высших чинов; но все же служившие в самых малых чинах на общественной лестнице стояли выше крестьян, наемных работников, торговцев, ремесленников, инородцев, то есть выше большинства населения столицы.
Кроме военной и статской, в Петербурге был еще третий род службы – придворная. Нижние, вне классов, чины дворцового ведомства в документах именовались придворными служителями. Их насчитывалось свыше 2 тысяч, а вместе с членами семей – до 8 тысяч, – при населении города в 600–700 тысяч. Классные придворные носили высокие чины – от VIII до II класса.
Особенно почетной была служба в гвардии. В общественном сознании гвардейский офицер стоял едва ли не на одном уровне с придворными. Кроме того, гвардейская служба была дорогостоящей, да и определиться в гвардию было непросто; как правило, служба в гвардейском полку свидетельствовала о связях, состоятельности и принадлежности к высшему обществу. Поэтому широкий резонанс получали преступления или любые скандалы, в которых были замешаны гвардейские офицеры, даже и отставные. Например, дело об убийстве, совершенном гвардии прапорщиком Ландсбергом (см. об этом в ч. II, гл. «Знаменитые убийства»), дело об игорном доме, который содержал гвардии штаб-ротмистр Колемин (см. об этом в ч. III, гл. «В двух шагах от Невского»), дело о подделке завещания отставного гвардии капитана Седкова (см. об этом в ч. II, гл. «У истоков организованной преступности»).
Все чины распределялись по четырнадцати классам, от высшего I до низшего XIV. Между чинами статской, военной и придворной службы было установлено строгое соответствие. Периодически в Табель о рангах вносились изменения, среди них очень существенные были сделаны в 1884 году. Ниже приводим роспись чинов Табели о рангах полностью в том виде, в каком она действовала в 1860–1880-х годах.
Чины I класса присваивались лишь в особых случаях именным указом государя. Чины II класса носили министры и генерал-губернаторы; III класса – товарищи министров, сенаторы; IV класса – директора департаментов, губернаторы, председатели и прокуроры судебных палат; V класса – вице-губернаторы, председатели окружных судов. Чины первых пяти классов именовались генеральскими, причем генералами называли и их статских носителей; с VI по VIII классы – штаб-офицерскими; остальные – обер-офицерскими.
Служащие жандармерии имели воинские чины и являлись офицерами. Например, отец погибшего при не вполне ясных обстоятельствах юноши Николая Познанского (см. об этом в ч. II, гл. «Незабудки и самоубийцы») был жандармским полковником. Именно принадлежность жандармов к офицерству делала для них невозможной агентурную работу: «шпионство» было несовместимо с честью офицера. Служащие полиции не именовались воинскими чинами, а при их должности обычно просто указывался класс Табели о рангах: «околоточный надзиратель, двенадцатого класса, Миронович». Специально оговаривалось, что околоточному надзирателю присваиваются права чина не ниже XIV класса, даже если при вступлении в эту должность служащий не имел классного чина. Что же касается судебных следователей и прокуроров, то они имели гражданские чины в зависимости от конкретной должности, обычно IX–VI классов.
При добровольной отставке офицер или чиновник, как правило, получал повышение в чине: майор, выйдя из службы, становился отставным подполковником, титулярный советник – отставным коллежским асессором. При отставке за провинность – отставлялся «тем же чином». Гвардейский офицер, если он переводился в армию, обычно получал повышение на два класса: из гвардии майора в армейские полковники, из гвардии корнета в армейские поручики. Перевод из гвардии в армию тем же чином был равен разжалованию.
Всем чинам военной, статской и придворной службы, а также студентам и учащимся государственных средних учебных заведений предписывалось и дозволялось ношение мундира. Это нужно знать, чтобы представить себе вид уличной толпы, посетителей общественных мест и тайных притонов тогдашнего Петербурга. Обладателей классных чинов и учащихся в столице было, как нигде, много. Военные носили мундиры полков. После Крымской войны 1853–1856 годов форма была несколько упрощена по сравнению с эпохой Николая I; в частности, блестящие эполеты были заменены скромными погонами (эполеты были оставлены для парадов). Офицеры всюду и всегда появлялись только в форме; ношение ими штатского платья считалось несовместимым с офицерской честью, оскорбительным для полка. Особенно выделялись на улицах и в общественных местах Петербурга гвардейские мундиры. Большинство офицеров, находившихся в Петербурге, служили в гвардейских полках. Гвардейские мундиры различались цветом сукна и сохраняли еще множество декоративных элементов – золотое и серебряное шитье, меховые выпушки и т. д. Рядом с ними скромно темнели мундиры статских служащих: в отличие от военных они были одинаковыми, или почти одинаковыми, у большинства чиновников. Черный двубортный сюртук или фрак определенного покроя, без знаков различия, но с форменными медными пуговицами, украшенными двуглавым орлом; панталоны; фуражка с кокардой (эти фуражки были введены в 1856 году); у высших чинов – сюртук, шитый золотом, и треуголка. На кокарде изображался символ ведомства, в котором служит чиновник. От них отличались мундиры студентов (шинель, куртка со стоячим воротником, фуражка с околышем и кокардой; цвет мундира и форма кокарды обозначали институт, в котором учится владелец), гимназистов и дипломатов. Ношение этих мундиров было обязательно в присутственных местах и во время службы (учебы); вне ее чиновник или учащийся мог появляться в партикулярном платье. Свои мундиры, и очень роскошные, были, разумеется, у придворных. Полицейские носили синие мундиры; жандармы – голубые.
Табель о рангах
(состояние на конец XIX века){Дается по изданию: Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т. 1. А—Г. М., 1989. С. 661–663.}


1 Придворный чин камер-юнкера мог соответствовать чинам VII–IV классов.
2 Гражданские чины XI класса (корабельный секретарь) и XIII класса (сенатский регистратор, синодский регистратор, кабинетский регистратор, провинциальный секретарь) числились в Табели, но не присваивались. В 1884 году они были упразднены.
Чин во многом определял психологию и социальный статус человека. Чин не только обязательно указывался в документах, но и становился как бы частью имени его носителя. Действительный или бывший служащий при знакомстве представлялся, называя сначала чин, а потом имя. Младший в чине всегда с долей подобострастия обращался к старшему. Старший немного снисходительно и свысока смотрел на младшего.
Чинам соответствовала и строго определенная форма словесного обращения. К обер-офицерам и чиновникам XIV–X классов положено было обращаться «ваше благородие». К штаб-офицерам и чиновникам IX–VI классов – «ваше высокоблагородие». К особам V класса – «ваше высокородие». К генералам – «ваше превосходительство». К особам первых двух классов – «ваше высокопревосходительство». Эти обращения были обязательны со стороны младших к старшим; среди равных или неслужащих дворян бытовало обращение «милостивый государь». Эти обращения использовались как в устной речи, так и на письме. Не использовались – только накоротке, между друзьями.
Для полноты картины – два слова о дворянских титулах. Подавляющее большинство российского дворянства было нетитулованным. Почти половина его к тому же не являлась родовитой, а выслужилась в XVIII–XIX веках. Лишь самая верхушка, несколько процентов дворян, носили титулы: князь, граф, барон. Единственный титул русского происхождения – князь. Большинство князей считали себя либо потомками Рюрика (например, Вяземские), либо – Гедимина (например, Голицыны), либо – Чингисхана (например, Юсуповы). Родственники угасшего рода царей Грузии при присоединении ее к России тоже получили княжеский титул (Багратионы, Грузинские, Имеретинские). Со времен Петра, однако, государи и государыни начинают жаловать княжеский титул своим самым избранным приближенным. В XVIII веке это делалось так: российский император договаривался со своим союзником, императором Австрии, который был также императором Священной Римской империи, и тот награждал фаворита титулом «князь Римской империи». Такими князьями Римской империи были Меншиковы, Орловы (от екатерининского фаворита Григория), Суворовы и т. д. В XIX веке русские государи сами, правда в исключительно редких случаях, раздают княжеское достоинство. Так появились, например, князья Голенищевы-Кутузовы.
Гораздо чаще император в награду за длительную успешную службу или за какие-то исключительные заслуги жаловал своим сановникам графский титул. За полтора столетия появилось довольно много таких служилых графов: Бенкендорфы, Палены, Киселевы, Васильевы, Толстые, Панины, Игнатьевы, Шуваловы и пр. В общественном сознании графы стояли много ниже князей, но неизмеримо выше прочего дворянства. К графам и князьям полагалось во всех случаях обращаться «ваше сиятельство». В отдельных случаях, если государь жаловал князю еще и дополнительный титул – «светлейший», – следовало обращение «ваша светлость». Баронский титул, за редкими исключениями, не жаловался, а принадлежал главным образом представителям остзейской (прибалтийской, немецкой) или шведской родовой аристократии: бароны Дельвиги и Корфы, Врангели и Розены. В общественной иерархии бароны стояли значительно ниже князей и графов.
Титул (любой) давал дворянину особое положение в обществе. Титулы ценились в купеческой и мещанской среде, и нередкими были случаи браков, связанных со стремлением капиталистов породниться с бедными носителями титула. Титул также рассматривался как своего рода гарантия благородства и честности. Поэтому преступления и всяческие темные деяния, в которых были замешаны представители титулованной знати, привлекали к себе особое внимание общественности.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе