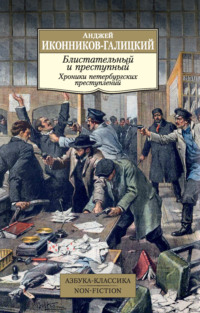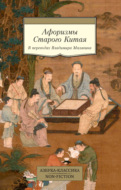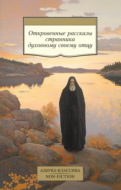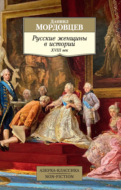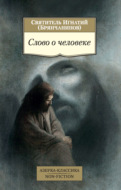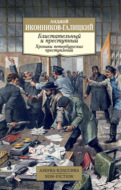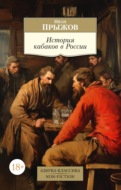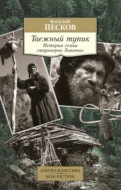Читать книгу: «Блистательный и преступный. Хроники петербургских преступлений», страница 2
Возлюбившие диавола
Дело об убийстве девицы Назаренко мещанином Ивановым, рассматриваемое Петербургским окружным судом в 1891 году, было простым и ясным. Молодой, довольно-таки беспутный человечек, обладатель неприметной фамилии и столь же неприметной внешности, Иванов зарезал свою невесту Настасью Назаренко на почве ревности к ее бывшему сожителю. Убийство было совершено при свидетелях. Подсудимый, арестованный на месте преступления, полностью признал свою вину. Осуждение его по статье за умышленное убийство грозило наказанием до 20 лет каторги. Защита доказывала, что преступление было «совершено в состоянии запальчивости и раздражения, повлекших невозможность управлять своими действиями». Такая формулировка давала возможность снизить срок наказания до нескольких месяцев тюрьмы. В итоге суд признал Иванова виновным в «умышленном убийстве без заранее обдуманного намерения» и «припаял» шесть лет каторжных работ. Наказание не чрезмерное, спасибо защитнику.
Как раз защитник, присяжный поверенный С. А. Андреевский, в начале своей речи сказал об этом сереньком бытовом преступлении: «Мы встречаемся с событием, достойным изучения». Воистину так. Изучения достойны два аспекта: социально-психологический облик убийцы, а также смысл защитительного пафоса Андреевского.
Прежде всего интересна эта мещанская среда. Мещане составляли в те годы от четверти до трети населения Петербурга (это по документам; мещанский же образ жизни разделяли многие представители других сословий) – а что мы знаем об их материальной и духовной жизни? Их мир не изучен, но почти тождественный мир послереволюционного ленинградского мещанства гениально описан Зощенко. И вот при изучении обстоятельств данного убийства мы сразу попадаем в «зощенковский» сюжет.
Вот что сообщает (не без романтического волнения) Андреевский об обстоятельствах знакомства будущих убийцы и жертвы: «Увидев ее в дилижансе в первый раз в жизни, Иванов мгновенно полюбил ее и даже тут же сделал ей предложение». У Зощенко в рассказе «Свадебное происшествие»: «Сидит он в трамвае и вдруг видит, перед ним этакая барышня вырисовывается. Такая ничего себе барышня, аккуратненькая… И так у них все это быстро и без затрат обернулось, что через два дня Володька Завитушкин и предложение ей сделал». Зощенковский рассказчик констатирует: поторопился Володька. Присяжный поверенный Андреевский, знаменитейший российский судебный оратор, властитель дум и душ «почтеннейшей публики», воспаряет в иные сферы: «Скажут, пожалуй, что, увидев женщину всего один раз, можно разве только влюбиться в нее, но нельзя полюбить. Но вся история поэзии говорит нам противное… Данте, Ромео, Фауст. Все они имели глубочайшие привязанности, возгоревшиеся в первые секунды встречи». У Зощенко: «Но поскольку им негде было встречаться, то они, буквально как Ромео и Джульетта, стали встречаться на улице или в кино…» Воистину, история поэзии «говорит нам противное».
Но между влюбленным мещанином и его счастьем стали громоздиться препятствия. Барышня, в облике которой взор Иванова, по словам адвоката, «встретил мгновенный приговор» (NB: тут судебный оратор заговорил стихами, прямо как романс запел: «Есть лица женские, в которых взор мужчины // Встречает для души мгновенный приговор»), эта «миловидная мещаночка», находясь в услужении в богатом доме, сошлась с буфетчиком («А как не полюбить буфетчика Петрушу?»), родила от него ребеночка, коего безболезненно отдала в воспитательный дом. А в остальном – жила честно, благородно. Опускаем подробности душевных метаний «бурной личности Иванова». Его предложение было принято на третий день знакомства. Но червь сомнения! На седьмой день «самая честная из заводских девушек, Катя, подтвердила связь Насти с буфетчиком; еще одна кумушка уверяла Иванова, что и после знакомства с ним к Насте ходил буфетчик и даже, вероятно, был в эту ночь». И далее (снова высокий штиль): «Вот к какой женщине направлялся Иванов со своим переполненным горечью сердцем, вот к кому входил с надеждой на душевное исцеление, как входят верующие во храм со своим горем». (Между прочим, «переполненное горечью сердце» Иванов ходил лечить не только «в храм» своей невесты. «У него была довольно постоянная связь с известной нам ключницей… и еще с какой-то прачкой…» Из этого защитник делает вывод: «Любовь была для этого человека чем-то величайшим на свете».) Финал: «На искаженном лице Иванова Настя вдруг прочитала свою гибель. Она с ужасом закричала: „Уходите!“ Иванов спросил в последний раз: „Ты меня гонишь?!“ (нож был уже у него в руке, вот только когда этот нож, как змей, проскользнул в его руку). – „Да, убирайтесь вон!“ – „Умри же, несчастная!..“».
Между прочим, последнее восклицание убийцы – подлинное, его слышали свидетели. Молодец Андреевский: он глубоко вжился в сюжет мещанской драмы, настолько вжился, что сам стал говорить заимствованным из бульварных романов языком своих персонажей. Перед нами очень интересная драма: квазишекспировский сюжет, разыгранный мелкими людишками в обывательском клоповнике на Пороховых. «Умри же, несчастная!» – изумительно звучит в устах бывшего штабного писаря, выгнанного со службы за пьянство, зарабатывающего слесарной работой на заводе, пишущего свои показания «очень литературно, без всяких поправок и малейших ошибок – даже в знаках препинания».
Очень интересный тип этот Иванов. Тогда, в 1891 году, ему было 27 лет. В 1917-м, стало быть, исполнилось 53. Если, конечно, он не умер на этапе, не был зарезан на каторге, не спился на поселении. Так или иначе, в революционных событиях он по возрасту и состоянию здоровья вряд ли мог принять активное участие, даже если дожил до них. Но именно такие, как он, только помоложе, и были главной движущей силой февраля Семнадцатого. Помнится, Ленин, едва приехав в революционный Петроград, по горячим следам охарактеризовал эту революцию как «пролетарскую по своим движущим силам и буржуазно-демократическую по своим задачам». Ее главный участник – некто средний между рабочим и «буржуем»: пролетарий из обывателей, то есть деклассированный мещанин. То есть Иванов. То есть штабной писарь, из простых, но с запросами, читатель романов и прокламаций, неустроенный материально и в личном плане; в то же время большой знаток того, как должно быть и чего быть не должно. То, чего быть не должно, – нужно изничтожить: свергнуть, сжечь, разрушить, расстрелять. На худой конец – зарезать. Он же еще и моралист (цитируем нравоучение из показаний подсудимого Иванова): «Достойны также порицания пляски замужних женщин, из числа которых некоторые имеют замужних дочерей, невест, а другие – женатых сыновей». Вспоминается, что, с точки зрения мелких партийных и комсомольских работников в 1920-е годы, танцы, то есть «пляски», замужних и прочих женщин и мужчин также были «достойны порицания». То есть, конечно, сами плясали, но других осуждали. Все ведь вполне естественно: в событиях Семнадцатого года огромную роль сыграла «мелкобуржуазная стихия»; она же восторжествовала по завершении Гражданской войны. Нэповский Петроград – это город, из которого исчезли многие категории его прежних обитателей – аристократы, князья, дворяне, генералы в шитых золотом мундирах, вытянутые в струнку гвардейские офицеры, великосветские дамы, банкиры и заводчики в безупречных сюртуках и сияющих цилиндрах… А кто уж точно остался? Зощенковские персонажи, мещане, бывшие штабные писари, а теперь – совслужащие, мелкие и средние управленцы. В их ряды влились выходцы из бывшей черты оседлости, их концентрацию лишь слегка разбавляли по окраинам мрачноватые и не всегда трезвые питерские рабочие; вокруг них бледными тенями бродили ощипанные «бывшие». А вообще-то, в результате революции город занял мещанин-обыватель.
И вот в свете итогов революционно-криминального процесса оказывается, что могучий революционный пафос деяний Засулич, Карповича, Балмашова мало чем отличается от пискливого бытового пафоса убийцы Иванова, в чьих «круглых глазах, большей частью серьезных, мелькает беспокойный огонек блуждающей мысли». Этот огонек – отсвет пламени, пожиравшего душу Раскольникова, освещавшего путь апологета идейного убийства Сергея Нечаева и всех прочих, отвергших простую Божью заповедь «не убий» ради того или иного сомнительного идеала. Они все делали одно дело. Мещанин Карпович, бывший студент, убил человека из идейных соображений. Но и мещанин Иванов, бывший канцелярист, тоже убил человека из идейных соображений (правильно сделал суд, что не признал аффекта). Идея Карповича: государство отвергло меня и мою истину, следовательно, оно есть зло; стреляя в министра, я уничтожаю это зло и себя вместе с ним. Мысль, «блуждающая в глазах» Иванова: «Она отвергла меня, она неверна мне! Она – само злодейство! Убив ее, я уничтожу зло! Умри же, несчастная!»
Характерная деталь: Засулич, Карпович, Балмашов и Иванов после совершения преступления ведут себя совершенно одинаково: никуда не спешат, не пытаются скрыться. «Когда смертельно раненная Настя выбежала из комнаты, Иванов – уже убийца – с видимым спокойствием сел за стол». Все они в свой звездный час «стоят спокойно и уверенно, как будто в ожидании чего-то». Понятно, в ожидании чего. В ожидании награды за совершение высшей справедливости.
Награду все они получили. Для Балмашова ею стала смерть – упоительнейшая радость всякого «идейного» убийцы. Для Засулич – почет и слава и восхитительная роль бабушки революционного террора. Для Иванова – те несколько часов в зале суда, когда к нему было приковано боязливое и любопытное внимание петербургского общества. Когда – шутка ли! – лучший адвокат столицы, указывая на него, восклицал: «В нем есть и карамазовская кровь, есть большое сходство с Позднышевым из „Крейцеровой сонаты“» – и сравнивал его, щупленького, серенького, тонкошеего, с Данте и Фаустом. Ради таких минут и живут честолюбивые питерские мещане, ради них и убивают.
Адвокат, для того чтобы выиграть дело, должен дышать одним воздухом с залом; содрогаться и трепетать в одном ритме с залом. Адвокат Андреевский идеально уловил чувства и вожделения общества – как в свое время Александров на процессе Засулич. Главное чувство масс по отношению к личности убийцы и его деянию можно назвать так: боязливое восхищение. Есть такая форма любви, проявляющаяся в страхе, соединенном с необоримым влечением.
Потому-то власть и общество оказались столь бессильны перед революционным террором. Потому и адвокаты – умные, добропорядочные, интеллигентные люди – так старались, не просто защищая, но возводя преступников на пьедестал. Возлюбили диавола.
Императорский Петербург был чертогом этой любви. Именно здесь разрушение праведности в душах людей шло интенсивнее всего. Честолюбцы, искатели чинов и наживы, любители сладкой жизни, бездельники, нищие, женщины легкого поведения, «золотые ручки», графы Калиостро, изобретатели эликсира жизни и борцы за всеобщее счастье стекались сюда не только со всей России – со всего мира. Конечно, не одни они ходили по петербургским мостовым. Благонамеренно-робкие Акакии Акакиевичи, энергичные Штольцы, безобидные Обломовы, правильные Разумихины составляли, наверное, пестрое и разобщенное большинство его жителей. Но не они становились героями реальных петербургских романов, трагедий и поэм. В октябре Семнадцатого, да, пожалуй, и в феврале, добропорядочные противники революции тоже были в большинстве. На страшное меньшинство, состоящее из демонических вождей и множества полууголовных бесов, они смотрели с тем же боязливым восхищением, с каким дореволюционная публика взирала на обвиняемого в зале суда. И приходится добавить: бывало, что кое-кто из добропорядочных очертя голову бросался в омут революционного или просто так, безыдейного криминала.
Историю преступного Петербурга еще предстоит написать.
Пора заканчивать это затянувшееся предисловие. К делу. В первой части нашей книги, которая называется «Ловцы и звери», мы познакомим читателя с основными особенностями российской правовой системы последней трети XIX века, а также попытаемся в общих чертах обрисовать общественное устройство столичного града. Вторая часть, «Петербургские бесы», содержит криминальные истории, сгруппированные по видам правонарушений: кражи – с кражами, убийства – с убийствами. Третью часть, «Криминальные прогулки», составляют своего рода экскурсии по пристанищам криминала и местам преступлений. В заключение – постскриптум – история одной криминальной драмы, затронувшей царскую семью и заставляющей вспомнить сюжет «Железной маски».
Итак, переоденемся Гаруном ар-Рашидом, запустим уэллсовскую машину времени – и вперед, в закоулки блистательного и преступного города трех революций, семи дворцовых переворотов и несчетного числа просто криминальных историй. Пожелаем сами себе успеха.
Часть I
Ловцы и звери
«На Литейной такое есть здание…»
17 апреля 1866 года на углу Литейного проспекта и Захарьевской улицы было необыкновенно шумно и людно. На тротуарах и мостовых клубилась разношерстная толпа. То со стороны Таврического сада, то со стороны набережной Невы подъезжали богатые экипажи; господа в шитых золотом мундирах выходили из них, сопровождаемые ливрейными лакеями. Золото мундирных кантов и эполет сгущалось возле закрытых еще дверей только что отстроенного высокого здания с колоннами. Опытный глаз мог определить: преобладали в толпе мундиры чиновников Министерства юстиции. Кого-то ждали – видно, самого министра. Точно в назначенный час министр юстиции действительный тайный советник Д. Н. Замятнин прибыл на место действия в карете с гербом. Золоченая толпа расступилась, двери здания отворились, министр вошел внутрь, а за ним важно и неторопливо в сумрачные, пахнущие краской сени потянулись тайные, действительные статские и прочие советники, прокуроры, чины полиции.
Так или примерно так выглядело начало торжественной церемонии открытия Здания судебных установлений, перестроенного из старого екатерининского Арсенала ради размещения новых, порожденных судебной реформой 1864 года учреждений.
Судебная реформа – это известно каждому старательному школьнику – была самой стройной, самой последовательно либеральной из всех реформ эпохи Александра II. Основные ее черты были определены Учреждением судебных установлений и судебными уставами, которые царь-реформатор подписал в 1864 году. Однако вводились в действие новые суды не сразу и не везде. В авангарде процесса шли столичные города – Питер и Москва, затем – центральные губернии. В Петербурге все было готово к началу действия пореформенных судов весной 1866 года. Апофеозом подготовительных работ стало открытие нового Здания судебных присутственных мест. Именно в этом, еще не просохшем после отделочных работ здании в мае того же года открыл счет своим заседаниям Петербургский окружной суд. Российская правовая система получила мощный импульс развития, а столичная публика – новомодное увлечение, заменявшее криминальное чтиво: посещение открытых судебных процессов. Именно судебные заседания, а особенно заседания по важным уголовным делам с участием присяжных, стали, бесспорно, главным развлечением и главной общественной «страшилкой» того времени.
Впрочем, кому-то новшества нравились, а кому-то нет. Чуткий барометр эпохи Н. А. Некрасов отозвался о пореформенном суде нелицеприятно:
На Литейной такое есть здание,
Где виновного ждет наказание.
А невинен – отпустят домой,
Окативши ушатом помой.
Я там был. Не последнее бедствие,
Доложу вам, судебное следствие…
Что же представляла собой новая судебная система?
В ее основу были положены правовые принципы, перенесенные на российскую почву с буржуазного Запада: равенство лиц перед судом и законом; отделение судебной власти от законодательной и исполнительной; несменяемость судей; открытость и гласность судопроизводства; состязательность судебного процесса. Виды судов Учреждение судебных установлений определяло так: «Власть судебная принадлежит: 1) Мировым судьям; 2) Съездам мировых судей; 3) Окружным судам; 4) Судебным палатам и 5) Правительствующему Сенату».
В компетенции мирового суда находились мелкие дела: гражданские по искам на сумму до 300 рублей и уголовные, по которым налагаемое наказание составляло не более года тюремного заключения. 26 апреля 1866 года газета «Санкт-Петербургские ведомости» опубликовала роспись 28 мировых участков Петербурга, в каждом участке должен был находиться один участковый мировой судья и непостоянное количество почетных. Участковый мировой судья разбирал единолично все дела в пределах подведомственности; почетные судьи – только те дела, по которым стороны сами обратились к их посредничеству. Апелляции на решения мировых судей подавались съезду мировых судей, представлявшему собой высшую инстанцию мирового суда. Участковые и почетные мировые судьи избирались общим собранием Городской думы. Первые выборы мировых судей в Петербурге состоялись в мае 1866 года.
Предполагалось, что мировой судья – уважаемый и состоятельный человек, независимый материально и безупречный в нравственном смысле. Мировые судьи должны были соответствовать следующим требованиям: возраст – не моложе 25 лет, образование – не ниже среднего или не менее чем трехлетний опыт службы в должностях, связанных с судебно-правовой сферой, и главное – владение недвижимым имуществом на сумму не менее 6 тысяч рублей (довольно крупная сумма по тем временам). Кроме того, в мировые судьи не могли быть избраны лица, состоящие под следствием или судом; подвергшиеся неотмененным приговорам судов; исключенные из службы по суду или из духовного ведомства за порок; исключенные из дворянских собраний; объявленные несостоятельными должниками; находящиеся под опекой; а также священнослужители и военнослужащие. За строками закона угадывается образ типичного мирового судьи: человека немолодого, солидного, живущего постоянно в своем округе, пользующегося хорошей репутацией у соседей и независимого.
Мировые судьи избирались сроком на три года. Избранными считались те, кто получил при голосовании в Думе больше голосов «за», чем «против». Набравшие наибольшее число голосов становились участковыми, а все остальные избранные – почетными мировыми судьями.
Объем работы мирового судьи был велик; проходившие перед ним лица – разнообразны. Газетные отчеты и хроники первых лет судебной реформы дают обильный и весьма живой материал из практики мирового суда. Прислуга (вчерашняя крепостная), подающая жалобу на барыню за грубое обращение: «Пусть заплатит мне хоть рубль за то, что дурой называла»; барыня с иском к прислуге за нерадивость; подравшиеся извозчики; пойманный за руку карманник; мальчишка, нашедший кошелек с деньгами и ложно обвиненный в краже; сожитель, избивший сожительницу; ростовщик или «старуха-процентщица» и их нищие жертвы; наследники, затевающие споры из-за грошового наследства, и много, много прочего.
Гражданские дела по искам свыше 300 рублей и уголовные, мера наказания по которым превышала год тюрьмы (то есть самые интересные с обывательской точки зрения), разбирались в окружных судах. Окружные судьи – председатель и члены окружного суда – назначались лично государем по представлению министра юстиции и не могли быть уволены или переведены с одной должности на другую без их согласия, кроме как по приговору суда. Эти назначенные императором – так называемые коронные – судьи были профессиональными правоведами и за свою судейскую службу получали государственное жалованье. Единоличному рассмотрению окружным судьей подлежало большинство гражданских дел. Все крупные уголовные дела (убийства и покушения на убийство, изнасилования, причинения тяжких телесных повреждений, грабежи, разбой, крупные имущественные преступления) разбирались при участии коллегии присяжных заседателей.
Суд присяжных представлял собой, пожалуй, самую яркую и самую спорную сторону судебной системы, возникшей в результате реформы. Участие в работе коллегии присяжных было введено как обязанность, как своего рода государственная повинность, от которой нельзя было уклоняться. Присяжные избирались из мужчин всех сословий, состоящих в русском подданстве, в возрасте от 25 до 70 лет и проживающих в Петербурге не менее трех лет. Не могли быть присяжными лица, состоящие под следствием, судом, отбывающие наказание, исключенные из службы по суду, несостоятельные должники, находящиеся под опекой, слепые, глухие, немые, лишенные рассудка (любопытно, что таких оговорок нет в соответствующих статьях о мировых судьях!) и, наконец, не знающие русского языка. Любопытно и то, что в списки присяжных не вносились священнослужители, военные, а также учителя народных школ. Естественно, служащие правоохранительных органов от этой службы также были освобождены. Имущественный ценз для присяжных в Питере был установлен такой: недвижимость на сумму от 2 тысяч рублей или доход от капитала – не менее 500 рублей в год). Все цензовые граждане вносились в списки присяжных заседателей, которые публиковались в газетах. После этого комиссия Городской думы составляла очередные списки присяжных на текущий год. В Петербурге ежегодно в очередные списки вносилось 1200 имен и в запасной список – еще 200. Присяжные призывались к исполнению обязанности на судебную сессию в порядке очередности, в количестве 30 человек. На каждый судебный процесс назначалось по жребию 12 основных и 2 запасных присяжных заседателя.
Главная задача присяжных – присутствовать на судебных заседаниях и выносить вердикт. По окончании судебных слушаний председатель суда обращался к присяжным с напутственной речью и формулировал вопросы, на которые их коллегия должна дать ответы, устанавливающие или отвергающие факт совершения преступления и определяющие степень виновности подсудимого. Присяжные удалялись в совещательную комнату, куда никто не имел права заходить и откуда сами присяжные не могли выйти до принятия ими решения. Решение принималось большинством голосов; несогласные могли представить в письменном виде свое особое мнение. После этого присяжные возвращались в зал суда, и старейшина оглашал вердикт. На предложенные судом вопросы присяжные должны дать ответы по определенной форме: «невиновен», «виновен», «виновен, но вынужден крайностью», «виновен, но заслуживает снисхождения»; «действовал с заранее обдуманным намерением» или без такового; «действовал в состоянии умоисступления» и пр. В случае объявления вердикта «невиновен» по всем пунктам обвинения подсудимый тут же, в зале суда, освобождался из-под стражи. В других случаях председатель и члены суда определяли виновному меру наказания в соответствии с Уложением о наказаниях. Закон предусматривал для осужденных судом присяжных такие виды наказаний, как заключение в крепости, в арестантских ротах, в исправительных и работных домах, ссылка на поселение в места «не столь отдаленные», «отдаленные», «весьма отдаленные» (соответственно: Европейский Север и Северо-Восток, Сибирь, Забайкалье и Крайний Север) и, наконец, ссылка в каторжные работы. Смертной казни как наказания за уголовные преступления закон не предусматривал; смертные приговоры мог выносить лишь суд Особого присутствия Сената или военный суд в исключительных случаях. Русские присяжные не отправили на эшафот ни одного человека.
Суд присяжных, безусловно, был судом общественного мнения, или, как говорили его враги и критики, «судом улицы». В его составе мы видим дворян, купцов, лавочников, ремесленников, чиновников, крестьян, интеллигентов, мещан… Пестрый срез русского общества той поры. В этом заключались его сильные и слабые стороны. Присяжные представляли действительно все сословия и классы общества, но преимущественно его наиболее устойчивую середину. На дело они смотрели не глазами образованных юристов, а с точки зрения простого здравого смысла и господствующих в обществе представлений о законности и морали. Практика показала, что суд присяжных склонен проявлять крайнюю осторожность в отношении признания виновности и готов скорее отпустить виновного, нежели осудить невиновного. Несомненно, такое настроение присяжных отражало высокую степень морального здоровья тогдашнего русского общества. Однако частенько присяжные становились жертвами своей некомпетентности и впечатлительности, подпадая под обаяние обвиняемого, а еще чаще – талантливого и красноречивого адвоката (реже – прокурора). Порой на исход дела влияли и политические настроения в обществе: присяжные готовы были принимать решение, направленное против представителей государственной власти или привилегированных классов общества.
Такие настроения сыграли свою роль, например, в деле знатной и богатой игуменьи Митрофании (в миру баронессы Розен). Игуменья, состоявшая в дружеских отношениях с императорской фамилией, обвинялась в подлоге денежных документов. Поступок ее с нравственной точки зрения был весьма неоднозначен, что не помешало суду вынести суровый приговор «без снисхождения» (подробнее об этом – в части II, гл. «Обман, кругом обман»). Другой пример – дело Веры Засулич. К революционерам и «нигилистам» петербургские присяжные вообще склонны были относиться более чем снисходительно. (Поэтому очень важно было, как квалифицировано дело: если убийство, покушение или иное противоправное деяние признано уголовным, то суд присяжных неизбежен; если же определено как преступление, направленное против государственного порядка, то преступнику грозит военный суд или суд Особого присутствия Сената. Тут уж общественное мнение не сможет спасти обвиняемого от каторги или виселицы.)
Но и те вердикты, которые выносили присяжные по делам сугубо уголовным, нередко грешили зависимостью от взглядов и мнений «властителей дум» петербургского общества. Много шуму вызвал, например, случай с Корниловой, молодой женщиной, выбросившей из окна свою шестилетнюю падчерицу. Факт преступления не вызывал сомнений, при первом рассмотрении дела присяжные вынесли обвинительный вердикт. Однако под давлением общественного мнения и при активном, страстном участии Ф. М. Достоевского, писавшего о Корниловой в «Дневнике писателя» и деятельно хлопотавшего за нее, дело было пересмотрено. Сенат направил его на повторное рассмотрение. На сей раз присяжные подсудимую освободили от наказания. Конечно, основания для такого решения были: Корнилова в момент совершения преступления была беременна, лет ей было всего 17, да и пострадавшая девочка не погибла, отделавшись одними ушибами. Подсудимая явно раскаивалась в содеянном; муж ее и падчерица столь же явно ее простили. Крестьянское происхождение и бедность Корниловой тоже сыграли свою роль. Но все эти обстоятельства едва ли привели бы к такому итогу, если бы не широкая волна общественного сочувствия к «несчастной, доведенной до отчаяния женщине» и не авторитет Достоевского. Наоборот, в случае с убийцей двух человек, Ландсбергом, гвардейским офицером и аристократом, или с богачом Овсянниковым, обвинявшимся в поджоге собственной мельницы с целью получения страховой премии, общественность осуждала суд за мягкость приговора: в России не любили аристократов и богачей.
В истории петербургского суда присяжных были и другие скандальные приговоры. Оправдание молодой и интересной Ольги Палем, убившей своего любовника; признание ростовщика Мироновича виновным в покушении на изнасилование и убийстве тринадцатилетней Сарры Беккер при отсутствии серьезных доказательств; оставление без наказания банкира Кронеберга, систематически истязавшего свою восьмилетнюю дочь, – эти и другие случаи давали обильную пищу для возмущения. Суд присяжных имел и своих непримиримых критиков (М. Н. Катков, Ф. М. Достоевский), и своих апологетов (А. Ф. Кони, С. А. Андреевский). Безусловно одно: он предоставил среднему обывателю возможность реально влиять на решения и действие судебной власти.
Окружной суд представлял собой суд первой инстанции. По апелляциям на решения суда, принятые без участия присяжных, судом высшей инстанции являлась окружная судебная палата. Она рассматривала также особо важные государственные и должностные преступления. Заседала палата тоже в здании на Литейном. Да уж, кого только не видели его стены, чье только красноречие не гремело с трибун окружного суда и судебной палаты! Прокуроры В. И. Жуковский, А. М. Бобрищев-Пушкин, знаменитый Анатолий Кони соперничали со светилами адвокатуры – С. А. Андреевским, А. И. Урусовым, В. Д. Спасовичем, Н. П. Карабчевским, с заезжей московской знаменитостью Ф. Н. Плевако. Их речи со сладким трепетом слушала публика: слабонервные светские дамы, пламенные студенты, финансисты в черных фраках, плешивые чиновники средней руки, генералы в блестящих мундирах… Бывало, что и тайные советники, директора департаментов и даже министры, и даже… Можно ли верить? Великие князья! Да, бывало, что и они освящали своим присутствием эти стены. Министр иностранных дел князь А. М. Горчаков, лицейский товарищ Пушкина, присутствовал на слушании дела об убийстве Фон-Зона; генерал К. П. Кауфман, завоеватель Хивы, выступал свидетелем по делу убийцы Ландсберга. Что уж говорить о Достоевском, Салтыкове-Щедрине или Некрасове! Все побывали тут.
И простая, и знатная публика буквально валом валила на судебные заседания. Кто не мог попасть в зал суда – довольствовался информацией из газет. Отчеты о судебных делах, причем не только о крупных, но и о мелких, разбираемых мировыми судьями, печатались решительно во всех газетах – от «передового» «Голоса» А. А. Краевского до «реакционного» «Нового времени» А. С. Суворина. Рубрики типа «В камере мирового судьи», «Судебная хроника», «Диалоги у мирового судьи», «В окружном суде» непременно имелись во всех уважающих себя печатных изданиях.
Массовый интерес к происходящему в здании на Литейном имел еще и такое объяснение. В условиях чиновной официальности и при действии стеснительных законов о печати суд воспринимался обществом как зона, свободная от цензуры и вообще неподконтрольная постылой государственной машине. Новые судебные органы были вне контроля со стороны администрации и исполнительной власти (губернаторов, министерств, ведомств). Общее управление деятельностью судебных органов осуществляло Министерство юстиции, однако судьи не назначались министерством и в своей деятельности не зависели от него. Министерство юстиции скорее выполняло функцию обеспечения деятельности судебно-правовой системы, нежели руководило ею. Репутацию оно имело достаточно либеральную. Сначала его возглавлял явный либерал Д. Н. Замятнин; в 1867 году его сменил более консервативный граф К. И. Пален, но и он царствовал, а не правил в судебной сфере. В обществе к нему относились не без иронии, поэт А. К. Толстой шутил:
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе