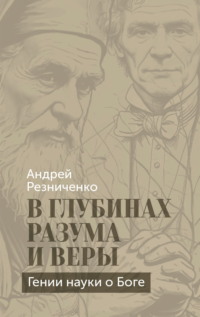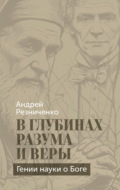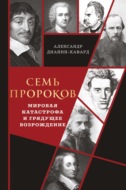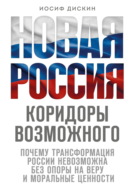Читать книгу: «В глубинах разума и веры. Гении науки о Боге»
There can never be any real opposition between religion and science; for the one is the complement of the other.
Между религией и наукой никогда не может быть реального противостояния, ведь одна дополняет другую.
Лауреат Нобелевской премии по физике Макс Планк
Серия «Вера и жизнь. Религия, политика, общество»

© Андрей Резниченко, текст, иллюстрации, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Предисловие академика РАН А. М. Сергеева
Перед Вами Книга, насыщенная интересными фактами из истории науки, жизнеописаниями выдающихся ученых с древности до Нового времени и размышлениями о соотношении веры и знания как в персональном, так и в общефилософском контексте. Нет сомнения, что вера в трансцендентное, принципиально непознаваемое, была неотъемлемой частью мировоззрения человечества независимо от национальной и религиозной принадлежности начиная с первобытных культов до эпохи Просвещения, пока отдельные ростки атеизма не стали складываться в последовательную идеологию. Книга описывает ученых и события до этой эпохи, все ее персонажи – безальтернативно и глубоко верующие люди, но вклад их в научное знание безусловно велик. Как уживалась вера в принципиально непознаваемое с научным поиском и открытиями – это главный вопрос, над которым размышляет Автор на страницах Книги.
Казалось бы, есть очевидно противоположное между этими мировоззренческими категориями. Научное познание основано на критическом мышлении, постоянном взвешивании «за» и «против», на сомнении как принципе мышления и на преодолении сомнения для получения более совершенного знания. Религиозная вера не признает сомнений, она основана на догматах, которые гласят, что совершенное знание принадлежит высшему существу и оно непостижимо. Научный поиск основан на инакомыслии, религия инакомыслия не приемлет. Как же это совместимо в одной, даже гениальной голове? Как великий Декарт, провозгласивший на все будущие времена кредо научного мышления «Я сомневаюсь, значит, я мыслю», был активным поборником Всевышнего совершенного существа? Это и есть основная коллизия Книги, которая захватит внимание читателя на примерах судеб и мировоззрений творцов науки Нового времени.
У этой коллизии есть конфессиональная и предметная специфика. История Реформации и становления лютеранства на основе критического переосмысления учения католического христианства сформировала в мире конфессии глубоко верующих людей с критическим мышлением и более самостоятельных в общении со своим Богом. Возможно, такой «конфессиональный естественный отбор» и является объяснением того выдающегося вклада в научную революцию Нового времени, который внесли протестанты. Прекрасные примеры этого читатель найдет на страницах Книги.
Предметная специфика отражается в глубине пересечения и конфликта интересов религиозного и научного мировоззрения в конкретных областях. Божественное устройство небесной сферы и астрономия стали, пожалуй, наиболее яркой областью столкновения интересов. Она дала миру плеяду блестящих ученых – Коперник, Браге, Кеплер, Галилей, Ньютон, – отвоевавших у религии в пользу науки огромный кусок сакрального, но оставшихся глубоко верующими людьми.
Вместе с тем, если оценивать ситуацию с позиций атеистической научной методологии, становится очевидным, что полная свобода научного поиска расцветает именно тогда, когда ученый не связан доктринальными ограничениями. Атеизм позволяет быть последовательнее в поиске закономерностей и объяснений, не прибегая к сверхъестественным гипотезам там, где достаточно рациональных научных инструментов. Я вижу, что именно открытое, критическое и атеистическое мышление приводит к новым теоретическим прорывам и технологическим открытиям, поскольку акцентирует роль наблюдения, эксперимента и логического анализа. Эта Книга – не только путешествие по истории научного познания, она вызывает размышления о мыслительном процессе современного ученого, о соотношении категорий познаваемого, непознаваемого и пока не познанного. Казалось бы, в эпоху атеистического мировоззрения, господствующего сегодня в ученой среде и прежде всего естественно-научной, это не выглядит актуальным. Отсутствие в атеистическом мировоззрении принципиально непознаваемого снимает проблему уживаемости научного и религиозного мировоззрения в большинстве ученых голов. Однако знание и понимание того, во что верили великие предшественники, дает нам историческую глубину и интеллектуальную честность: мы можем уважать их вклад, не разделяя при этом их убеждений.
С другой стороны, признавая принципиальную познаваемость Природы, каждый из нас, современных естествоиспытателей, признает также и ограниченные возможности человечества в расшифровке тайн Природы на текущем и каждом будущем конечном интервалах времени. В этой связи непознаваемое надо заменить на «пока не познанное», объем которого бесконечен. Значит, и будет бесконечен путь движения к пониманию гармонии мира, которая никогда не будет окончательно расшифрованной и навсегда останется тайной совершенства для нашего пытливого разума, который и сам есть часть этой тайны и этой гармонии.
Признавая важность исторического контекста верований гениев прошлого, мы продолжаем их традиции, применяя современные атеистические, научно-критические подходы для того, чтобы двигаться ко все более глубокому пониманию мира. И пусть этот путь будет бесконечным, он, несомненно, остается одним из самых возвышенных и вдохновляющих устремлений человечества.
Академик РАН А. М. Сергеев
Предисловие автора
Дорогой читатель!
Меня всегда восхищала способность человека быть своеобразным мостом между, казалось бы, противоположными мирами: строгой логикой научного исследования и религиозным откровением. Мы можем познавать фундаментальные законы Вселенной и одновременно задаваться духовными вопросами, лежащими далеко за гранью экспериментов и формул.
И везде находить истину.
Часто я слышу вопрос: «Можно ли научно доказать существование Бога?» Я убежден, что строгих «доказательств» тут быть не может – так же, как и научного опровержения.
Но, с другой стороны, для меня не существует вечного непримиримого конфликта между тем, что говорит наука, и тем, о чем свидетельствует религия. Считаю, что надо везде избавляться от ошибочных представлений, образно говоря, «расчищать мост» для встречи одного с другим над бушующей рекой невежества.
Я долго искал подобную книгу у других писателей. Не нашел. И решил написать сам. Надеюсь, что каждая ее страница напомнит тебе, уважаемый читатель, об удивительной способности человеческой природы (интеллекта и души) познавать мир во всей его полноте.
Книга «В глубинах разума и веры. Гении науки о Боге» не могла появиться без людей, которые всецело поддерживали идею и были первыми критиками. Особая благодарность Константину Богословскому, Елене Санаровой, Артему Оганову, академику Александру Сергееву, моей семье и в особенности жене Тане, чье участие и любовь вдохновляли меня и помогли не свернуть с пути в работе над текстом.
P. S.: «Как не бывает зерна без соломы, так не бывает книг без ошибок». Я предпринял все усилия, чтобы избежать неточностей, опечаток и не использовать непроверенные источники и данные. Любые конструктивные предложения готов принять с благодарностью.
Автор,
2 февраля 2025 года
Введение
На протяжении всей истории цивилизации стремление понять устройство мира и постичь его законы шло рука об руку с вопросами о существовании (или несуществовании) Бога, реальности высших сил и значимости духовных истин. Вера в трансцендентное, религиозная традиция и тяга к научному познанию – эти, казалось бы, совершенно разные пути нередко сплетались в единый поток интеллектуального и мистического поиска. Задолго до того, как люди начали формально говорить о научном методе или систематическом эксперименте, они уже задавались вопросами о сути творения, о том, было ли оно, о месте человека в нем и о возможном управляющем разуме, стоящим за наблюдаемой гармонией или хаосом природы. Парадоксальный факт – многих великих ученых прошлого, заложивших своими открытиями основы современной науки, можно с полным правом назвать глубоко религиозными людьми. В попытках раскрыть материальные законы мира они видели не противоречие вере, а, напротив, ее подтверждение и даже способ выразить уважение божественному порядку.
Исаак Ньютон (1642–1727), один из величайших умов всех времен, сложивший фундамент классической механики и физики, был глубоко религиозным человеком, посвятившим немало времени богословским исследованиям и поиску божественных закономерностей в Священном Писании. Он создавал трактаты на теологические темы, стремился согласовать свое представление о физике с богопознанием и считал, что законы механики и гравитации, которые удалось описать, – не что иное, как отражение гармонии, установленной Творцом.
Другой пример – Иоганн Кеплер (1571–1630), великий астроном, открывший законы движения планет. Кеплер видел в математических отношениях орбит не просто геометрические фигуры, а отражение божественного замысла. Лютеранин по вероисповеданию, он пережил трагедию религиозных войн своего времени, но оставался убежден, что математическая гармония небесных тел – это своего рода «геометрия Бога», позволяющая человеку видеть идеи Творца в книге природы. Кеплер не сомневался в том, что гелиоцентрическая система мира не умаляет Создателя, а, напротив, открывает глубину Его мудрости.
Еще один пример – Джозеф Листер (1827–1912), хирург-квакер, чьи религиозные ценности повлияли на его стремление уменьшить страдания пациентов. Руководствуясь верой в ценность человеческой жизни и ее сакральность, он разработал антисептический метод, навсегда изменивший медицину и спасший бесчисленное количество жизней.
И таких имен можно назвать много: Блез Паскаль (1623–1662), математик, физик и философ, создавал глубоко религиозные тексты («Мысли»), стремясь показать разумность веры, настаивал, что сердце тоже знает истины, о которых разум молчит.
Майкл Фарадей (1791–1867), великий физик-экспериментатор, открывший электромагнитную индукцию, был глубоко религиозен, принадлежал к Сандеманианской церкви и придерживался убеждения, что в научном творчестве он всего лишь раскрывает установленные Богом законы.
Обратимся к современности. Фрэнсис Коллинз (1950), биолог и руководитель проекта «Геном человека», открыто исповедующий христианство, публично заявляет и пишет о том, что его научные изыскания, проникновение в тайны ДНК и понимание генетического кода лишь укрепляют веру в Творца. По его мнению, гены – это «язык Бога», а открытие закономерностей наследственности является познанием божественного замысла. Один из самых влиятельных ученых в области генетики, он не видит противоречия между теорией эволюции и христианской верой и призывает к конструктивному диалогу, подчеркивая, что научные факты можно осмыслить в свете духовных ценностей.
Джон Полкингхорн (1930–2021), физик-теоретик, принявший священный сан в Англиканской церкви, олицетворяет целую эру, когда представители теоретической физики прямо говорили о необходимости интегрировать научное понимание космоса и богословскую мысль. Полкингхорн, долгое время занимавший престижные посты в Кембриджском университете, утверждал, что Вселенная не только поддается рациональному объяснению, но и сама рациональность мира намекает на глубинный космический Логос, согласующийся с христианским богословием.
Таким образом, рассматриваемая картина не сводится к упрощенной модели «наука против религии». На самом деле многие выдающиеся ученые находили вдохновение в своей вере, видели в ней стимул исследовать мир более глубоко, чувствовали моральную ответственность за применение полученных результатов. Вера, в их понимании, не ограничивала стремление к познанию, а направляла его, предостерегая от гордыни, напоминая о гуманистических ценностях и необходимости использовать уникальное знание во благо.
Эта книга о феномене сосуществования веры в Бога и научного познания на примерах жизни и деятельности выдающихся людей науки, чьи религиозные убеждения не подлежат сомнению. Высветив исторический контекст, в котором они жили и работали, мы попытаемся рассмотреть, как духовный опыт повлиял на формулирование научных гипотез, интерпретацию данных, принятие моральных решений. Мы увидим, что религия становилась не препятствием, а порой источником вдохновения, морального императива и путеводной звездой в научных исканиях. Конечно, далеко не все знаменитые исследователи верили в Бога, в высшую разумную творческую силу или обрели религиозную веру в традиционном смысле. Однако история взаимоотношений науки и веры разнообразна, многолика и не сводится к банальному конфликту.
Гении научной мысли не были «сверхлюдьми» – они сомневались, терпели неудачи, боролись с предубеждениями. Но их религиозные убеждения превращались в опору, моральный ориентир и стимул в поиске истины. Великие ученые – не просто имена в учебниках, но живые личности и верные свидетели того, что вера в Бога и научное познание – это не два противоборствующих лагеря, а две области, в которых человечество ищет смысл, истину и гармонию.
Глава I
Где же истоки системной науки?
В начале нашего пути мы прежде всего постараемся ответить на вопрос, актуальность которого сегодня просматривается так ясно, как никогда ранее. Звучит он примерно так: действительно ли систематическое научное знание берет свое начало в европейском Возрождении, или же истоки стройных научных изысканий уходят гораздо глубже, в более ранние культуры Востока?
Понять это важно потому, что осознание многогранности развития мировых цивилизаций позволяет не только точнее оценить вклад разных народов и эпох, но и увидеть, как взаимное влияние идей и открытий в различных культурах обогащает все человечество. Когда мы говорим о зарождении систематической науки, нередко создается впечатление, что все началось лишь с древнегреческих философов и продолжилось в эпоху расцвета европейской культуры. Однако такое представление упрощает и местами искажает картину научного прогресса. На самом деле наука как организованное знание, основанное на наблюдениях, экспериментах и логических умозаключениях, практически одновременно проявилась в разных регионах мира. Нам стоит расширить взгляд на историю познания, дабы признать тот факт, что подлинное стремление к раскрытию тайн природы не имеет географических границ.
Одной из самых древних и богатых научных традиций в мире обладает Китай. Согласно исследованию британского историка науки Джозефа Нидэма, результаты которого изложены в многотомном издании «Наука и цивилизация в Китае» (Science and Civilization in China), уже в I тысячелетии до н. э. жители Поднебесной существенно продвинулись в развитии математики, астрономии, медицины, гидравлики и инженерного дела. Научный подход в Китае формировался на базе практических потребностей (сельское хозяйство, метеорология, военное дело) и философско-религиозных учений (конфуцианство, даосизм), что стимулировало систематические наблюдения и послужило основой для формирования особых центров знания.
Чжан Хэн (78–139) был выдающимся астрономом, математиком, инженером и изобретателем периода Восточной Хань. Он фактически создал сейсмограф – прибор для обнаружения землетрясений, построив один из первых в мире прототипов улавливателя сейсмических волн. Его считают конструктором небесного глобуса (армиллярной сферы) для наблюдения за движением небесных тел.
Шэнь Ко (1031–1095), или Шень Гуа, – китайский ученый эпохи Сун, прославившийся трудами в астрономии, математике, географии, медицине и других областях, в своей работе «Беседы у ручья снов» («Мэнси битань») описал теорию магнитного компаса, составил корпус наблюдений в астрономии, метеорологии, геологии, а также впервые математически обосновал идею подвижности магнитного полюса.
Система эфемеридных вычислений Шэнь Ко оставалась наиболее передовой вплоть до того, как Тихо Браге (ему будет посвящена отдельная глава книги) разработал астрономические вычислительные методики Нового времени. Проводя сравнительные измерения между водяными часами (клепсидрой) и солнечными часами, Шэнь Ко сделал революционное открытие о непостоянстве длительности суток в разные сезоны года. По его наблюдениям, в период зимнего солнцестояния, когда Солнце перемещается по небосводу с большей скоростью, сутки оказываются более продолжительными. Напротив, ближе к летнему солнцестоянию, когда видимое движение нашего светила замедляется, длительность суток сокращается. В попытках объяснить обнаруженную неравномерность годового движения Солнца Шэнь Ко пришел к поразительному выводу, на пятьсот лет предвосхитив открытие Кеплера. Китайский ученый предположил, что траектория движения Солнца (эклиптика) не является идеальной окружностью, а представляет собой овальную форму, которую мы сегодня называем эллипсом.
Инженер Су Сун (1020–1101) создал одни из первых в мире механических часов – башню на водяном приводе со сложной цепной передачей. Часовая башня Су Суна в Кайфыне являлась одновременно астрономической обсерваторией и точным часовым механизмом. Китайцы были пионерами в изобретении бумаги, компаса, пороха и книгопечатания – так называемых Великих изобретений Китая, революционно повлиявших на дальнейшее развитие науки и технологий по всему миру.
Перенесемся из Азии на восток. В период между VIII и XIII веками исламский мир пережил расцвет науки и культуры, известный как Золотой век ислама. Одной из ключевых движущих сил научного прогресса стало активное переводческое движение, в ходе которого античные тексты (греческие, персидские, сирийские) перекладывались на арабский язык. Крупнейшим центром знаний той эпохи был Дом мудрости (Байт аль-Хикма) в Багдаде.
Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми (ок. 780–850) внес фундаментальный вклад в математику, астрономию и географию. Его труды по алгебре («Китаб аль-джабр ва-ль-мукабала») дали название самой дисциплине, а исследования помогли распространить индийскую десятичную систему счисления. Ибн аль-Хайсам (965–1039) считается отцом оптики за свои открытия в области физики и оптики. Его фундаментальный труд «Книга оптики» («Китаб аль-Маназир») описывает зрение как результат попадания света в глаз и содержит ранние принципы научного метода.
Авиценна (Ибн Сина) (980–1037) создал «Канон врачебной науки» («Аль-канун фит-тиб»), на протяжении долгих веков остававшийся важнейшим руководством по медицине в исламском мире и Европе.
Ибн Рушд (Аверроэс) (1126–1198) оказал неизгладимое влияние на философию и медицину, особенно благодаря комментариям к работам Аристотеля. Научные исследования в исламском мире охватывали математику, астрономию, медицину, оптику, химию, географию и заложили основы для европейской науки эпохи Средневековья и Возрождения.
Индийская цивилизация также может похвалиться богатой историей научной мысли. Страна – родина ключевых открытий в математике, астрономии и медицине. Многие трактаты писались на санскрите и в дальнейшем попадали в арабский мир, а затем – в Европу, способствуя формированию глобальной научной традиции.
Среди выдающихся ученых Индии – Арьябхата (476–550), автор «Арьябхатии», описывающей тригонометрические функции, движение планет и затмения. Брахмагупта (598–668) в своей «Брахма-спхута-сиддханте» систематизировал правила обращения с отрицательными числами и нулем. Бхаскара II (1114–1185), возглавлявший астрономическую обсерваторию в Удджайне, в книге «Сиддханта-широмани» предложил важные идеи, связанные с алгеброй и астрономией, предвосхищая концепции бесконечно малого. Сушрута (примерно V век до н. э.), автор «Сушрута-самхиты», заложил фундамент профессиональной хирургии, описав сотни операций и хирургических инструментов. Индийские ученые сформировали основы тригонометрии и медицинской диагностики, их идеи о нуле и десятичной системе повлияли на развитие математики в планетарном масштабе.
Взаимный обмен полученными научными результатами, свежими теориями, гипотезами и исследовательскими задачами между людьми знания разных народов и стран проходил по торговым и культурным дорогам, подобным Шелковому пути, соединявшему Китай, Центральную Азию, Ближний Восток и Европу, а также по Индийскому океану.
Мастерство переводчиков позволило творениям индийских, персидских и византийских мыслителей проникнуть сначала в сокровенный мир ислама, а затем – в Европу. Благодаря межкультурному обмену достижения восточных ученых, в том числе революционная алгебра Аль-Хорезми и изысканные индийские математические системы, поселились в лекционных залах европейских университетов, заложив прочный фундамент знаний для будущего научного расцвета эпохи Возрождения. Несомненно, европейская наука не возникла в изоляции, а была плодом многовекового диалога с древними школами знания.
В Древней Месопотамии разработали шестидесятеричную систему счисления, важную для астрономических вычислений. В Древнем Египте жрецы собирали знания об анатомии и методах лечения травм. Цивилизация майя прославилась точными календарными системами и развитой математикой. Каждая из этих культур привнесла уникальные элементы, без которых формирование современной науки было бы невозможно.
Миф о том, что наука зародилась исключительно в западной цивилизации, отчасти сформировался в эпоху колониализма и евроцентристской историографии XIX–XX веков. Труды китайских, индийских, персидских, арабских ученых игнорировались или считались недостаточно соответствующими канонической модели развития науки.
Сегодня международные организации, такие как ЮНЕСКО и Международный совет по науке (ISC), неустанно работают над признанием значимости неевропейских культур в истории науки. Переводы древних рукописей, проведение международных конференций и включение специализированных курсов в университетские программы способствуют тому, чтобы заслуги ученых, чьи имена долгое время оставались в тени, наконец получили заслуженное признание.
Наука не имеет единственного «места рождения». Ее истоки уходят корнями в разные уголки планеты, где математика, астрономия, медицина, инженерное дело, оптика, химия и философия появились задолго до того, как западноевропейская мысль начала обретать форму и рамки привычного нам научного метода. Современная наука – это коллективный труд человечества, результат обмена знаниями, идеями и технологиями между многочисленными народами на протяжении тысячелетий. От биологических наблюдений в Древнем Китае, описанных в трудах Шэнь Ко, до арабской алгебры Аль-Хорезми, от индийского открытия нуля до египетских методов хирургии – все это части единой картины развития научной мысли.
В наши дни все яснее видна необходимость восстановления исторической справедливости и признания неевропейских цивилизаций равноправными творцами научного знания. Изучение трудов древних китайских, индийских и арабских мыслителей и понимание исторической перспективы взаимопроникновения культурных традиций раскрывают перед нами картину того, как человечество тысячелетиями аккумулировало, сохраняло и творчески обогащало накопленную информацию и опыт. Только межкультурный диалог способен стимулировать созидание единого мирового научного сообщества, способного достойно отвечать на глобальные вызовы современности.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе