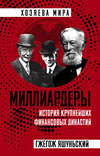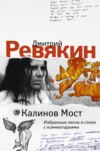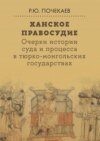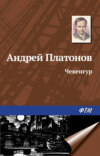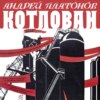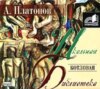Читать книгу: «“…я прожил жизнь”. Письма. 1920–1950 гг.», страница 5
Платонову не надо было ехать в командировку за материалом, он сам был носителем уникальных для советского писателя знаний о реальной низовой жизни провинции эпохи нэпа – и это знание во многом определит его жесткое противостояние основному направлению и пафосу советской литературы и главное обвинение, которое он до конца жизни будет ей предъявлять: незнание и нежелание знать жизнь народа. Из этих же источников жизни, а также от далеких от литературных страстей собеседников, с которыми его связала жизнь, – ироническое отношение Платонова к сменяющим друг друга литературным дискуссиям. Поэтому и звучит столь убийственно сравнение собрания писателей и инженеров в его статье “Фабрика литературы (О коренном улучшении способов литературного творчества)” (1926): “Шпенглера у нас не любят (и есть за что), но в одном он был прав: в сравнении количества ума и знания, циркулирующего на собрании промышленников и на собрании литераторов, – в сравнении не в пользу литераторов. Это верно, и не спрячешься от этого. Побеседуйте с каким-нибудь инженером, большим строителем и организатором, а затем поговорите с прославленным поэтом. От инженера на вас пахнёт здоровый тугой ум и свежий ветер конкретной жизни, а от поэта (не всегда, но часто) на вас подует воздух из двери больницы, как изо рта психопата”.
Производственные письма Платонова позволяют прикоснуться к замесу колоссального жизненного материала, который вскоре явит себя в его прозе непереводимым языком самой жизни. Этим фантастическим языком жизни заговорит платоновская Россия в “Луговых мастерах”, “Сокровенном человеке” и “Чевенгуре”.
К сожалению, о многих корреспондентах Платонова из Наркомата земледелия, с которыми его связывали не только служебные, но и дружеские отношения, мы мало что можем рассказать. Остаются неизвестными имена московских инженеров этого ведомства, тех немногих, кто осенью 1926 года протянул Платонову руку помощи и не позволил, как он сам признавался, “подохнуть с голоду”. Мы также мало знаем о последних годах жизни писателя, когда рядом с тяжелобольным Платоновым постоянно находились врачи Центрального научно-исследовательского института туберкулеза (МОНИТИ). Их имена стали известны по письмам Платонова к Марии Александровне 1949 года и черновику его письма 1950 года. Последний документ, заключающий настоящий том писем, представляет благодарственное письмо Платонова Николаю Александровичу Верховскому и всем, кто участвовал в создании противотуберкулезного препарата “ПАСК”. К сожалению, фонды МОНИТИ оказались крайне скудными, но будем надеяться, что открытие материалов о последних годах жизни Платонова нам еще предстоит.
В некотором смысле это типичная для Платонова ситуация. Подчеркнутой нелитературностью отмечены записные книжки Платонова, в которых крайне мало материала из современной ему литературной жизни (в основном это телефоны членов редколлегий журналов и издательств), а записи посвящены встреченным им в командировках собеседникам из народа: инженерам, техникам, рядовым колхозникам и председателям колхозов и совхозов, механизаторам, рядовым красноармейцам – тем, чьи имена никогда не вносятся в традиционные энциклопедии.
* * *
В архивах известных литературных современников Платонова, принятых на государственное хранение, его писем оказалось тоже не так много. Какие-то объяснения данному литературному факту, конечно, содержатся в самой эпохе – беспощадном к человеку “железном самотеке истории”. Многие из реальных адресатов писателя (Г. Литвин-Молотов, А. Новиков, А. Воронский, Б. Пильняк, С. Буданцев, Л. Авербах, В. Боков) были репрессированы, а архивы их погибли в печах НКВД или же дошли до нас лишь небольшой толикой материалов, не изъятых при арестах. Наверно, кто-то и освободился от писем весьма неблагополучного в политическом отношении писателя Платонова, а кто-то, как и близкие родственники, был уверен, что его письма не имеют большой исторической ценности, потому что в число классиков советской литературы Платонов не входил – ни при его жизни, ни в первые десятилетия после смерти. Да и письма Платонова могли выставить самих корреспондентов не в лучшем свете…
В 1960–1970-е годы были написаны первые воспоминания о Платонове его современников. В предисловии к первому изданию книги воспоминаний о Платонове Е. Шубина заметила, что Платонов оказался “трудным объектом для мемуаристов”, и зачастую воспоминания современников “оставляют ощущение тщетной попытки понимания, которую не спасают ни длинные истории знакомства, ни усиленное педалирование особой близости с мастером, ни попутно творимые легенды”73. Сегодня, когда мы значительно больше знаем о Платонове и советской литературной эпохе, фигура писателя предстает не в окружении преданных ему литературных друзей, а скорее тотально одинокой в современной ему литературной среде. Можно сказать даже больше: у Платонова не было своей литературной среды. Такого одиночества в литературе, пожалуй, никто в ХХ веке не пережил. Об этом свидетельствуют и его письма.
Примечательно, что лишь у немногих вспоминавших о Платонове в архивах оказались его дружеские письма и записки. Не оставили воспоминаний или же написали самые скупые именно те из его современников, кто состоял с Платоновым в переписке и сохранил его письма. Таковы, к примеру, воспоминания поэта Виктора Бокова, передавшего в Рукописный отдел Пушкинского Дома письма Платонова, полученные им в ГУЛАГе. Судя по большому количеству доверительных писем Бокова к Платонову, представляющих блистательные “стихотворения в прозе” о рассказах “Такыр”, “Река Потудань”, “Семья Иванова” и их авторе, писем Платонова к Бокову было значительно больше. Довоенные записки и письма, скорее всего, исчезли при аресте Бокова в 1943 году, а некоторые письма в ГУЛАГ попросту не сохранились.
Остаются неизвестными письма Платонова Виктору Некрасову. Платонов одним из первых отметил “драгоценное значение” книги Некрасова “В окопах Сталинграда”: в изображении “сталинградского побоища” автор повести “приближается к истине действительности, и слова ее проверены человеческим сердцем, пережившим войну” (рецензия 1947 года). Из сохранившегося ответного письма Некрасова Платонову от 12 декабря 1949 года можно узнать, что отношения между писателями были дружескими, что в присланном письме, “писанном рукой М. А.”, Платонов предлагал Некрасову обсудить план совместной работы74 и что это было не первое письмо Платонова. Неизвестно, сохранились ли, а если сохранились, то где находятся письма Платонова к Виктору Некрасову? В Киеве?.. В Париже?..
Лишь одно письмо Платонова к Михаилу Шолохову 1947 года дошло до нас, хотя очевидно, что были письма Платонова в Вёшенскую во второй половине 1930-х годов, однако их постигла та же судьба, что и весь архив Шолохова, сгоревший во время бомбежки Вёшенской в 1942 году.
Шолохов не оставил воспоминаний о Платонове. Не оставили воспоминаний Владимир Келлер, Всеволод Иванов, Николай Замошкин, Давид Тальников, Леонид Леонов, Виссарион Саянов, Игорь Сац, чье дружеское расположение к Платонову и участие в прижизненных изданиях его произведений сегодня подтверждаются документально, в том числе перепиской.
В конце 1960-х написал о Платонове Георгий Захарович Литвин-Молотов, первый читатель и редактор “Голубой глубины”, “Антисексуса”, “Города Градова”, “Сокровенного человека”, “Чевенгура”, человек, которому мы обязаны изданиями Платонова 1920-х годов. Георгий Захарович и его супруга Евгения Владимировна многое могли рассказать о Платонове. Однако до нас дошло лишь название воспоминаний Литвина-Молотова о Платонове – “Иноческое подвижничество”. В воронежском “Подъеме” воспоминания Литвина-Молотова тогда не только не опубликовали, но и потеряли75. В архиве Литвина-Молотова хранились авторизованные машинописи произведений Платонова и его письма. Из материалов сфабрикованного ОГПУ “дела” Литвина-Молотова (арестован в 1946 году) и его супруги (арестована в 1949 году) известно, что среди уничтоженных (сожженных) материалов, изъятых при их аресте, находились машинописи первой редакции “Города Градова”, трагедии “14 красных избушек” и рассказа “Река Потудань”. Неизвестно, что стало с записными книжками и письмами к Литвину-Молотову. Нет сомнения, что среди указанных в протоколе 46 писем находились письма Платонова76.
Много интересного, наверное, мог бы рассказать в 1960–1970-е годы о судьбе литературно-критических книг Платонова второй половины 1930-х годов (“Николай Островский”, “Размышления читателя”), и не только о них, заведующий отделом критики и литературоведения издательства “Советский писатель” известный литературовед Лев Иванович Тимофеев, но увы… не счел нужным это сделать. В фонде Платонова сохранились четыре его письма, письма же Платонова, естественно, остались у Тимофеева. Их судьба неизвестна. До нас дошел лишь черновик одного письма Платонова, сохранившийся в его личном архиве77.
Виктор Борисович Шкловский винился в конце жизни, что не написал о Платонове: “Мы все виноваты перед ним. Я считаю, что я в огромном долгу перед ним: я ничего о нем не написал. Не знаю, успею ли”78. Не успел. Хотя выразительный портрет молодого Платонова оставил (книга “Третья Фабрика”, 1926). Шкловский мог рассказать многое, например, о судьбе киносценарного наследия Платонова. Остается недокументированной история совместной работы над сценарием “Песчаная учительница” (1927–1930). Сохранилось только одно ответное письмо Шкловского 1941 года, посвященное тексту киносценария “Июльская гроза”, на котором имеются пометы Платонова для себя, а также, возможно, для ответного письма.
Среди именных писательских архивов, сохранивших письма Платонова, отдельно стоит сказать о фонде литератора и секретаря групкома издательства “Советский писатель” Александра Ивановича Вьюркова, в котором отложилось наибольшее количество ценнейших материалов о Платонове. Скорее всего, именно в групкоме Платонов во второй половине 1930-х годов познакомился с Вьюрковым. Теплые отношения сохранились до конца жизни Платонова, после его смерти отношения с Вьюрковыми поддерживала Мария Александровна, ее подпись стоит под некрологом Вьюркову. Александр Иванович и его супруга Анна Васильевна были по-московски хлебосольны. На литературных посиделках в их доме часто присутствовали бывшие “перевальцы” – прозаик Родион Акульшин и поэт Павел Дружинин (именно его стихотворение “Российское” обильно цитировалось в знаменитой статье Н. Бухарина “Злые заметки”, 1927), хирург и прозаик Сергей Беляев, молодой Виктор Боков, актриса Малого театра Евдокия Турчанинова, известный литератор начала века, организатор московских литературных “Сред” Николай Телешов. Вьюрков был увлечен своей деятельностью на посту секретаря групкома, помогал как только мог всем писателям – не только признанным, но и гонимым Н. Никандрову, П. Романову. Сердечными были отношения с семьей Платонова, о чем свидетельствует характер переписки между ними. Это была дружеская переписка с обилием “домашних” тем и намеков, бытовых интонаций, внимания к повседневным мелочам личной и литературной жизни. В письме к Платоновым 1943 года из эвакуации Вьюрков признавался:
“Когда мы остаемся с Анной Вас<ильевной> одни, а это бывает каждый день, т<ак> к<ак> у нас тут буквально нет никого, то мы больше всего говорим и вспоминаем Вас, дорогая наша Мария Александровна, и Андрея. Вспоминаем наши встречи. Ваше гостеприимство. Сердечное отношение ко мне и чуткость отношения ко мне Андрея. Его любовь ко мне и помощь в моих работах. И сходимся мы с Анной Вас<ильевной> всегда на одном, что более близких нам людей у нас нет и что мы едва ли кого больше любим, как вас. Ведь мы жили, дорогие, вашими интересами, болели вашими заботами; как мы искренне и от души хотели, чем только могли, пойти вам навстречу, и беда наша была в том, что мы для этого не имели ни средств, ни возможностей. Что мы имели, кроме слов, исходивших из самого сердца, любящего вас искренне и честно, – ничего! И как я порою страдал из-за этого! Как мне хотелось быть для <вас> полезным хоть чем-нибудь. И я не теряю надежды в будущем отблагодарить вас обоих еще лучшим вниманием, еще лучшим отношением к вам. Дорогие мои, порой такое отношение и сознание, что доброе слово и внимание близких друзей куда бывает дороже. Как-то легче живется и переносится все трудное и тяжелое при мысли, что ты не один, что есть около тебя люди, с которыми тебе легче становится, а след<овательно>, и жить в наше трудное время, полное всяких неприятностей, горя и трудностей. Как это ни странно, но я подчас черпаю силу от доброй своей Анны Вас<ильевны> – человека не весьма сильного и, пожалуй, беспомощного. Раздражаешься так порой… Тяжело станет, и подумаешь: кто же около тебя еще? И первая мысль – вы! Вы оба, сильно чувствующие души людей, а нас с ней – особенно. И легче, Андрюша, становится. Жизнь-то в человеке заключается. А вы с Марией Александровной – люди подлинные, т. е. такие, каким должен быть человек”79.
Вьюрков был старше Платонова, писать начал поздно, в начале 1930-х годов; основной темой его рассказов стала старая Москва, которую он знал и любил. Он принадлежал к генерации дореволюционных писателей из народа, писателей-самоучек, влюбленных в литературу и писателя-творца. Был он литератором средним, писал рассказы трудно и мучительно. Платонов относился к Вьюркову как младший к старшему – с сердечным расположением, почтением и пониманием. Он читал его очерки и, очевидно, даже правил, насколько мог, зачастую беспомощные в литературном отношении тексты старшего товарища.
Лучшее, что Вьюрков оставил для истории литературы 1930–1940-х годов, – это его дневник и альбом с автографами современных писателей. Кто-то по просьбе Вьюркова делал запись в альбоме, приходя в групком по тем или иным делам, в других случаях Вьюрков просил автограф у писателя, когда бывал у него дома по служебно-профсоюзным вопросам. В альбоме находятся автографы С. Клычкова, П. Романова, Б. Пастернака, А. Веселого, М. Пришвина, В. Вересаева, Н. Никандрова, А. Серафимовича, П. Васильева, В. Гроссмана, Н. Асеева, Д. Бедного, А. Гайдара, М. Исаковского, В. Кудашева, С. Скитальца, чудные рисунки Е. Чарушина, смешные шаржи и портреты писателей, выполненные П. Коганом. Писали в альбом опубликованные и неопубликованные стихи, экспромты, посвящения, признания в вечной дружбе и благодарности… “Гением групкома” и “другом писателей”80 назвал Вьюркова в своем стихотворном послании С. Скиталец. Об этом же запись Б. Пастернака (в альбом также вклеены две авторизованные машинописи стихотворений поэта, скорее всего, полученные при посещении квартиры Пастернака в знаменитом писательском доме в Лаврушинском переулке):
“Ты замечательный, душевный человек Вьюрков! Первый твой недостаток, какой я заметил, это что ты завел этот альбом:
Пришел за пачкой облигаций,
А ты мне вместо них – альбом.
Изволь-ка рифмами лягаться,
Упершися в страницу лбом!
Да, а во всем остальном ты прелесть. Будь здоров и счастлив.
Б. П.
5. VI.36”81.
Есть в альбоме и запись Платонова 1941 года, звучащая, как всегда, иронически, когда речь заходила о литературной жизни и современных “гениях литературы”, как часто именовал он своих успешных современников:
“Александру Ивановичу Вьюркову —
на память о почерке прозаика Платонова.
А. Платонов
4/V.41.
Скромные, достойные, трудящиеся люди уходят молча под зеленую траву – нам же, как доказывает эта тетрадь, обязательно хочется наследить после себя на свете.
4/V.41. А. П.”82
На страницах альбома Вьюркова оставил свой автограф и критик Абрам Гурвич, автор большой статьи “Андрей Платонов” (“Красная новь”. 1937. № 10). Это, по сути дела, первое фундаментальное исследование прозы Платонова 1920–1930-х годов. Гурвич писал свою работу почти год и поначалу, кажется, не ставил задачей политическое уничтожение Платонова. В письме В. Ставскому от 27 октября 1936 года он сообщал: “Я работаю сейчас над Андреем Платоновым. Очень своеобразный, несомненно талантливый, но вместе с тем неполноценный писатель. Платонов принадлежит к числу тех немногих настоящих художников, которые пишут кровью своего сердца. Для него литература есть органическая форма его общественного существования. Гуманизм Платонова, однако, при его крайней обостренности оставляет известный неприятный осадок”83. В 1940 году Гурвич составил экспертное заключение для Лубянки на повесть арестованного Андрея Новикова “Причины происхождения туманностей”, не преминув напомнить, что “памфлет на советскую жизнь, бюрократию и государство” в рецензируемой повести выполнен в той же стилистике, что и “Город Градов” Андрея Платонова84. Это вполне профессиональное литературоведческое заключение, как, впрочем, вполне профессионально и не без тайного восхищения выполнена его статья о Платонове 1937 года. Правда, под тщательный анализ мотивов прозы Платонова Гурвич подвел практически расстрельное для времени политическое обвинение: “Платонов – антинароден…” В 1937 году это звучало столь же убийственно, как в 1931 году – “Платонов – классовый враг”. Вьюрков весьма точно описал амбивалентность текста Гурвича, о чем он не преминул сообщить Платонову летом 1939 года в письме из Дома творчества в Малеевке: “Прочитал тут статью Гурвича о тебе в его книге. Парень и так старается, и этак покрутить. Знаешь, вроде апельсина в жару. Морщится, морщится – кисл, говорит, но изумительно вкусно, приятно и освежает”85. Не без эстетического изыска исполнена запись Гурвича (датируется 22 сентября 1952 года) в альбоме Вьюркова: “Привет инфаркту от инсульта! Не будем тужить, старина: некоторые люди умирают дольше, чем живут. Я скептик, и мне все равно, что жить, что умереть, – жить даже лучше. Итак, до встреч в коммунистическом раю, где мы с вами еще лет сто будем изживать пережитки социализма в сознании. Инфаркт – ура! Инсульт – ура!”86 Платонова уже не было в живых, на подготовленные в 1951 и 1952 годах к изданию сборники его избранных произведений были получены отрицательные заключения писателей и критиков… Гурвич и Вьюрков после болезней отдыхали в Малеевке. Вспоминали ли они общего их знакомого, нам достоверно не известно, однако Гурвич листал альбом Вьюркова с записью Платонова, да и смысл приведенной записи когда-то всесильного, а в 1949 году поверженного (в ходе кампании борьбы с космополитами) литературного и театрального критика свидетельствует, что он когда-то внимательно читал Платонова и не ошибся, когда утверждал, что финал жизни даже внешне советского героя “под пером Платонова превращается в траурный реквием”87.
С 1936 года и до конца жизни Вьюрков вел дневник, представляющий интересные рассказы о литературном быте и жизни писателей второй половины 1930-х годов: колоритные зарисовки портретов писателей, сюжеты из низовой литературной жизни, сплетни и слухи и т. п. Дневник открыл неизвестные ранее детали быта семьи Платонова и имя дотоле нам неизвестного “старого Юшки”, упоминаемого в письме Платонова к Вьюркову 1939 года. Им оказался “первый пролетарский поэт” Демьян Бедный, с которым Платонов встречался в конце 1930-х годов и мимо творчества которого автор “Сокровенного человека” и “Котлована”, конечно, не прошел88. Дневниковую запись от 18 марта 1940 года приведем полностью. В этот день Вьюрков посетил не только Бедного и Платонова, но и других членов групкома, оставив замечательную зарисовку на тему, как жили советские писатели:
“Вчера зашел к Демьяну. Сидит один. Никто у него не бывает. Скучает. Похудел от болезни. На столе книги. Готовится к новой работе – «Сибирь-матушка» будет она называться. От него пошел к Платонову. 22 обещали ему вернуть сына. Странный он человек! Как будто вся наша жизнь проходит мимо ее (очевидно: него. – Н. К.), как длинная, длинная процессия, и он ждет, когда она пройдет. Ни разу он не заговорил со мной о ней. Не порадовался, не повосхищался. Стоит человек вне. И скучно, скучно ему от всей сутолоки. Стало тоскливо и мне, и я от него скорей домой. Что у него привлекательно – это Марья Александровна, собирающаяся уйти от него. Душно и ей. Сегодня утром пошел в Лаврушинский. Надо было получить подписи под заявлением в ВЦСПС, чтобы наши групкомы оставили по-прежнему.
Захожу к Пришвину. Счастливое лицо. Светится старец. Ему 67 лет. Оказывается, влюбился и разводится с первой женой. Она, сыновья стыдят его. Ничего не помогает. Люблю ее, и баста! Вот что делает Жень-Шень! – От него пошел к Луговскому. Очень приветливый человек Вл<адимир> А<лександрович>. От него к Пастернаку. Расцеловались, потолковали о том о сем, а больше о его новой работе – о “Гамлете”, которую он только что закончил. Полюбовался на картины его отца и вниз к Никулину. – Ой, боже! Ск<олько> важности у этого писаки и какой человечностью, благородством и чуткостью светится Пастернак в сравнении с этим надутым. Был у Виктора Гусева, принял меня в богатом карельской березы кабинете. Славный парень, но обстановка не по нем. Проще надо. Не такое оперение нужно. Представьте себе извозчика за роялью и получите Гусева в чьем-то чужом, из какого-то барского дома, кабинете. Евг<ений> Петров на Финляндском фронте. Не вернулся еще.
Живут товарищи писатели хорошо, винно, блинно и оладисто. Квартиры такие, что многим и во сне не снились. Ну и пусть живут. Любопытно, что никто из них мне, маленькому писателю, ответственному секретарю их групкома, кроме милого Пастернака, не предложил стакана чаю!.. И никто не сказал, дескать, А<лександр> И<ванович>, заходите как-нибудь. – Обстановка у всех, скупленная в комиссионных магазинах, сохранившаяся от прежней буржуазии, с бора и с сосенки, напомнила мне бывших разбогатевших купчиков, а т<ак> к<ак> претендовать на них всех грех, я и не претендую”89.
Писательский дом в Лаврушинском переулке с квартирами улучшенной планировки (именно его посетил Вьюрков) был построен правительством для деятелей советской культуры в 1937 году. Составленная Вьюрковым колоритная бытовая картинка из жизни советских писателей представляет еще один контекст жизни Платонова, в котором с особым драматизмом прочитывается “квартирный вопрос” его семьи (о нем мы впервые узнаем из писем писателя конца 1930–1940-х годов). Без искажений Вьюрков набросал и портрет неразговорчивого Платонова. О замкнутости Платонова писали многие вспоминавшие о нем. Об этом свидетельствуют и другие документы. Так, на допросе в НКВД (1938) поэт В. Наседкин признавался: “У Андрея Платонова я бывал тоже два-три раза. По-моему, он молчаливым был со всеми. Политических разговоров он никак не поддерживал, беседы проходили только в рамках литературных дел. А когда я жаловался на трудности жизни вообще, он отмалчивался. Во время одной беседы я как-то задал ему вопрос – откуда у него такой пессимизм и страдания, которые чувствуются почти в каждом его рассказе? Вместо ответа Андрей Платонов лишь улыбнулся”90. В донесении в НКВД 1939 года сообщается, что Платонов много работает, “почти все время проводит дома и старается всех от себя отваживать”91. С этой вполне справедливой характеристикой стукача корреспондирует запись в дневнике Вьюркова, сделанная 20 апреля 1941 года: “Был у Щепкиной. <…> В 6 ч. ушел от ней и зашел по пути в дом Герцена (Тверской бул., 25) к Платонову А. Пл. Сидит дома один. Мрачный, озабоченный. – Работаю, – ответил мне. – Не стал ему мешать, пошел домой”92.
В годы войны они почти не встречались. В августе 1941 года Вьюрковы были эвакуированы в Киров, откуда Александр Иванович слал письма Платонову с просьбой получить разрешение на въезд в Москву. После возвращения из эвакуации (февраль 1944 года) Вьюрков уже не был секретарем групкома и всецело занимался личными делами – изданием книги о Москве, на которую он собирал новые отзывы, вступлением в Союз писателей и здоровьем. Теперь он уже не вел, как до войны, дневника с подробными рассказами о встречах с писателями, только скупые календарные записи. Некоторые – о Платонове. Запись от 8 апреля 1944 года: “Сегодня 6 лет, как умер Пантелеймон Романов. Талантливейший сатирик. Из них я знаю троих: П. Романова, тоже покойного Булгакова и живущего – Платонова”93. 1 ноября 1945 года: “Сдал Платонову очерк <1 слово нрзб>”94; 7–9 ноября 1947 года – Платонов в списке поздравивших Вьюрковых с праздником95. 20 мая 1950 года в письме к Н. Замошкину Вьюрков рассказывал о посещении больного Платонова: “Нигде ведь не бываю, ничего не знаю и никого не вижу. А кого и увидишь – жутко становится. <…> Зашел к Платонову. Лежит в постели. Вид у него «со святыми упокой». <…> А если к ним прибавить себя, то… невеселая картина. Мне говорят: борись! Я Платонову говорю: борись! Ты мне: борись, Сашка. Ничего, выживем. – Живу”96. Январские записи 1951 года: 5-го – “Умер Андрей Платонов. Послал отзыв Замойского в из<дательст>во”; 7-го (воскресенье) – “На похоронах Платонова было только 40 человек. Выступал один Долматовский. Писателей было мало. Вот вам и знаменитый, талантливый писатель!”; “Книгу редсовет принял!! Это счастье. <…> Всё хорошо. Теперь я обеспечен, но… 65 лет сказываются, чувствую, что жить осталось мало. Этот год – последний для меня. Счастье и горе. Жизнь и смерть так и чередуются”97.
В последние годы жизни Вьюрков начал писать воспоминания о Демьяне Бедном, из которых исключил сюжет встреч двух пролетарских писателей. Воспоминаний о Платонове литератор Вьюрков не оставил. В отличие от реабилитированного партией в годы войны Демьяна Бедного, Платонова после его смерти ждало почти десятилетие полного забвения. Многоопытный литературный работник Вьюрков хорошо знал и понимал литературнополитическую конъюнктуру и ее механизм. На его глазах создавались и разрушались литературные репутации, и для литератора Вьюркова, весьма чуткого к вопросам социального престижа (он упорно бился за вступление в Союз писателей), вопрос, о ком писать воспоминания, был просто предопределен, и он приступил к написанию, по дневниковым записям, истории создания “эпопей” Бедного и реконструкции его литературной биографии второй половины 1930-х годов. Таково было веление времени… Будем благодарны Александру Ивановичу за собранные и сохраненные им бесценные платоновские материалы.
Наше издание представляет первую, наиболее полную публикацию писем Платонова, выявленных в настоящее время. Безусловны новые находки писем Платонова: в закрытых и неосвоенных архивохранилищах, в личных и государственных собраниях и фондах, еще не оказавшихся в поле исследовательских разысканий.
Большую работу по разысканию и публикации писем Платонова провели Е. Антонова, Е. Литвин, В. Перхин, С. Субботин, Е. Шубина и другие исследователи. Значительной вехой в разработке эпистолярного наследия стала публикация писем Платонова из семейного архива, перешедшего в 2006 году на государственное хранение в Институт мировой литературы им. А. М. Горького (подготовлены к печати Платоновской группой ИМЛИ). Без этой предварительной работы вряд ли можно было сформировать корпус писем настоящего издания.
Письма Платонова печатаются по авторитетным источникам: автографам, авторизованным машинописям, первым прижизненным и научным публикациям. При подготовке опубликованных ранее писем была проведена дополнительная сверка текстов. В том случае, когда в первой публикации письма встречаются неточности или сокращения, оно печатается по архивному первоисточнику.
Письма расположены в хронологическом порядке со сквозной нумерацией. Указание адресата и авторская дата письма считаются частью его текста. Редакторская дата и указание места написания ставятся после фамилии адресата перед текстом письма. Если дата письма устанавливается приблизительно, то письмо печатается с указанием года в конце соответствующего раздела. Условность датировки оговаривается в примечаниях.
Все тексты писем печатаются по современной орфографии и пунктуации, с максимальным сохранением индивидуальных авторских особенностей. Сокращенные и недописанные Платоновым слова восполнены в угловых (< >) редакторских скобках. Не раскрываются сокращения, являющиеся частью стиля эпохи и автора (“тов.”, “с т. приветом”, “с тов. приветом”), а также общеупотребительные сокращения (т. д., т. е., др., ж. д., с.-х.). При публикации писем по черновым автографам зачеркнутые слова и фразы, важные в смысловом отношении и приоткрывающие подтексты и лабораторию написания письма, воспроизводятся. Авторские подчеркивания в тексте сохраняются. Редакторские примечания текстологического характера даются в тексте письма в угловых скобках.
Комментарий к письму дается непосредственно за текстом письма и включает: справку о первой публикации и источнике публикации в настоящем издании, сведения об адресате, описание контекста и историко-литературные и реальные примечания. Письма, впервые публикуемые в настоящем издании, специально не отмечаются, а указывается архивный источник нахождения выявленного документа. В приложение включен текст неоконченной повести в письмах “Однажды любившие”, основанной на реальных письмах Платонова к жене из Тамбова.
Тексты писем и комментарии к ним подготовили:
Антонова Е. В.: № 1–39, 49–56, 58–62, 64–74, 76–80, 82–91, 95, 98, 129, 131, 206*, 213, 217, 218, 256, 257, 259–266*, 269–291, 293–309, 325*, 330*, 339*, 341*.
Антонова Е. В., Кукушкина Т. А.: № 267, 268.
Богомолова М. В.: № 222, 223, 332–338, 345.
Дужина Н. И.: № 148, 224.
Корниенко Н. В.: № 40–48, 57, 63, 75, 83*, 83**, 88*, 90*, 90**, 91*, 91**, 92–94, 96, 97, 99–128, 130, 132, 133, 135–141, 144–147, 149–155, 157–163, 165, 166, 169–172, 188, 195–203, 206, 208, 209, 211, 214–216, 219, 221, 227, 235, 240, 243–248, 250, 251, 253–255, 258, 292, 310, 311, 313, 316–331, 339–344, 346–350.
Корниенко Н. В., Кукушкина Т. А.: № 164, 167, 168, 310*, 312, 314–315**.
Папкова Е. А.: № 204, 205, 207, 210, 231, 249, 252.
Роженцева Е. А.: № 173–187, 189–194, 212.
Суровова Л. Ю.: № 220, 225, 226, 228–230, 232–234, 236–239, 241, 242.
Умрюхина Н. В.: № 134, 142, 143, 156.
Именной указатель подготовлен Н. В. Умрюхиной. Фотоматериал подобран Е. В. Антоновой.
Благодарим крупнейшие архивохранилища России за помощь в подготовке нашего издания. Также наша благодарность – Р. Чандлеру, К. Б. Андроникашвили-Пильняк за предоставленные уникальные материалы из личных архивов. Наша особая признательность внуку А. П. Платонова – А. М. Мартыненко.
Начислим
+19
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе