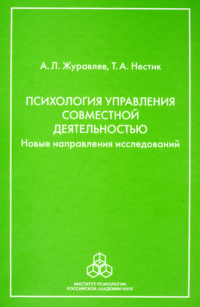Читать книгу: «Психология управления совместной деятельностью. Новые направления исследований», страница 5
2.4. Интуиция в совместной деятельности
Одним из важнейших условий способности руководителя и группы успешно действовать в условиях высокой неопределенности является их доверие к собственной интуиции. Не случайно в последние пятнадцать лет роль интуиции в управленческой деятельности стала одной из наиболее популярных тем в современной организационной психологии. Несмотря на большое количество работ в этой области, общепринятого определения понятия интуиции до сих пор не сложилось. Интуицию рассматривают как бессодержательное знание, формирующееся на уровне интенций, без осознания путей этого формирования (Холодная, 2002); объединение воспринимаемых фактов и предшествующего опыта (Agor, 1989); спонтанное понимание ситуации, приходящее на основе ее сходства с предыдущим опытом (Dreyfus, Dreyfus, 1986); непосредственное знание, полученное без помощи рассудка (Rew, 1996); способность человеческого мозга к получению знания на телесном, эмоциональном и ментальном уровнях без осознанного, рационального анализа информации, которая обеспечивается в основном правым полушарием и опирается на подсознательные, бессознательные, сверхсознательные процессы (Lank, Lank, 1995). Согласно другому определению, интуиция – это процесс неосознаваемой, целостной переработки информации, в ходе которого суждения выносятся на основании правил и знания, которые остаются недоступными рассудку и кажутся истинными, несмотря на то, что человек не может их обосновать (Shapiro, Spence, 1997). Одним из наиболее емких определений можно считать формулировку Э. Дейна и М. Прэтт: «эмоционально окрашенные суждения, формирующиеся посредством быстрой и неосознаваемой смены целостных ассоциативных образов» (Dane, Pratt, 2004, p. 40). При этом исследователи отмечают тесную связь интуиции с личностными характеристиками, с особенностями протекания рефлексивных процессов в условиях неудачи или «тупика» (Попова, 2005).
Роль интуиции в современных организациях растет вместе с уровнем неопределенности и дефицитом времени. Так, например, 80 % компаний, прибыль которых удвоилась за последние 5 лет, возглавляются менеджерами с хорошо развитыми интуитивными способностями. Среди менеджеров высшего и среднего уровня 54 % опираются на интуицию при принятии решений (Parikh et al., 1994). Не менее 25 % руководителей характеризуются интуитивным стилем принятия решений (Andersen, 2000). Ряд исследований показывает, что опора на интуицию при принятии решений прямо коррелирует с управленческим уровнем, т. е. топ-менеджеры используют интуицию чаще, чем руководители низовых уровней и рядовые работники, а предприниматели – чаще, чем их наемные менеджеры (Agor, 1986; Allinson, Hayes, 1996; Allinson et al., 2000). Исследование, проведенное недавно А. Фернемом и его коллегами, выявило прямую корреляцию между ориентацией на интуитивное восприятие, невротизмом и управленческим уровнем (Moutafi et al., 2007). Наиболее существенную роль интуитивное принятие решений играет в тех случаях, когда развитие ситуации трудно предсказуемо. Интуиция лежит в основе творчества как способности к неосознаваемому преобразованию информации (Пономарев, 1967, 1976; Дружинин, 1999). Например, интуиция часто помогает врачам правильно определять заболевания и спасать человеческие жизни (Effken, 2001).
Хотя традиционно считается, что интуитивный стиль характерен для руководителей Востока и Азии, эмпирические исследования этого не подтверждают: наиболее склонны к интуитивному стилю менеджеры из стран Западной и Северной Европы, тогда как руководители развивающихся стран и арабского мира более аналитичны (Allinson, Hayes, 2000).
Предпринимаются попытки выделить внутреннюю структуру интуиции и факторы, влияющие на эффективность ее использования руководителями и группами (Dane, Pratt, 2007). По-видимому, управленческая интуиция как компетенция не может быть сведена к какой-то одной характеристике личности и группы, но представляет собой целый комплекс способностей и навыков. Например, Д. Кэппон, много лет занимающийся изучением интуитивных процессов, выделил 20 интуитивных способностей, среди которых часть относится к восприятию информации, другие – к предвидению, третьи – к способности выявлять закономерности (Cappon, 1993).
Факторы эффективности интуитивного принятия решений можно объединить в две категории: одни из них связаны с объективными особенностями решаемой задачи, а другие – с особенностями представлений о ситуации, сложившихся у руководителя (Dane, Pratt, 2007). Так, например, согласно С. Шапиро и М. Спенсу, важным фактором эффективности интуитивного принятия решений является степень структурированности решаемой проблемы, т. е. наличие заранее согласованных критериев истинности решения. Наименее структурированными являются проблемы, связанные с разработкой корпоративной стратегии, открытием нового направления в бизнесе, слияниями и поглощениями, приемом на работу или назначением на новую должность сотрудников (Kelly et al., 1990). По-видимому, интуитивное решение является наиболее адекватным способом разрешения моральных дилемм (Haidt, 2001). Другим фактором эффективности интуитивных суждений является наличие информации о проблеме, способность руководителя комплексно подойти к оценке ситуации, учесть ее контекст, представить ее как когнитивно сложную (Dane, Pratt, 2007). Т. е. упрощение, абстрагирование и опора на эвристики повышают вероятность ошибочных интуитивных суждений, тогда как учет множества аспектов ситуации и различных заинтересованных сторон повышает ее эвристичность и снижает вероятность ошибки. Именно поэтому интуитивные суждения экспертов более эффективны, чем такие же суждения «новичков» (Baylor, 2001; Klein, 2003).
По мнению большинства авторов, развитие навыков интуиции вполне возможно, но лишь косвенным путем. Интуиция «работает» более эффективно, если ей не ставят прямую цель. Например, в одном из исследований испытуемые должны были угадывать место появления «крестиков» на мониторе. В предъявлении стимула был заложен определенный алгоритм – столь сложный, что разгадать его было крайне трудно. Постепенно участники эксперимента научились предсказывать появление «крестиков» с высокой точностью, но объяснить, как у них это получается, не могли. Когда алгоритм был изменен экспериментатором, испытуемые стали делать ошибки, а время их реакции значительно увеличилось. Таким образом, им удалось определить и «заучить» правильную последовательность, не прикладывая сознательных усилий. Спустя некоторое время чем больше они опирались на свою интуицию, тем меньше делали ошибок. Особенно важен тот факт, что те испытуемые, которые получили задание сознательно вычислить алгоритм, учились медленнее, чем те, кто сосредоточились на «здесь и сейчас», действовали спонтанно. Возможно, это означает, что, поставив перед собой сознательную цель «думать интуитивно», менеджер блокирует свое «чутье» (Such, 1993).
Эмоции являются своего рода «пусковым крючком» интуиции, равнодушие же ее сдерживает. Переживая происходящее, мы как бы расставляем эмоциональные метки в памяти. Благодаря этим меткам наш мозг, наше бессознательное получает потом быстрый доступ к нужным фактам без помощи сознания. С этой точки зрения, предвидение развития событий в совместной деятельности может облегчаться острым переживанием происходящего.
Вместе с тем некоторые эмоции могут блокировать интуицию. Обнаружено, что позитивные эмоции, хорошее, приподнятое настроение повышают способность к интуитивным суждениям и ассоциативному мышлению, а негативные эмоции (гнев, страх, тревога) – подавляют интуицию (Bolte et al., 2002). Ссора с коллегой, досада на подчиненных, неудача – все это способно снизить умение менеджера предвосхищать развитие ситуации.
Если пусковым крючком интуиции служат эмоции, то ее «порохом» является доверие человека к самому себе. Менеджеры, не уверенные в себе, сдерживают свою интуицию. Оказалось, что интуиция связана и с умением доверять другим, сопереживать им. Так, Олден Хайяши полагает, что если менеджер не способен сопереживать, сочувствовать другим людям, то он не может и принимать решения интуитивно. Именно это происходит с людьми, страдающими нарушениями префронтальной области коры головного мозга. Казалось бы, они ничем не отличаются от остальных людей: речь, двигательные функции, внимание, память, аналитические способности остались у них прежними. Отсутствовали лишь вторичные эмоции (в частности, любовь, сопереживание). Например, если им показывали фотографии людей, пострадавших от несчастных случаев или от природного бедствия, это не вызывало у них никакой реакции. Оказалось, что такие люди не способны принимать решения: они могут сколько угодно приводить доводы за и против, но не могут сделать выбор (Hayashi, 2001). Отсутствие эмоций негативно влияет на способность к интуитивным суждениям (Bechara et al., 1997).
Чем больше мы подчиняем эмоции своему рассудку, тем менее мы способны опираться на интуицию. Люди, которые легко дают названия своим чувствам и хорошо объясняют свои эмоциональные состояния, менее успешны в использовании интуиции (Chatterjee, 2000). Возможно, попытки рационально объяснить свои чувства или сознательно запрограммировать себя на определенные переживания тоже способны блокировать способность к предвидению.
В современных исследованиях управленческой интуиции наметилась тенденция к учету не только личностных, но и групповых, организационных факторов ее использования. Некоторые авторы предпринимают попытки представить интуицию как групповую способность, исследуют роль интуиции в работе проектных команд (Leybourne, Sadler-Smith, 2006) и в организационном научении (Crossan et al., 1999), выявляют внутриорганизационные политические механизмы, легитимирующие интуитивные решения (Lawrence et al., 2005), уточняют особенности организационной культуры и процессы вторичной социализации, способствующие доверию к интуитивным суждениям участников совместной деятельности (Chatterjee, 2000).
Среди инструментов развития интуитивных способностей группы и организации можно выделить: включение интуиции в корпоративную модель управленческих компетенций; распространение историй о ситуациях, в которых команде помогла интуиция; поддержку и развитие горизонтальных коммуникаций, позволяющих сотрудникам обмениваться интуитивными предположениями с коллегами из других подразделений и даже с клиентами; поддержание позитивного эмоционального климата в коллективе; стимулирование инноваций, поощрение совместного поиска будущего через совместную разработку командного видения.
Наиболее перспективным направлением исследований интуиции в области социальной психологии труда является, на наш взгляд, изучение интуиции как группового феномена. Примерами могут быть коллективные озарения, а также предвосхищение членами команды действий друг друга. Если на индивидуальном уровне в основе интуиции лежат механизмы интенционального опыта (Холодная, 2002), то можно предположить, что и в групповых интуитивных процессах важную роль играют умонастроения, предпочтения, убеждения и стереотипы, разделяемые участниками. Нельзя также исключать того, что в основе командной интуиции лежат те же механизмы, что и в основе группового давления, сдвига к риску и других негативных эффектов, получивших в свое время название «группового мышления» и «групповых защитных механизмов». Представляется эвристичным в этой связи обращение к таким понятиям, как «коллективный разум» (К. Вик), «трансакционная память» (М. Вигнер, Р. Мореленд), «групповые когниции» (М. Хогг, Р. Тиндейл), «командные ментальные модели» (В. Хинсч, Л. Томсон), «предметно-ценностное единство группы» (А. И. Донцов), групповой «ментальный опыт» (М. А. Холодная). Заметим, что в конце 1980-х – начале 1990-х годов групповой разум получил новую интерпретацию в социальной психологии – как позитивная характеристика группы, уровень развития которой влияет на способность членов команды действовать слаженно и адекватно ситуации (Нестик, 2009). Именно такой подход позволил бы выделить специфику групповых интуитивных процессов, которая несводима к индивидуальному интуитивному принятию решений.
Глава 3
Совместное творчество как социально-психологический феномен
Ускорение изменений в научно-технической сфере, в жизни организаций и мировой экономике привело к увеличению числа инновационных задач, требующих нестандартного подхода, причем часто в таких условиях, когда участники совместной деятельности не имеют соответствующего опыта. Необходимость быстро реагировать на меняющуюся ситуацию и даже опережать изменения оставляет все меньше возможностей для деятельности, целиком регламентированной внутриорганизационными положениями и процедурами. Все чаще проектные и управленческие команды вынуждены импровизировать, на ходу предугадывая действия друг друга. Более того, в условиях информационного общества и быстрого обновления знаний растет взаимозависимость экспертов: разработка креативного решения уже невозможна силами одного сотрудника, так как ему приходится опираться на знания и опыт других экспертов.
Все это сдвигает внимание исследователей и практиков с индивидуальной креативности на креативность коллективную. Если в 1950–1980-е годы основное внимание удалялось способам повышения индивидуальной креативности, то в последние 20 лет основные усилия направлены на повышение креативности малых групп и организаций.
Цель настоящей статьи – проанализировать основные теоретические подходы к изучению креативности как группового феномена и наметить наиболее перспективные направления исследований в этой области.
В начале нашей работы мы проанализируем признаки и социально-психологические аспекты индивидуальной креативности, выделим основные направления исследования совместного творчества в социальной психологии, выделим основные формы организации совместно-творческой деятельности в современных организациях, а затем рассмотрим внутригрупповые и организационные факторы групповой креативности.
3.1. Социальная природа креативности, совместное творчество и инновации
Под творчеством принято понимать внесение значимого вклада в работу над задачей, ведущего к разработке новых идей или к созданию новых продуктов, которые решают проблему, соответствуют сложившейся ситуации или реализуют общественно значимую цель. Креативность – это способность создавать продукт, который обладает новизной и при этом соответствует окружающему контексту, ограничениям, накладываемым ситуацией (Amabile, 1983; MacKinnon, 1962; Любарт, 2009).
На протяжении более чем четырех десятилетий изучения креативности в психологии исследования в этой области были сосредоточены вокруг трех основных тем: когнитивных процессов, лежащих в основе творческого мышления; творческой личности и ее поведенческих характеристик; а также несколько позднее заявившей о себе проблемы внешней среды, способствующей или препятствующей творческой деятельности. В центре всех трех тем был индивид – его когнитивные процессы, личностные черты и окружение (Торшина, 1998; Любарт и др., 2009). Креативность как групповая характеристика долгое время была упущена из внимания исследователей (Kurtzberg, Amabile, 2001; Воронин, 2004; Ушаков, 2005; Гавреева, 2008). Научные работы, которые посвящались совместному творчеству, или были основаны на описании реальных научных, изобретательских, писательских, военных и иных творческих коллективов с противоречивыми выводами об их эффективности, или строились как эмпирическая проверка эффективности конкретных групповых методов повышения креативности, таких как мозговой штурм, синектика и т. п. (Пономарев, Гаджиев, 1983).
Хотя на протяжении долгого времени в центре внимания специалистов находилась индивидуальная креативность, посвященные ей исследования подготовили почву для изучения совместного творчества. Так, Т. Эмэбайл предложила теоретическую модель творчества, предполагающую наличие трех основных, усиливающих друг друга элементов. Во-первых, это внутренняя мотивация к работе над задачей, которая проявляется в большей приверженности и уделении работе большего количества времени, стремлении не отвлекаться от работы, погрузиться в нее с головой (Amabile et al., 1994; Ruscio et al., 1998). Во-вторых, это высокий уровень компетентности в области решаемой задачи. Она проявляется в знании различных подходов, наличии собственного мнения по вопросам, связанным с данным кругом задач, обладании необходимыми техническими навыками и эстетическими критериями оценки выполняемой работы (Amabile, 1996). В-третьих, это творческое мышление и поведение – гибкость использования различных подходов к решению задачи, внимание к неожиданным ее аспектам, выбор нестандартных методов реализации решения. Один из основоположников психологии творчества Дж. Гилфорд назвал эту способность «дивергентным мышлением», которое характеризуется высокой скоростью и гибкостью мыслительных процессов, новизной предлагаемых идей, развитой способностью к обобщению и анализу информации, ее реорганизации, переименованию и переопределению, умением работать со сложными образами и понятиями, совершенствовать и оттачивать выдвинутые идеи (Guilford, 1950). Другие исследования свидетельствуют о том, что важнейшей составляющей креативности является способность к латеральному (De Bono, 1991), ассоциативному мышлению, т. е. совмещению разных, далеких друг от друга категорий, улавливанию сходства между совершенно не связанными друг с другом элементами (Mednick, 1962). Р. Стренберг и Т. Любарт выделили в качестве основных характеристик творческого мышления способность определять ключевые элементы проблемы, оценивать или представлять в воображении соответствие частей друг другу и выявлять из полученной ранее информации ту, которая важна для решения проблемы (Sternberg, Lubart, 1993). Применительно к мозговым штурмам от креативной личности можно ожидать подготовки к групповой встрече и активного участия в ней, постановки значимых для обсуждения вопросов, высказывания оригинальных идей, развития предложений других участников (Ruscio et al., 1998). Креативность связана и с некоторыми личностными чертами, такими как широкий круг интересов, стремление к решению сложных задач, интуитивный тип мышления, развитое эстетическое восприятие, низкий уровень избегания неопределенности, склонность к риску, упорство и уверенность в себе (Amabile, 1983; Oldham, Cummings, 1996), открытость новому опыту (King, 1996; McCrae, 1987), сознательность (Taggar, 2002). В определенной степени этим личностным характеристикам соответствуют групповые: разнородность интересов участников группы, мотивация на решение коллективной сверхзадачи, способность к обмену неявными знаниями, низкий уровень избегания определенности и готовность к риску, уверенность группы в своих силах.
Как известно, в процессе индивидуального творчества продуцирование образов сочетается с процессом активации, который активизирует новые элементы памяти, вводит их из долговременной памяти в рабочую (Anderson, 1983; Ушаков, 2006). Оказалось, что высокая креативность связана со способностью расширять объем внимания и дефокусировать его (Mendelsohn, 1976; Ушаков, 2006). Если сопоставить нейронную сеть и социальные сети, то нетрудно увидеть аналогию между описанными закономерностями индивидуального творчества и той ролью, которую играют в совместном творчестве «слабые связи» с внешними по отношению к группе экспертами. Обращаясь к своим знакомым с вопросами по поводу решаемой проблемы, участники группы активируют память профессионального сообщества, вовлекая в решение новые идеи. Современные организации, реализуя стратегию «открытых инноваций», т. е. привлечения инновационных идей извне, расширяют объем своего внимания и, пользуясь личными связями, открывают «золотое дно», решая проблемы, о существовании которых первоначально даже не догадывались.
Изучение индивидуального творчества привело исследователей к выводу о том, что креативность невозможна вне социального взаимодействия, т. е. является не только индивидуально-психологической, но социально-психологической характеристикой. Так, Д. Харрингтон предложил рассматривать творчество как совместную деятельность, так как индивидуальное творчество всегда является продуктом взаимодействия с более широкой социальной средой (Harrington, 1990). Согласно М. Чиксентмихайли, творческая идея формируется под влиянием трех факторов: социального поля, сферы творчества и личности (Csikszentmihalyi, 1988). Поле творчества – это совокупность социальных институтов, которые сохраняют только те творческие идеи, которые признаются ими как значимые. Сфера творчества – это область знаний или культурных практик, которые через традицию доносят новые идеи и формы до последующих поколений. Наконец, личность – это творец, вносящий в ту или иную культурную сферу изменения, которые должны быть признаны творческими представителями данного социального поля. Таким образом, вне социального поля, вне взаимодействия с другими людьми, пусть даже в форме внутреннего диалога, автокоммуникации, творчество невозможно.
Важный вклад в переход от изучения индивидуальных форм творчества к изучению совместной творческой деятельности внесли отечественные психологи. Объектом исследования при этом выступали в основном коллективы изобретателей и ученых, а также экспериментальные группы (Максимов, 1971; Ярошевский, Карцев, 1977; Гиндилис, 1982; Гаджиев, 1983; Пономарев, Гаджиев, 1983). В рамках программно-ролевого подхода к исследованию научных коллективов, предложенного М. Г. Ярошевским, было выявлено значение ролевой дифференциации для успешного совместного творчества (Ярошевский, 1978). Огромный интерес для психологии совместного творчества представляют исследования школы Я. А. Пономарева. Согласно Я. А. Пономареву, в основе творчества лежит психологический механизм порождения неосознаваемых «побочных продуктов» в решении творческой задачи, которые выступают в качестве «подсказки», ведущей к интуитивному решению. Последующая вербализация и формализация решения приводят к преобразованию интуитивного решения в логическое, а побочного продукта – в прямой (Пономарев, 1976). По мнению Я. А. Пономарева и Ч. М. Гаджиева, этот же механизм лежит и в основе совместного творчества, однако здесь складывается особая коллективная форма преобразований побочного продукта: побочные продукты, возникающие в действиях одного из членов группы, могут быть использованы в качестве подсказки любым другим членом группы, могут регулировать действия других участников совместного решения (Пономарев, Гаджиев, 1983).
Идея Я. А. Пономарева о сочетании интуитивного и логического «режимов» в творчестве получила свое развитие в работах его учеников и соавторов. В значительной степени под влиянием отечественного «рефлексивного движения» (работы Г. П. Щедровицкого, В. А. Лефевра и др.) и отечественной психологии рефлексии (Степанов, Семенов, 1985), наибольшее внимание при этом уделялось рефлексивным механизмам как центральному моменту, – наряду с интуицией, – творческого процесса (В. К. Зарецкий, Г. И. Катрич, Н. Б. Ковалева, М. И. Найденов, Е. Р. Новикова, А. В. Растянников, И. Н. Семенов, Е. А. Сиротина, С. Ю. Степанов, Д. Н. Ушаков и др.). Рефлексия, понимаемая как процесс осмысления, переосмысления и преобразования субъектом содержаний сознания, деятельности, общения и форм своего опыта, задает связность и осмысленность индивидуальной и совместной деятельности, мобилизует интеллектуальные ресурсы в проблемно-конфликтных ситуациях, порождает действенно-преобразующее поведение личности или группы к самим себе (Степанов, 2000, 2006). При этом именно рефлексия превращает совместное творчество в такую форму межличностного взаимодействия, в ходе которой происходит развитие личности и группы (Растянников и др., 2002; Степанов, 2000).
По мнению С. Ю. Степанова, способом создания сотворческой среды является формирование катализаторов рефлективности: это либо групповые ценности и образцы деятельности, либо психологи-рефлепрактики, реализующие специальные методики организации рефлексивного переживания опыта. Основным механизмом данных методик является создание у участников рефлексивного альтер-Эго, позволяющего посмотреть на ситуацию с точки зрения инновационного «иномира», который сначала противопоставляется консервативной реальности, а затем проникает в нее. При этом ирреальность «иномира» позволяет переосмыслить индивидуальные и коллективные стереотипы, творчески раскрепощая участников и одновременно обеспечивая им психологическую защиту. Такое совместное творчество обладает мощным психотерапевтическим и развивающим эффектом, открывая не только зоны ближайшего развития, но и перспективы отдаленного профессионально-личностного развития участников (Степанов, 2000, 2006).
Согласно М. И. Найденову, рефлексия выступает в качестве фактора, повышающего эффективность совместного творчества (Найденов, 1990, 2006). Рефлексия понимается им как система высокоорганизованного психического отражения в фактической или виртуальной группе, характеризующегося со стороны результата степенью новизны и глубиной проработанности интеллектуального продукта, а со стороны процесса – объемом каналов отражения, скоростью переработки информации, количеством и уровнем переосмысления совместного опыта. Рефлексия в ходе совместного творчества развивает группу, позволяя ей переосмыслить, повторно отразить проблемно-конфликтную ситуацию. При этом она несводима к сумме индивидуальных рефлексий, возникает лишь в групповом со-бытии. Система групповой рефлексии включает в себя различные предметы отражения: интеллектуальные, коммуникативные, личностные, межперсональные аспекты совместного творчества. Групповая рефлексия выступает в роли вторичной психической модели, в которой обрабатывается опыт группы, взаимоотражаются действия или бездействие ее участников. По мнению М. И. Найденова, групповая рефлексия в совместном творчестве может рассматриваться в трех ракурсах: как действие, как способность, а также как групповая ценность, облегчающая взаимодействие и осмысление совместного опыта. Рефлексия оказывается тем самым «побочным продуктом» совместного творчества, который приобретает самоценность и развивает участников группы. Для повышения эффективности совместного творчества М. И. Найденовым разработаны рефлексивные тренинг-практикумы, позволяющие участникам решать практическую проблему, обеспечивая в то же время возможность для рефлексии этого события, развивающие рефлексивные способности группы и стимулирующие принятие участниками рефлексии как групповой ценности.
Совместное творчество П. В. Малиновский и Т. Ю. Базаров выделяют в особый, совместно-творческий тип совместной деятельности, каждый участник которой является создателем нового, и их индивидуальные вклады принципиально невычленимы (Малиновский, 1990; Базаров, Аксенова, 2001). Совместно-творческий тип деятельности требует транспрофессионализма, т. е. способности участников работать в разных профессиональных позициях и разных групповых ролях в зависимости от решаемой задачи. Важной характеристикой сотворчества Т. Ю. Базаров и П. В. Малиновский считают повышение его участниками своей профессиональной компетентности, взаимосвязанное с развитием группы как целого: совместное творчество позволяет каждому пробовать разные способы деятельности, обогащаться способами работы, присущими другим специалистам.
В исследованиях В. Г. Грязевой-Добшинской совместное творчество рассматривается сквозь призму индивидуализации (поиск нового, усиление своеобразия, возможности для участников внести уникальный вклад в совместную деятельность) и интеграции личности (отражение и принятие индивидуальности другими). Если в совместной творческой деятельности происходит совместное спонтанное преобразование первоначального продукта одного из партнеров и формируется общее для участников смысловое поле, то процессы личностной индивидуализации и интеграции усиливаются. Если же взаимодействие организовано по принципу совместной оценки и отбора одного из продуктов индивидуального творчества, в преобразовании которого группа не принимала участия, то эти эффекты блокируются (Грязева-Добшинская, 1988, 2010).
Г. С. Гавреева сосредоточила свое внимание не столько на психологических механизмах совместного творчества как процесса, сколько на креативности как устойчивой групповой характеристике. Групповую креативность она определяет как комплексное свойство группы, позволяющее ей в совместной профессиональной деятельности генерировать оригинальные идеи, инновационные предложения, находить способы нестандартного решения проблем, инициативно относиться к делу, стремиться к высоким профессиональным достижениям. В качестве эмпирических индикаторов групповой креативности она выделяет интерес к разработке и решению проекта, уровень ценностного единства группы, уровень творческого настроя, уровень генерирования новых идей, готовности к работе над наиболее сложными и ответственными задачами, активность группы в процессе разработки и решения проектных задач. Факторный анализ позволил ей объединить эти характеристики в две группы: групповая активность и групповая сплоченность в творчестве (Гавреева, 2008). Результаты ее исследования указывают на то, что, помимо внутренней мотивации и высокой вовлеченности участников, в совместном творчестве весомую роль играет характер лидерства, поддерживающего творческие групповые ценности и особую групповую идентичность.
Без всякого сомнения, на протяжении последних 20 лет преобладание индивидуальных форм инновационной и в узком смысле творческой деятельности сменилось преобладанием коллективных, командных его форм. В 1990-е годы интенсивные изменения и инновации, осуществлявшиеся с помощью команд, превратили управление групповой креативностью в одну из наиболее актуальных проблем теории менеджмента, а также социальной и организационной психологии (Egan, 2005; Kratzer et al., 2005; Kurtzberg, 2005; Lewis, 2004; Mathisen et al., 2004; Moorman, Miner, 1998; Shalley, Gilson, 2004; Vera, Crossan, 2005; Yu, 2005; Florida, Goodnight, 2005; Советова, 1998; Грязева-Добшинская, 2007; Яголковский, 2007, 2009; Гавреева, 2007; Лебедева, Ясин, 2009; Лебедева, 2009; и др.). Важную роль при этом сыграло сближение понятий креативности и инновационности.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе