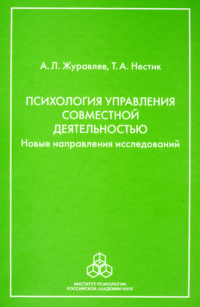Читать книгу: «Психология управления совместной деятельностью. Новые направления исследований», страница 4
2.2. Роль управленческого ви́дения будущего в условиях неопределенности
Растущий дефицит времени и необходимость постоянно отвлекаться на решение сиюминутных задач существенно ограничивает способность руководителей и рядовых сотрудников удерживать в поле своего зрения отдаленные цели совместной деятельности, а также прогнозировать будущее. Поэтому в условиях роста неопределенности и ускорения изменений все более важным для управления совместной деятельностью становится умение руководителя формировать свое видение будущего и ярко «нарисовать» его для своих последователей, способность предвидеть развитие ситуации и действовать на опережение (Пригожин, 2010).
Как отмечает один из исследователей, видению отводится центральное место в большинстве современных теорий лидерства, и остается загадкой, почему этот феномен до сих пор так мало эмпирически изучен (Kantabutra, 2008). Хотя интерес к видению непрерывно растет на протяжении последних 15-ти лет, можно говорить о том, что исследования в этой области только начинаются (Foster, Akdere, 2007).
Впервые термин «видение» как обозначение образа будущего появляется в конце 1960-х годов XX в. в зарубежной литературе, посвященной теории управления и лидерству. Видение нередко понимается как цель, определяющая, «кто мы есть», и мотивирующая сотрудников (Wilkens, 1989); как очертания возможного будущего, которые воодушевляют людей и дают им возможность видеть себя в широком контексте долгосрочных целей (Gardner, 1990); как будущие принципы, ценности и пути их достижения (Nadler et al., 1992). В теории лидерства видение часто рассматривается как когнитивный феномен: интуитивная способность обрисовать или представить будущее, часто используемая руководителями, но не осознаваемая ими (Kouzes, Posner, 1995); интуиция, преобразующая цель в действие (Nanus, 1989); концепция будущего (El-Namaki, 1992); мысленный образ будущего процесса, группы или организации (Nanus, 1992); гипотетическая когнитивная схема, объединяющая в себе представления об идеальном образе действий (Thoms, Greenberger, 1995).
Формирование образа будущего в групповом сознании является ключевой компетенцией в теориях харизматического и трансформационного лидерства. (Р. Хаус, Б. Шамир, Дж. Конгер, Б. Басс и др.).
Образ будущего играет важную роль в процессе самоотождествления последователей с харизматическим лидером, повышающим их самооценку и уверенность в силах своего коллектива (Shamir et al., 1993).
Как показывают исследования, потребность в лидерском видении возрастает во время бурных изменений, неопределенности и коллективных рисков (Bligh et al., 2004; Ehrhart, Klein, 2001). Например, Э. Гордижн и Д. Степель в серии экспериментов обнаружили связь потребности в видении с наличием угрозы для жизни (Gordijn, Stapel, 2008). Полученные ими данные хорошо согласуются с теорией «управления ужасом», предложенной Дж. Гринбергом, Т. Пыжински и Ш. Соломоном: при обострении чувства конечности своего существования и переживании угрозы смерти растут стремление повысить самооценку, просоциальное поведение, конформность, поддержка культурных норм, ингрупповой фаворитизм и аутгрупповая дискриминация, поиск и подчеркивание личностью и группой своей позитивной идентичности (Greenberg et al., 1990). При этом наблюдается смещение предпочтений от трансакционного к трансформационному, харизматическому лидерству (Cohen et al., 2004). Позитивное видение будущего, формируемое харизматическим лидером, дает возможность последователям повысить свою самооценку и поддерживает их позитивную идентичность.
Видение будущего лидером тесно связано с его способностью анализировать прошлое – свое собственное, своей команды и своей организации. Согласно Дж. Кузесу и Б. Познеру, отношение лидера к своему прошлому лежит в основании видения будущего (Kouzes, Posner, 1996; Kouzes, Posner, 2009). Косвенно эту точку зрения подтверждает эксперимент, проведенный О. Эль Сови среди исполнительных директоров (CEO) компаний, работающих в сфере информационных технологий (El-Sawy, 1983). Одним участникам эксперимента предлагалось сначала вспомнить события из прошлого, а затем представить события, относящиеся к предполагаемому будущему. Другим исполнительным директорам предлагалось, наоборот, сначала представить себе будущее, а затем прошлое. Каждый испытуемый должен был отнести названные им события к какому-то определенному времени в прошлом или будущем. Оказалось, что исполнительные директора, которые сначала думали о прошлом, были склонны описывать события в среднем на 4 года более отдаленного будущего, чем те директора, которые сначала думали о будущем, а затем о прошлом. Напротив, размышления о событиях будущего не сказывались на глубине ретроспективы.
Анализ прошлого своей компании увеличивает протяженность временной перспективы, однако такой анализ большинство руководителей проводит крайне редко, ссылаясь на свою загруженность более важными задачами и на отсутствие времени. По-видимому, существует и обратное влияние видения будущего на представления о прошлом. Например, эмпирические исследования показывают, что особенности постановки цели лидером и его усилия по формированию приверженности видению будущего среди членов команды могут существенно влиять на восприятие результатов совместной деятельности ее участниками, на осмысление совместных достижений и неудач (Forester et al., 2007).
Заслуживает отдельного внимания психологическая концепция видения, разработанная П. Томс. Видение рассматривается ею с точки зрения индивидуальной временной перспективы лидера (Thoms, 2004). Согласно ее исследованиям, существуют лидеры, ориентированные на прошлое, ориентированные на настоящее и, соответственно, ориентированные на будущее. В зависимости от ситуации, в которой находится компания, востребованной оказывается та или иная временная ориентация (например, в небольшой фирме, которая работает в условиях стабильного рынка, эффективным будет руководитель с ориентацией на настоящее или на прошлое). Эффективный лидер способен учитывать свою собственную временную ориентацию, используя ее особенности в различных управленческих ситуациях. Важнейшей лидерской компетенцией оказывается организационное видение, т. е. способность видеть будущий облик организации на основе уроков прошлого с учетом внутренней и внешней среды компании. Для того чтобы быть успешным, лидер должен развивать свое видение и в то же время окружать себя людьми с разными временными ориентациями.
Дж. Кузес и Б. Познер исследовали действия, которые предпринимают успешные лидеры, построив таким образом модель лидерского поведения. Одним из важных ее элементов является формирование группового, командного видения: умение лидера доносить до сотрудников значение и цели совместной работы; рассказывать о тенденциях, которые в будущем повлияют на деятельность команды; давать убедительное описание того, как может выглядеть совместное будущее; призывать других делиться своими мечтами и планами; показывать подчиненным, как они могут реализовать свои долгосрочные цели, включая их в общее видение будущего (Kouzes, Posner, 1995).
Согласно П. Томс и Д. Гринбергеру, лидерское видение входит в число так называемых «темпоральных компетенций», связанных с управлением представлениями сотрудников о прошлом, настоящем и будущем. К таким компетенциям они относят следующие (Thoms, Greenberger, 1995; Thoms, Pinto, 1999):
1) сжатие времени (time warping) – способность приближать прошлое и будущее к субъективному настоящему команды и внешних заинтересованных сторон проекта;
2) формирование образа будущего – способность постоянно удерживать и корректировать в воображении картину конечного результата проекта, создавать будущее в воображении команды;
3) способность дробить будущее проекта на мелкие, связанные друг с другом, более управляемые части;
4) полихронность – способность одновременно думать о разных делах, отслеживать параллельно идущие процессы, увязывать друг с другом в разные по масштабу циклы разные их стадии;
5) интуитивное предвидение будущего с опорой на отрефлексированный опыт прошлого;
6) подытоживание прошлого (recapturing the past) – способность резюмировать и оценивать сделанное командой, выхватывать из истории проекта или организации возможности для будущего.
При управлении совместной деятельностью руководитель сталкивается с задачами, которые требуют различных темпоральных компетенций и различной настройки в восприятии, переживании и организации времени.
Говоря об исследованиях лидерского видения в современной организационной психологии и теории менеджмента, можно отметить растущее число попыток перейти от качественных методов исследования (анализа кейсов, глубинных интервью, контент-анализа) к количественным (корреляционным исследованиям на основе анкетирования сотрудников и руководителей). Вместе с накоплением эмпирических данных можно ожидать и теоретическое переосмысление видения как психологического феномена.
В частности, большое теоретическое и прикладное значение имеет проблема соотношения индивидуально-личностных, групповых и организационных факторов формирования лидерского видения. Открытым вопросом оказывается и взаимосвязь между характеристиками видения и предпочитаемыми лидером стилями руководства, нуждается в дальнейшем изучении взаимосвязь временной перспективы лидера и представлений сотрудников о будущем своего коллектива. Наконец, эмпирически мало изучено влияние психологических характеристик руководителя на содержание образа будущего организации (инновационность или консервативность, бóльшая или меньшая представленность в образе будущего тех или иных элементов организации и т. п.). Также требуют своего исследования и ситуационные факторы эффективности видения: одни и те же характеристики лидерского видения могут быть по-разному востребованы на разных стадиях развития организации, в благоприятных и кризисных условиях.
2.3. Совместная импровизация1
Для успешности совместной деятельности в условиях высокой неопределенности и дефицита времени сегодня требуется не «замораживание» мышления и поведения группы, а прямая его противоположность – спонтанность и коллективное творчество. Поэтому начиная с середины 1990-х годов темы импровизации, спонтанности, совместного творчества и коллективной интуиции, ранее считавшиеся прерогативой наук об искусстве, стали предметом горячих дискуссий в теории менеджмента и организационной психологии. Понятие импровизации используется сегодня при анализе широкого круга феноменов – от работы в команде до вывода на рынок новых товаров и управления организационными изменениями.
Пристальное внимание менеджеров, консультантов и исследователей к теме импровизации в бизнесе вызвано, как минимум, двумя основными факторами. Во-первых, в эпоху экономики знаний конкурентные преимущества оказались связанными со способностью организаций постоянно вырабатывать нестандартные, творческие, инновационные решения. От «охоты за головами» бизнес переходит к формированию творческой среды, стимулирующей обмен знаниями и креативность команд. Во-вторых, возросла неопределенность организационной среды, поэтому менеджерам все чаще приходится действовать по ситуации и полагаясь на интуицию – при недостатке информации, без надежных прогнозов и даже без какого-либо предварительного планирования (Нестик, 2006; Базаров, Нестик, 2007).
При импровизации приходится иметь дело с неожиданным и не подготовленным заранее, на что указывает латинская этимология этого слова (im – «не», proviso – «предвижу, обеспечиваю заранее»). Вот несколько определений импровизации, которые можно встретить в научной литературе: «спонтанное действие, опирающееся на интуицию» (Crossan, Sorrenti, 1997, p. 156); «степень, в которой замысел и реализация совпадают по времени» (Moorman, Miner, 1998, p. 702); «творение экспромтом… сочинение музыки непосредственно в ходе исполнения» (Schuller, 1964, p. 378); «замысел действия, рождающийся в ходе его выполнения и опирающийся на доступные когнитивные, материальные, аффективные и социальные ресурсы» (Cunha et al., 1999, p. 302).
Согласно Карлу Вику, одному из наиболее влиятельных сегодня организационных психологов, импровизация представляет собой «just-in-time» – стратегию поведения, ориентированную на здесь и сейчас. Использующий ее менеджер сосредоточивает усилия не столько на попытках спрогнозировать события и учесть все возможные сценарии, сколько на углублении своего понимания бизнеса, овладении широким репертуаром навыков и стилей поведения, на развитии способности быстро оценивать ситуацию, доверии к своей интуиции и на непрерывном поиске возможностей сократить издержки (Weick, 2001).
Как указывают Д. Вера и М. Кроссан, при исследовании импровизации в совместной деятельности необходимо различать дескриптивный и прескриптивный аспекты: для понимания того, что такое импровизация, ключевыми являются феномены спонтанности и креативности, тогда как для определения условий ее эффективности наиболее важное значение имеют уровень профессионализма и навыки командной работы (Vera, Crossan, 2005).
В импровизации стирается граница между замыслом и действием, драматургом и актерами, композиторами и исполнителями. Особенно удачным является определение, предложенное музыкальным теоретиком Полом Берлинером: «Импровизация – это переработка созданных ранее содержания и формы в соответствии с неожиданными идеями, которые рождаются, оформляются и пересматриваются непосредственно в ходе исполнения, придавая ему уникальность» (Berliner, 1994, p. 241).
В зависимости от допускаемой свободы творчества, выделяют разные уровни импровизации. «Интерпретация» предполагает незначительные вольности при исполнении мелодии, без отхода от письменно зафиксированного нотного текста: например, расстановка акцентов, ускорение или замедление темпа, подчеркивание какой-то одной из параллельно разворачивающихся мелодий. «Приукрашивание» предполагает изменение последовательности музыкальных фраз, при котором одни из них звучат раньше, другие – позже, чем в оригинале. Изначальная мелодия перефразируется, но вполне узнаваема. «Вариация» основана на включении в основной текст совершенно новых музыкальных фрагментов, которые увязываются с основной мелодией, не разрушая ее целостности. Наконец, «импровизация» представляет собой преобразование мелодии в музыкальные образы, имеющие незначительное сходство с прообразом, или сочинение новых музыкальных фраз, полностью альтернативных прозвучавшей первоначально мелодии. Когда музыканты импровизируют, они полностью изменяют части мелодии или включают в нее фрагменты, никак с ней не связанные (Berliner, 1994).
На основании музыкальных теорий импровизации К. Вик делает следующие выводы (Weick, 1998):
• изменение, пересмотр существующих и создание новых решений или процедур имеют более непосредственное отношение к импровизации, чем перестановка местами, переключение или расширение первоначального варианта, которые можно считать интерпретацией;
• чем более наши действия приближаются к творческой импровизации, тем большее влияние на него оказывают такие факторы, как наш практический опыт, наши предпочтения, особенности обстановки, в которой мы находимся;
• при высоком дефиците времени нам легче дается интерпретация и приукрашивание, чем вариация и импровизация.
Действительно, исследования импровизации в менеджменте показывают, что творческий характер импровизации, как правило, утрачивается в случае, если менеджер (или артист, музыкант, футбольный игрок) воспринимает ситуацию как угрожающую, экстремальную.
Вместе с тем исследования показывают, что успех лидера-импровизатора в значительной степени зависит от того, удастся ли ему сделать командную задачу исключительной, безотлагательной и значимой в глазах подчиненных (Pina e Cunha et al., 2003). Можно сделать вывод о том, что, с одной стороны, для импровизации необходимо переживание важности настоящего момента и срочности, безотлагательности действия, но, с другой стороны, сверхмотивация и острое переживание тревоги несовместимы с импровизацией, так как ведут к упрощению деятельности, ограничивают ее шаблонными, привычными действиями. Таким образом, импровизация, как и эффективность совместной деятельности в целом, подчиняется закону Йеркса – Додсона.
Изучая импровизацию театральных артистов, американские специалисты Д. Вера и С. Кроснан (Vera, Crossan, 2004) предложили теоретическую модель, согласно которой импровизация может быть описана через две базовые характеристики: спонтанность (т. е. действие без подготовки, экспромтом) и креативность (т. е. новизна, творческий характер действий).
В зависимости от степени дефицита времени (потребность в спонтанности) и степени неопределенности (нестандартность ситуации, требующая творческого подхода), можно выделить три типа импровизации (рисунок 2.1):

Рис. 2.1. Типы управленческой импровизации – на основе модели, предложенной М. Кроссан, М. П. Куна, Д. Вера и Дж. Куна (Crossan et al., 2005, p. 133)
1) интерпретация;
2) экспериментирование (исследовательская импровизация);
3) собственно импровизация.
При интерпретации или «приукрашивании» группа сталкивается с необходимостью быстро отреагировать на неожиданно изменившиеся условия деятельности, но при этом организационная среда является достаточно определенной. Планирование невозможно – на него нет времени, а затягивание действий может привести к исчезновению открывшейся возможности или к серьезному ухудшению ситуации. Спонтанность здесь оказывается высокой, тогда как креативность низкая: на действия команды влияет предшествующий опыт, сложившиеся технологии и правила. Поэтому совместная деятельность в таких условиях напоминает приукрашивание, интерпретацию, незначительное видоизменение уже имеющихся «заготовок». Примером такой импровизационной деятельности является разработка маркетинговым агентством новой маркетинговой компании, выполняемой в кратчайшие сроки и основанной на учете той реакции, которую предыдущие компании вызвали у клиентов и конкурентов (Moorman, Miner, 1998).
При экспериментировании основной проблемой является не цейтнот, а высокая неопределенность. Планирование невозможно не потому, что на него нет времени, а потому что группе не хватает информации о положении дел и развитие ситуации непредсказуемо. Поэтому оптимальной стратегией оказывается метод проб и ошибок, когда команда анализирует свои собственные действия и на ходу вносит необходимые коррективы. Примером такой импровизации является разработка новых товаров, в частности, в области программного обеспечения и фармацевтики, где одновременно разрабатывается и тестируется несколько альтернативных версий продукта. Другим примером может быть изобретение «стикеров» в компании 3М (торговая марка «Post-it»). Как известно, Арт Фрай, один из ее сотрудников, пел в церковном хоре и использовал неудачную версию клея для закладок в сборнике песнопений. Клей, который был разработан несколько лет назад и считался неудачным, так как плохо засыхал, наконец-то удалось применить. В этом примере можно увидеть, как сочетается низкий дефицит времени, низкая спонтанность, высокая креативность и высокая неопределенность при поиске вариантов продвижения нового товара на рынок.
Свободная импровизация наиболее востребована в тех случаях, когда планирование невозможно, так как для этого нет ни времени, ни достаточной информации. Примером такой кризисной ситуации является пожар, разгоревшийся в национальном парке североамериканского штата Монтаны в августе 1949 г. (Matthews, 2007). Когда огонь подобрался к пожарной команде, ее капитан Вагнер Додж вместо того, чтобы тушить его водой, разжег вокруг себя и своих людей собственный заградительный огонь и лег на землю. Быстро распространявшийся пожар «перепрыгнул» через импровизированный островок искусственного огня, оставив В. Доджа целым и невредимым, тогда как остальные члены команды, бросившиеся бежать, погибли. Такой нестандартный способ борьбы с огнем был известен индейцам, но В. Додж о нем ничего не знал, для него это было чистой импровизацией.
Импровизация невозможна без «минимальной структуры», т. е. минимума стабильности и организации. По словам кинорежиссера И. Бергмана, «только когда все тщательно подготовлено, когда все отработано, тогда можно начинать импровизировать» (цит. по: Рунин, 1980). Это хорошо видно на примере джазовых ансамблей. Вот как описывает импровизацию без структуры один из выдающихся джазовых лидеров Стив Лэйси: «У меня была группа в 1966-м году с Энрико Рава, Джонни Дайани и Луисом Мохоло (записанная на The Forest and The Zoo), и мы играли совершенно свободную музыку: освобождаясь поочередно от мелодии, ритма и гармонии, пока мы не стали совершенно свободны от этих вещей. Но через год все это стало звучать совершенно одинаково, это не было больше свободным. Итак, мы стали структурировать свободу, стали ограничивать ее. Это было началом нового периода, который расцвел сейчас – постсвободный, полисвободный, контроль над тем, что мы узнали во время революции 60-х. Мы используем этот материал как ингредиент – но ограниченным со всех сторон» (Such, 1993; цит. по: Коровкин, 2001).
Необходимыми условиями совместной импровизации являются баланс сотрудничества (аккомпанирование друг другу) и соперничества (стремление показать высший класс, обыграть предыдущего солиста); готовность команды к риску; доверие членов команды друг к другу; «минимальная структура», т. е. необходимый минимум правил совместной деятельности, домашних заготовок и общеизвестных клише, на которые участники команды могут опереться при развертывании импровизации (Kamoche, Cunha, 2001). Опыт успешной коллективной импровизации позволяет команде быть более гибкой в непредвиденных ситуациях, быстрее учиться на собственном опыте и опыте других, испытывать чувство самореализации, повышающее мотивацию к совместной работе.
Важную роль в успешной импровизации играет лидер (Базаров, Нестик, 2007; Нестик, 2006, 2007; Newton, 2004; Pina e Cunha, 2003). Лидер-импровизатор превращает сотрудников в мастеров спланированной, хорошо отрепетированной импровизации. Это лидер, который осваивает новые образцы поведения за счет имитации, подражания, пародирования других лидеров и включения их импровизации в свой собственный контекст. Иллюстрацией может служить «обмен четверками» в джем-сейшн, в ходе которого джазмены стремятся переиграть друг друга, обмениваясь короткими (двух- или четырехтактовыми) музыкальными фразами. Кроме того, пародирование и заучивание фрагментов из выступлений выдающихся джазменов является необходимым условием формирования любого музыканта-импровизатора. В процессе обучения джазмена ведущую роль играет слушание и воспроизведение великих образцов (равно как и sitting in – «подсаживание» на короткий период к профессиональным ансамблям). Эффективный лидер-импровизатор использует любую возможность для того, чтобы превратить событие или эпизод в жизни проекта из уникального, неповторимого случая в образец, часть репертуара, клише. От того, как поставлены драматургия репетиций и совместный анализ командного опыта, зависит степень развития «коллективной памяти» и «командного разума» сотрудников. Для эффективной импровизации лидер должен иметь развитый «слух», т. е. уметь различать сценарии других лидеров и сотрудников, включать их в свои тактические решения.
Как показывают исследования, далеко не всякая импровизация является эффективной и приводит к требуемому результату (Crossan, Sorrenti, 1997; Miner et al., 2001). Можно выделить некоторые факторы, способствующие эффективной импровизации в совместной деятельности: лидер, поддерживающий и развивающий членов команды; разделенное лидерство, т. е. способность членов команды брать на себя и передавать друг другу роль лидера в соответствии с требованиями ситуации; способность членов команды преодолевать стресс, связанный с непредсказуемостью коллективной импровизации. В своей модели эффективной импровизации М. Кроссан, М. П. Куна, Д. Вера и Дж. Куна выделяют две основные группы факторов: организационные и групповые (Crossan et al., 2005). Организационные включают в себя:
1) культуру экспериментирования, т. е. систему норм и ценностей, способствующую экспериментированию и совместному творчеству;
2) систему коммуникаций, обеспечивающую информированность всех участников команды о состоянии дел на данный момент и предоставляющую возможность непосредственного и мгновенного обмена информацией между членами команды;
3) доступ к «коллективной памяти» – знаниям и опыту, накопленным командой и организацией в целом.
Среди групповых факторов ключевыми являются:
1) высокий уровень мастерства всех участников команды;
2) высокий уровень развития навыков работы в команде.
Импровизация может осуществляться на уровне отдельных сотрудников и руководителей, проектных команд, структурных подразделений и даже на уровне всей организации. Она играет существенную роль в организационном научении (Miner et al., 2001), внедрении новых технологий и организационных изменениях (Orlikowski, Hofman, 1997; Brown, Eisenhardt, 1998), разработке новых продуктов (Vera, Crossan, 2005), переговорах (Balachandra et al., 2005), принятии стратегических решений (Eisenhardt, 1997), организации помощи в чрезвычайных ситуациях (Mendonca, Al Wallace, 2007; Somers, Svara, 2009).
Как спонтанный процесс импровизация является вневременной, заранее не планируемой, сосредоточена на настоящем. Вместе с тем, как креативный процесс, импровизация направлена на создание нового, устремлена в будущее. Опираясь на исследования импровизации в различных областях деятельности, М. Кроссан и М. Куна вместе со своими коллегами считают импровизацию ключом к синтезу различных «темпоральностей» в организации (Crossan et al., 2005). Импровизация объединяет событийное и астрономическое время организации, линейно направленные и циклические процессы. Современным управленческим командам приходится непрерывно переключаться между различными горизонтами планирования, внешними и внутренними циклами деятельности, учитывать взаимосвязи организационных процессов, протекающих с различной скоростью. Способность к импровизации дает руководителям возможность произвольно менять свою временную ориентацию и временную перспективу. Она открывает путь к повышению адаптивности организации по отношению к меняющимся срокам и временным режимам деятельности.
Среди наиболее перспективных направлений в области социально-психологического исследования управленческой импровизации можно выделить несколько проблем. Во-первых, необходимо дальнейшее уточнение групповых факторов, влияющих на готовность группы к импровизации. В частности, малоисследованной остается роль сплоченности, групповых норм и ценностей, коммуникативной структуры группы, совместимости и т. п. Например, до сих пор неясно, как соотношение доверия и недоверия участников совместной деятельности друг к другу влияет на их способность к совместной импровизации. Во-вторых, необходимо расширение видов профессиональной деятельности, на примере которых исследуется импровизация. Особенно большой интерес представляет изучение совместной импровизации в коммерческих переговорах, а также в групповой дискуссии. В-третьих, эмпирически мало изученным остается влияние на успешность групповой импровизации стиля руководства и стиля исполнительской деятельности. В-четвертых, требует своего дальнейшего уточнения само определение импровизации, спонтанности и креативности как социально-психологических феноменов, их место в ряду таких понятий, как надежность, зрелость и организованность группы. Наконец, до сих пор не решенной задачей остается выделение эмпирических типов импровизационного взаимодействия в группе.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе