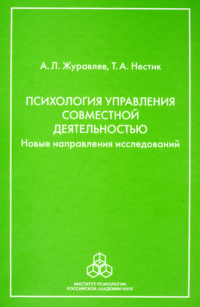Читать книгу: «Психология управления совместной деятельностью. Новые направления исследований», страница 3
1.5. Эмоциональный подход к управлению совместной деятельностью
Развитие эмоционального подхода к управлению совместной деятельностью обусловлено, на наш взгляд, двумя основными причинами. Во-первых, необходимость постоянных изменений в организациях снижает значение качества вырабатываемых и принимаемых группами решений, так как решающее значение в успехе организационных изменений приобретают эмоциональные составляющие организационной идентичности и приверженности принятому решению, руководителю и организации. Между тем постоянные изменения вызывают неизбежное сопротивление сотрудников, фрустрацию и пессимистические ожидания. Это, в свою очередь, вызывает потребность в управлении организационным настроением и эмоциональным климатом в группе (Бэйер, Нино, 2008; Де Дрю и др., 2008; Barsade et al., 2000; George, 1995; George, 1996; George, Brief, 1996; Weiss, Cropanzano, 1996). Во-вторых, с развитием горизонтальных организационных структур растет значение доверия и эмоциональной привязанности (Smith et al., 1999) как факторов успешности деятельности группы. При этом в своих теоретических моделях исследователи стремятся объединить когнитивные процессы с эмоциональными (Андреева, 2009).
С позиции данного подхода эффективность совместной деятельности зависит прежде всего от способности лидера и членов группы управлять эмоциональными переживаниями друг друга, устанавливать и поддерживать эмоциональные связи между участниками совместной деятельности.
Данный подход нашел свое отражение в двух интенсивно развивающихся исследовательских направлениях: в теории организационного настроения и групповых эмоциональных состояний, а также в теории командного эмоционального интеллекта и эмоционального лидерства.
Исследования в области управления групповыми эмоциональными состояниями и организационным настроением – относительно новое направление, сформировавшееся в начале 1990-х годов и приобретающее все большую актуальность для менеджмента (Бэйер, Нино, 2008; George, 1996).
Первоначально эмоциональное заражение, т. е. влияние настроения и эмоций одних людей на эмоциональное состояние других, рассматривалось в основном как характеристика массовидных явлений, патологическое проявление феномена толпы (Г. Лебон), но позднее этот механизм стал исследоваться и в межличностных отношениях. В частности, Э. Хэтфилд, Дж. Качиппо и Р. Рэпсон назвали «примитивным эмоциональным заражением» относительно автоматическое подражание и неосознаваемую синхронизацию с другим человеком по выражению лица, голосу, жестам, позе и движениям, которые сближают эмоциональное состояние обоих (Hatfield et al., 1994). Д. МакИнтош, Д. Дракмен и Р. Зайонц обозначают этот феномен как «социально обусловленный аффект» (McIntosh et al., 1994), который основывается на трех процессах: собственно заражении, взаимном обусловливании поведения и мимикрии. Наконец, некоторые исследователи считают эмоциональное заражение результатом «втягивания», т. е. синхронизации поведения: в ходе межличностного общения микродвижения коммуникантов постепенно согласуются друг с другом по ритму и фазе цикла. Согласно этой модели, совместные переживания формируются как реакция коммуникантов на слаженность, скоординированность их взаимодействия, а не как результат переноса эмоций от одного человека к другому (Kelly, 2003; McIntosh et al., 1994). Наиболее подвержены механизму эмоционального заражения индивиды, высоко оценивающие взаимозависимость между собой и окружающими и с развитой способностью к идентификации чувств других людей по их мимике. Хорошими «передатчиками» эмоциональных состояний являются те, кто обладает хорошо развитыми навыками невербального общения, кто способен чувствовать или выражать сильные эмоции и кто относительно нечувствителен к тем индивидам, которые испытывают чувства, несовместимые с их собственными (Hatfield et al., 1994).
Исследования ряда авторов показывают, что у индивидов, продолжительное время работающих вместе, формируется склонность испытывать одинаковые позитивные или негативные эмоциональные состояния, причем склонность испытывать позитивные эмоции увеличивает продолжительность существования и устойчивость состава группы. Дж. Джордж обнаружила, что многие рабочие группы характеризуются одинаковой выраженностью эмоций, так называемым «групповым эмоциональным тонусом», который является важным фактором эффективности совместной деятельности. Между индивидами, склонными испытывать одинаковые эмоциональные переживания (позитивные или негативные), развивается симпатия, и они образуют подгруппу, тогда как между членами группы, которые подвержены переживанию противоположных состояний, развивается взаимное отталкивание и несовместимость. Это приводит к тому, что состав группы постепенно становится однородным по эмоциональному тонусу. По мнению Дж. Джордж, групповой эмоциональный тонус – исключительно групповой феномен и не может быть объяснен суммой или средним показателем эмоциональных состояний каждого участника группы в отдельности (George, 1996, 1995). Хотя считается, что позитивный эмоциональный тонус группы прямо связан с большей ее производительностью, в отношении ряда сложных и требующих системности задач зависимость обратная. С. Барсаде и Д. Гибсон считают необходимым формировать группы, разнородные по подверженности участников эмоциональным состояниям. В частности, такая разнородность может помочь в ситуациях, когда необходимо уравновесить гнев или эйфорию, переживаемые частью команды. Как высокая однородность, так и высокая разнородность в подверженности членов группы испытывать определенные эмоциональные состояния негативно сказываются на эффективности совместной деятельности (Barsade et al., 2000). Управление эмоциональным состоянием команды осуществляется не только посредством формирования ее состава, при котором необходимо принимать во внимание уровень экстраверсии и степень невротизма кандидатов, но и через наиболее влиятельных ее членов, прежде всего – лидера команды. В частности, харизматическое или трансформационное лидерство в высшей степени соответствует задаче управления эмоциональным состоянием команды. Известно, что негативные эмоциональные состояния облегчают систематическую обработку информации, тогда как позитивные – эвристическую, творческую (Sinclair, Mark, 1992). Можно ожидать, что при задачах, требующих групповой креативности, а также при рутинных, простых операциях наиболее эффективным может быть стимулирование позитивных эмоций. Наоборот, при решении трудных задач, требующих системности и последовательности, более эффективным оказывается снижение интенсивности позитивных эмоций и их сочетание с негативными переживаниями (Kelly, 2003).
Начиная с 1990-х годов важную роль в исследовании эмоциональных состояний в малых группах и организациях стала играть теория эмоционального интеллекта (Goleman, 1995, 1998; Salovey, Mayer, 1990). Ряд авторов предполагают, что не только отдельные индивиды, но и команды могут обладать эмоциональным интеллектом, степень развития которого сказывается на эффективности совместной деятельности. Так, например, такие составляющие эмоционального интеллекта, как понимание эмоций и управление эмоциями, влияют на продуктивность деятельности команды и уровень обслуживания клиентов (Feyerherm, Rice, 2002), принятие групповых решений и предпочитаемые в команде методы разрешения конфликтов (Jehn, 1997).
Концепция эмоционального интеллекта нашла свое отражение и в теории эмоционального лидерства Д. Гоулмена (Бояцис, Макки, 2007; Колризер, 2008; Goleman, 1995, 1998; Goleman et al., 2002). В отличие от теорий харизматического и трансформационного лидерства, где эмоциональные аспекты также играют важную роль, теория эмоционального лидерства рассматривает управление коллективными эмоциями в качестве главной задачи лидера. Успешность ее решения зависит от степени, в которой у лидера развиты способности понимания собственных эмоций, эмоциональной саморегуляции, мотивирования себя и других, эмпатические способности и навыки общения (Goleman, 1998). При этом стили руководства рассматриваются не только с точки зрения их эффективности применительно к ситуации, но и с точки зрения их воздействия на эмоциональный климат и настроение организации. Так, опираясь на исследования консалтинговой компании The Hay Group/McBeer, в котором участвовал 3871 менеджер, Д. Гоулмен, Р. Бояцис и Э. Макки выделили резонансные стили, т. е. позитивно воздействующие на эмоциональный климат (вдохновляющий, поддерживающий, консультирующий, демократический), и диссонансные стили (директивный и подталкивающий), которые вызывают негативные эмоциональные состояния в коллективе (Бояцис, Макки, 2007; Goleman et al., 2002).
Разумеется, каждый из рассмотренных нами подходов имеет свои возможности и ограничения. Вместе с тем на практике они хорошо дополняют друг друга. Совершенствование систем управления в современных организациях должно опираться на комплексный подход, учитывающий структурный, социокультурный, сетевой, социокогнитивный и эмоциональный аспекты совместной деятельности.
* * *
Завершая главу, хотелось бы сделать несколько выводов, вытекающих из проведенного нами анализа основных направлений социально-психологического исследования совместной деятельности.
Во-первых, в основе управления совместной деятельностью лежат различные психологические механизмы, которым исследователями уделяется разное внимание в зависимости от теоретического подхода. Структурный подход основан на положении о том, что эффективность совместной деятельности обеспечивается прежде всего оптимальным соответствием структуры отношений внутри малой группы или организации стоящим перед ними задачам. С точки зрения социокультурного подхода, ключевым фактором долгосрочной эффективности совместной деятельности является создание системы общих ценностей команды, организации или межорганизационного партнерства. С точки зрения сетевого подхода, ключом к повышению эффективности совместной деятельности является способность использовать в интересах проекта круг знакомств отдельного сотрудника или проектной команды как внутри, так и вне организации, т. е. способность команды заручиться поддержкой людей и организаций, чьи знания, связи и другие ресурсы могут быть задействованы для решения задачи. Социокогнитивный подход основан на том предположении, что эффективность совместной деятельности зависит прежде всего от умения руководителя управлять представлениями ее участников о команде, задаче и организационном контексте деятельности, а также от умения участников находить и использовать потенциальные источники информации и экспертной поддержки. С позиции социоэмоционального подхода, эффективность совместной деятельности зависит прежде всего от способности лидера и членов группы управлять эмоциональными переживаниями друг друга, вызывать определенные социальные эмоции, устанавливать и поддерживать эмоциональные связи между участниками совместной деятельности.
Во-вторых, развитие психологии управления совместной деятельностью за последние 30 лет двигалось в направлении объединения структурного подхода с его вниманием к формально-динамическим характеристикам совместной деятельности (организации взаимодействия во времени и пространстве, характера решаемых задач, статусной, ролевой и коммуникационной структуры и т. п.), к изучению содержательных аспектов, таких как коллективные переживания, групповые представления и ценности. При этом заметно стремление исследователей в своих теоретических моделях объединить когнитивные и эмоциональные процессы.
В-третьих, на протяжении последних десяти лет в социальной и организационной психологии растет понимание того, что совместная деятельность возможна не только на основании общности целей или функциональной взаимозависимости, но и на основании общности ценностей или средств достижения участниками своих частных целей.
В-четвертых, как и в отечественной психологии, так и за рубежом в фокусе внимания исследователей совместной деятельности оказываются психологические аспекты групповых и организационных изменений. При этом получает признание тот факт, что совместная деятельность развивается во времени нелинейно, а ее участники имеют прошлое и ожидаемое будущее, которые влияют на их совместную деятельность в настоящем.
В-пятых, ряд явлений, изучавшихся ранее преимущественно на внутриличностном и межличностном уровнях, теперь исследуются как групповые явления (например, с этой групповой точки зрения по-новому рассматриваются мотивация совместной деятельности, феномены доверия, привязанности, общего настроения и т. д.).
В-шестых, все больше исследователей используют не один, а несколько уровней социально-психологического анализа (внутриличностный, межличностный, внутригрупповой, межгрупповой, организационный, межорганизационный).
Глава 2
Совместная деятельность в условиях дефицита времени и неопределенности
Рост темпа изменений и неопределенности среды в современном обществе, в особенности в бизнесе, требует от групп способности эффективно работать над сложными задачами, в условиях кризиса, недостатка информации, постоянного дефицита времени и других ресурсов. Сотрудникам организаций становится все труднее удерживать в поле своего внимания конечную, объединяющую их цель. Кроме того, возможности планирования деятельности все более ограничены, группам и организациям приходится действовать интуитивно, спонтанно и творчески, импровизируя на ходу. Этими факторами объясняется растущий интерес исследователей к групповой работе в условиях стресса, импровизации, интуиции, к ви́дению и групповой креативности.
2.1. Дефицит времени как стресс-фактор в совместной деятельности
Из научной литературы, посвященной воздействию стресса на индивидуальную деятельность, известно, что при дефиците времени возрастают количественные показатели работы, тогда как качество снижается, внимание фокусируется на решении жизненно важных проблем, возрастает тенденция к упрощенным схемам принятия решений (Kaplan et al., 1993; Karau, Kelly, 1992). В такой ситуации может происходить «сползание» от сложных форм регуляции деятельности к более простым, а оперативные единицы деятельности могут укрупняться. От контролируемых, речемыслительных суждений индивид переходит к интуитивным, повышается его избирательность при использовании информации. Действия при этом запараллеливаются, возникает эффект полиактивности или «многоканальности» деятельности (Завалишина, 1977; Ошанин, 1977; Стрелков, 2009).
Практически все эти эффекты были обнаружены и на групповом уровне. Как показывают исследования Стивена Каро и Дженис Келли, при дефиците времени активность группы сдвигается с поддержания отношений на выполнение задачи, возрастает количество сделанного, тогда как качество снижается. Цейтнот может улучшить качество и скорость решения при верном изначальном подходе или ухудшить их – при изначально ошибочном подходе. Группа все больше внимания уделяет информации, подтверждающей или не подтверждающей изначально принятую позицию, тогда как нейтральная информация все меньше принимается к рассмотрению. При этом нормативная конформность в группе возрастает, группа легче приходит к соглашению (Kelly, Karau, 1999). Как и личность, группа может приспособиться к деятельности при высоком уровне стресса (Brown, Miller, 2000; Hollenbeck et al., 1997; Volpe et al., 1996), однако ее эффективность снижается, если уровень стресса продолжает расти (Adelman et al., 2003; Entin, Serfaty, 1999; Urban et al., 1996). Таким образом, закон Йеркса – Додсона, который гласит, что при росте активации индивидуальная производительность сначала повышается, а затем падает, применим и к совместной деятельности в условиях стресса. Были предприняты попытки выявить, каким образом группа распределяет время в условиях его дефицита (Littlepage, Poole, 1993), а также выявить оптимальные стратегии внутригруппового взаимодействия в условиях цейтнота (Haertel, Haertel, 1997). Оказалось, что одним из факторов успешности работы команды в условиях цейтнота является уверенность ее членов в своих силах – вера в то, что команда способна справиться с задачей в более короткие сроки без потери качества. Так, например, при сдвиге сроков окончания проекта на более раннее время, проектные команды, которые верят в свои силы, справляются с задачей быстрее, чем команды, обладающие более широким набором ресурсов, но считающие, что им не справиться с задачей за более короткий срок (Gevers et al., 2001).
Дженис Келли и ее коллегам удалось установить, что скорость и качество групповой работы подвержены эффекту «втягивания», т. е. зависят от первоначальных временных условий решения задачи. Если в начале совместной деятельности дефицит времени отсутствует, ее участники могут «настроиться» на медленную и творческую работу, так что при росте дефицита времени, в условиях стресса, они будут работать медленнее, но более качественно, чем те группы, которые с самого начала испытывали нехватку времени. В другом исследовании было обнаружено, что описанный эффект «втягивания» группы зависит от восприятия сложности задачи участниками совместной деятельности в начале работы (Kelly et al., 1990).
Другой подход к исследованию совместной деятельности в условиях дефицита времени предложил А. Круглянский со своими коллегами (Kruglanski et al., 2002; Kruglanski, Webster, 1991, 1996). По их мнению, стресс повышает потребность членов группы в определенности, простых и окончательных решениях (так называемая «need for closure»). Возрастает стремление к единству мнений и предпочтений, групповое давление и конформность. Если члены группы уже выработали очень устойчивые предпочтения, то стресс приводит к их еще большему «замораживанию» и тем самым – к снижению готовности соглашаться с другими мнениями. В противном случае стресс побуждает группу к установлению единогласия за счет более сильного давления на меньшинство или за счет роста конформности меньшинства. Оба этих процесса приводят к сосредоточению власти в руках нескольких наиболее влиятельных членов группы, что проявляется в асимметрии процессов общения внутри группы (De Grada et al., 1999). Возрастает и влияние лидеров на установление правил коммуникации (Pierro et al., 2003). В целом стресс приводит к «зашориванию группового разума», т. е. к отторжению непопулярных в группе точек зрения, к ориентации на авторитарное лидерство и сложившиеся групповые нормы (Kerr, Tindale, 2004).
Воспринимаемый сотрудниками организации дефицит времени не только сказывается на когнитивных процессах, но и является мощным фактором групповой динамики. В зарубежной теории организаций и психологии малых групп широкое распространение получила концепция неустойчивого равновесия, согласно которой развитие группы происходит не поступательно, а скачкообразно: периоды стабильности чередуются с относительно краткосрочными стадиями изменений, которые подстегиваются дефицитом времени (Gersik, 1991). Так, К. Джерсик, исследуя работу проектных команд, установила, что бурные изменения в группах происходят в середине срока, выделенного им на выполнение задачи. После непродолжительного, но значительного изменения в способах работы над задачей, в ролевой структуре, межличностных отношениях членов команды и в отношениях команды с организационным контекстом, – пользуясь терминологией Н. Хомского, К. Джерсик называет это изменением «глубинных структур» – наступает новый период устойчивости (Gersick, 1989). Многочисленные исследования, основанные на модели К. Джерсик, позволяют сделать вывод о том, что модель неустойчивого равновесия наиболее точно описывает динамику именно в проектных командах, т. е. в совместной деятельности, которая жестко ограничена во времени (Arrow, 1997; Lim, Murnighan, 1994; Seers, Woodruff, 1997; Waller et al., 2002). Как пишет К. Джерсик, «не так важна эта срединная точка перехода, как сам факт того, что группы используют время как меру своего продвижения в выполнении задачи и достижение определенных временных вех подталкивает группу к изменениям» (Gersick, 1988, p. 34). Таким образом, хотя данная концепция является, скорее, моделью работы над задачей, чем группового развития, она позволяет прогнозировать внутригрупповую динамику в условиях изменения сроков и увеличения дефицита времени.
Как показывает исследование Лесли Перлоу, состоящее из 6-месячного включенного наблюдения за разработчиками программного обеспечения, коллективные нормы организации времени могут поддерживать постоянную нехватку времени и «авральный менталитет» (Perlow, 1999, 2001). Постоянно отвлекаемые друг другом программисты то и дело прерывали свою работу и не могли закончить ее в срок. Между тем такое неэффективное, спонтанное взаимодействие только учащалось в связи с нарастающей в отделе психологической атмосферой кризиса. Система индивидуальной оценки и стимулирования деятельности, поощряющая индивидуальный героизм работников, закрепляла неэффективные социальные нормы организации времени. Введение новых групповых правил организации времени позволило повысить эффективность его использования и существенно снизило остроту авралов: программисты разделили свой рабочий день на «зоны времени», определив, в какие часы они открыты для коммуникаций, а в какие часы сосредоточены на работе, требующей уединения. Исследования Л. Перлоу свидетельствуют о том, что дефицит времени является не только внешним фактором групповой динамики, независящим от участников совместной деятельности, но и социально конструируется, воспроизводится групповыми нормами и представлениями.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе