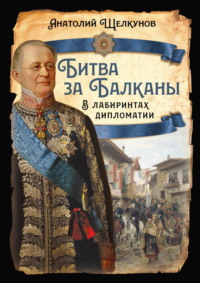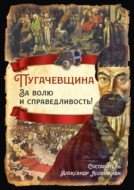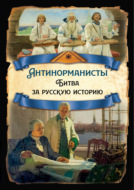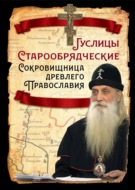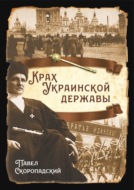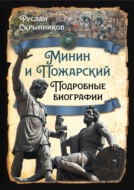Читать книгу: «Битва за Балканы. В лабиринтах дипломатии», страница 4
Глава 3
«Москов-паша»
Поздним вечером к российскому послу в Константинополе Николаю Павловичу Игнатьеву по срочному делу запросился Христо Карагёзов – его кавас (так по-турецки называли охранника или ординарца – авт.).

Граф Николай Игнатьев
Он был болгарином. Несколько лет назад служил охранником российского консульства в Русе. К нему с криком о помощи бросился молодой болгарин, которого преследовали турки. Христо спас болгарина, но самому пришлось скрываться, чтобы избежать международного скандала. Пробравшись нелегально в Константинополь, он обратился за помощью в российское посольство.
Когда его представили послу, Николай Павлович был поражён грозным видом его мощной фигуры в живописном черногорском костюме. Понимая значение внешней эффектности, которая может произвести впечатление на Востоке, посол после рассказа Карагёзова о своих приключениях и полученных рекомендаций на него, решил принять его на службу в качестве своего каваса.
Появление посла в сопровождении почти двухметровой фигуры болгарина с роскошными чёрными, как смоль, длинными усами, в экзотическом облачении, у которого за широким поясом торчали внушительный револьвер и длинный кинжал, вызывало у каждого, кто видел эту устрашающую сцену, невольный трепет и восхищение.
– Ваше превосходительство, – извинившись за беспокойство, обратился к послу Христо, – мой земляк-болгарин пришёл в посольство вместе с двумя кандиотами, которые просят срочной встречи с вами.
Николай Павлович понял, что, наверняка, это были посланцы восставшего в августе 1866 года греческого населения на острове.
– Христо, проводи их в комнату приёмов и пригласи нашего переводчика греческого языка. Я через десять минут приму их, – коротко распорядился посол, отложив французскую газету.
Ночные посетители, волнуясь, ожидали посла в просторной комнате, ярко освещённой свечами в красивых бронзовых канделябрах. На их загорелых лицах отражались перенесённые испытания, а в больших чёрных влажных глазах теплилась слабая надежда на возможную помощь.
Старший из них, которому можно было дать лет шестьдесят, с крупной, почти лысой головой, назвал себя Микисом Димопулосом.
Он представил болгарского сопровождающего, судя по его возрасту, сверстника Христо, и молодого кандиота, чьи кучерявые волосы прилипли к высокому вспотевшему лбу.
– Ваше превосходительство, господин посол великой России, – волнуясь, начал Микис, – недавно созданное правительство нашего острова поручило нам встретиться с вами и рассказать о том, что восставшие против османских угнетателей жители острова провели ассамблею, которая избрала правительство и провозгласила декрет об уничтожении навсегда на острове Кандия власти османского правительства и о вечном присоединении к матери Греции.
Он перевёл дыхание, пока переводчик переводил заранее заученную им фразу, и продолжил:
– Прошу ваше превосходительство, принять копию этого декрета, – слегка дрожащей рукой протянул он Игнатьеву документы, написанные каллиграфическим подчерком на греческом языке.
Николай Павлович, принял документы, поблагодарил Микиса и попросил его рассказать подробнее о событиях на острове.
– Мы обращаемся к вам, ваше превосходительство, а через вас к великой России за помощью, – чуть не плача, проговорил он. – Если Россия нам не поможет, то османы зальют кровью наш остров.
Ночью Николай Павлович составил депешу канцлеру Горчакову, которая ранним утром была направлена в Санкт-Петербург.
Посол сообщал о состоявшемся разговоре с посланцами правительства, созданного на восставшем острове.
Причиной восстания, писал Игнатьев, явилось усиление турецкого гнёта над православным населением Кандии, отсутствие школ и больниц. Кандиоты не могли более терпеть повышения налогов, административного и судебного произвола турецких властей. Когда турки силой стали принуждать людей к повиновению, то они взялись за оружие и потребовали воссоединения с Грецией. Турки бросили войска на подавление сопротивления.
Игнатьев предлагал объединить усилия стран Европы для оказания давления на Турцию, чтобы её войска прекратили репрессии против кандиотов и чтобы турецкие власти нашли взаимоприемлемое решение в переговорах с образовавшимся правительством острова.
Через несколько дней Игнатьев получил предписание Певческого моста о необходимости сдерживать восставших через своих эмиссаров и одновременно побудить французских и английских коллег оказать совместное давление на турецкое правительство провести на острове реформы в интересах христиан.
Выполняя указания центра, посол поручил российскому консулу на острове Спиридону Ивановичу Дендрино (этническому греку – авт.) попытаться найти способы умиротворения повстанцев.
Игнатьев встретился с французским послом маркизом Рене-Франсуа де Мустье в своей резиденции.
Маркиз был заносчив. Это, вероятно, объяснялось унаследованным им богатым состоянием, благоприятной дипломатической карьерой и тем влиянием на власти блистательной Порты, которого он добился за пять лет своей мисси в Константинополе.
Непринуждённую беседу Николай Павлович начал с рассказа маркизу о своих весьма благоприятных впечатлениях от французского посла в Пекине барона Гро.
– Его императорское величество шесть лет назад поручил мне миссию в Китае урегулировать пограничные вопросы… Как вам известно, там в это время ваши войска совместно с английскими вели боевые действия против китайцев… Посол Великобритании лорд Элджин склонял барона Гро к тому, чтобы уничтожить Пекин и сжечь жемчужину китайской культуры Запретный город. Никакие мои аргументы не допускать этого варварства не возымели действия на англичанина. Лишь с помощью барона Гро удалось убедить лорда и спасти столицу Китая и обе союзные армии от мести китайцев. Если бы этого не случилось, то весь народ Поднебесной, включая и восставших против правящей династии, поднялся бы против иноземных армий.
Франтоватый маркиз, известный своей скандальной связью с дочерью посланника Сардинии в Пруссии Делоне, когда тот возглавлял французскую миссию в Берлине, сделал комплимент Игнатьеву за его блестящий французский язык. При всём своём апломбе и высокомерии, перед которым пасовали другие его коллеги из европейских стран, маркиз чувствовал себя всегда рядом с Игнатьевым неуверенно, зная о том, что он был удостоен императором Франции Наполеоном III ордена Почётного легиона. С наигранным огорчением Мустье сказал:
– Да, и нам, к сожалению, тоже приходится заниматься восставшими на острове Кандия.
«Уловил изощрённый галльский ум, что я веду дело именно к восстанию на острове» – мелькнуло в голове у Николая Павловича.
– Мои дипломаты из различных источников получают информацию о чудовищных зверствах там над христианами, – не теряя время на праздные разговоры, перешёл он к цели своей встречи с маркизом. – И, как мне представляется, без вашего, excellency, влияния на власти Порты, о котором известно всем, – (намеренно сделал он комплимент честолюбивому французу), – не удастся прекратить кровопролитие ни в чём не повинных людей…
Игнатьев сделал паузу, надеясь увидеть хоть какой-то признак сострадания к участи кандиотов в глазах собеседника. Но тщетно.
Француз с полным равнодушием воспринял его слова.
Николай Павлович продолжил:
– Послы всех европейских монархий могли бы выступить с коллективным демаршем и потребовать от Порты провести на острове реформы в интересах христиан.
Холодными глазами маркиз смотрел на Игнатьева с безразличием человека, который старался сохранить видимость почтения к собеседнику.
Николай Павлович понял, что француза совсем не волновали события на острове и судьба его жителей.
– Скажу вам откровенно, excellency, – с фальшивой улыбкой заговорил маркиз, – не все народы имеют право на независимость. Итальянцы и поляки такое право имеют. А угнетённые народы Османской империи исторически лишены такого права. По моему убеждению, у турецких христиан отсутствуют такие факторы, как однородность, сила, единство и способность играть роль в истории…
Маркиз сделал паузу и с некоторой категоричностью добавил:
– Но Египту в таких качествах я бы не отказывал… Его военная монархия смело идёт по пути прогресса.
– Позволю себе, маркиз, возразить вам, – едва сдерживая возмущение столь очевидной дискриминацией, сказал Николай Павлович, – ваш подход, как мне кажется, объясняется тем, что Франция начала строительство Суэцкого канала и в её интересах привлечь в Египет как можно больше европейского капитала.
Мустье начал терять своё обычное олимпийское равновесие и стал резко возражать. Но в его словах не было убедительных аргументов. Осознавая это, он стал злиться. Тем самым ещё более обнажил очевидную несуразность своих утверждений.
В глазах Игнатьева он заметил ироничную улыбку.
Лучшим выходом из этой ситуации маркиз нашёл для себя поблагодарить собеседника за доставленное удовольствие от встречи и, ссылаясь на чрезмерную занятость делами, с извинениями удалился.
«Не случайно говорят: «правда глаза колет», – вдогонку французу подумал Николай Павлович.
– До чего же неприятный характер у маркиза, – поделился Игнатьев с женой после встречи с французом. – Даже скверный… Поэтому-то и побаиваются его здесь другие послы. Никому не хочется стать объектом его вспыльчивости и несдержанности. С такими людьми вообще не хочется иметь дела.
Никаких заверений по итогам встречи Мустье не сделал, лишь пообещал, что проинформирует обо всём своё правительство.
Аналогичную беседу Игнатьев провёл с британским послом лордом Генри Эллиотом.
Подобно французу, английский посол также не поддержал инициативу Игнатьева, суть которой сводилась к тому, чтобы убедить Турцию не направлять войска на остров. Правительство королевы исходило из того, что коллективные действия послов приведут к усилению в регионе, в частности в Греции, позиций России.
Чуткое ухо британских секретных служб уловило циркулировавший слух о намерении греческого короля Георга жениться на русской великой княжне Ольге Константиновне.
К слову сказать, британцами были задействованы тайные пружины, чтобы не допустить этого брачного альянса. Однако вопреки их проискам этот брак состоялся. Ольга Константиновна официально стала «королевой всех эллинов». После смерти мужа она была регентом в Греции и прославилась своим милосердием, покровительством русским морякам и возрождением Олимпийских игр.
Тем временем консул Дендрино докладывал послу, что османское правительство направило войска на остров и организовало его блокаду с моря.
Блокада обернулась голодом и лишениями критян.
В ноябре 1866 года Игнатьев пишет частное письмо директору Азиатского департамента министерства Петру Николаевичу Стремоухову, в котором не скрывает своих эмоций:
«Женщины и дети, уже не говоря о сражающихся инсургентах, с голода мрут, как мухи… Страшно подумать о несчастных жертвах несвоевременной вспышки! Сообщите, что находите возможным сделать для критян и их семейств?… Сердце разрывается у меня. Французы хуже варваров, а англичане в прихвостни попали».
С этим письмом директор департамента пошёл к Горчакову, который ознакомил с ним императора.
Александр II поручил выдать из казны 50 тысяч рублей для закупки хлеба и направить его пароходами из Одессы голодающим жителям Крита.
В пользу критян была объявлена подписка Славянским благотворительным комитетом.
В конце года Игнатьев поручает командиру корабля «Генерал-адмирал» капитану I ранга Ивану Ивановичу Бутакову зайти в какой-нибудь порт острова, будто бы по причине потери якоря или под предлогом непогоды, и начать вывозить страдающее население острова в Грецию. Позже посол получил на это санкцию из Петербурга.
Всего русскими судами было вывезено с острова более двадцати тысяч голодающих. В этом есть безусловная заслуга посла Игнатьева, проявившего находчивость и самостоятельность действий.
Но Европа на запрос Греции о помощи ответила молчанием.
Великий французский писатель Виктор Гюго 17 февраля 1867 года откликнулся на эти события страстной публицистикой. Он пишет «Ответ народу Крита», в котором обвинил правительства великих держав в «заговоре молчания»:
«Хотите знать, каково положение на Крите? – спрашивает он. – Вот некоторые факты.
Восстание не умерло. Оно подавлено в долинах, но держится в горах. Оно живо, оно взывает, оно молит о помощи.
Почему Крит восстал? Потому, что господь создал его прекраснейшей страной мира, а турки превратили его в несчастнейшую страну; потому, что на Крите все есть в изобилии и нет торговли, есть города и нет дорог, есть села и нет даже тропинок, есть гавани и нет причалов, есть реки и нет мостов, есть дети и нет школ, есть права и нет закона, есть солнце и нет света. При турках там царит ночь.
Крит восстал потому, что Крит – это Греция, а не Турция, потому, что иго чужеземца непереносимо, потому, что угнетатель, если он того же племени, что и угнетаемый, – омерзителен, а если он пришелец – ужасен; потому, что победитель, ломаным языком провозглашающий варварство в стране Этиарха и Миноса, – невозможен; потому, что и ты, Франция, восстала бы!
Крит восстал – и это прекрасно.
Что дало восстание? Сейчас скажу. По 3 января – четыре битвы, из которых три победы: Апокорона, Вафе, Кастель-Селино, и одно поражение: Аркадион! Остров рассечен восстанием надвое: одна половина его – во власти турок, другая – во власти греков. Линия военных действий идет от Скифо и Роколи к Кисамосу, к Лазити и доходит до Иерапетры. Шесть недель тому назад турки, оттесненные вглубь острова, удерживали лишь немногие селения на побережье и западный склон Псилоритийских гор с Амбелирсой. Стоило Европе в тот момент шевельнуть пальцем – и Крит был бы спасен. Но Европе было не до того. Тогда происходила пышная свадьба, и Европа любовалась балом.
Название «Аркадион» знают все, но что там произошло – мало кто знает. Вот подробности, правдивые и почти никому не известные. Шестнадцать тысяч турок напали на основанный Гераклием на горе Ида монастырь Аркадион, где находилось сто девяносто семь мужчин, триста сорок три женщины и множество детей. У турок – двадцать шесть пушек и две гаубицы, у греков – двести сорок ружей. Двое суток длится битва. Тысяча двести пушечных ядер изрешетили монастырь; одна из стен рушится, турки врываются в брешь; греки продолжают сражаться; сто пятьдесят ружей уже выбыли из строя, но еще шесть часов идёт жаркий бой в кельях и на лестницах, и во дворе лежат две тысячи трупов. Наконец последнее сопротивление сломлено; победители-турки наводняют монастырь. Остался лишь один забаррикадированный зал, где хранятся запасы пороха; в этом зале, у алтаря, посреди кучки женщин и детей, молится восьмидесятилетний старец, игумен Гавриил. Всюду вокруг турки убивают мужей и отцов; но если эти женщины и дети, заранее предназначенные для двух гаремов, останутся в живых – их ждет страшная участь. Дверь трещит под ударами топоров, она вот-вот рухнет. Старец берет с алтаря зажженную свечу, обводит глазами детей и женщин, подносит свечу к пороху – и спасает их. Вмешательство грозной силы – взрыв – приносит побежденным избавление, агония становится торжеством, и героический монастырь, сражавшийся как крепость, умирает как вулкан».
И далее писатель заявляет: «Монархи, одно слово могло бы спасти этот народ. Европе недолго сказать это слово. Скажите его! На что же вы годитесь, если вы не способны на это?
Нет! Они молчат – и хотят, чтобы все молчали. Выход из положения найден. О Крите запрещено говорить. Шесть-семь великих держав в заговоре против маленького народа. Каков этот заговор? Самый подлый из всех. Заговор молчания».
Эти обжигающие слова обличения в полной мере относились персонально и к маркизу Мустье. Потому что к тому времени он уже почти полгода занимал кресло министра иностранных дел Франции.
В России ширилось движение в поддержку населения острова. В январе в Петербурге на новогоднем балу в присутствии императорской семьи была организована лотерея «в пользу восставших кандиотов». На следующий день газеты опубликовали размеры собранных средств и обращение московского митрополита Филарета «ко всем православным России с призывом помочь кандиотам».
Горячую поддержку киприотам высказывали в своих публицистических статьях русские литераторы. Федор Иванович Тютчев опубликовал стихотворение, в котором писал:
Не в первый раз волнуется Восток,
Не в первый раз Христа там распинают,
И от креста луны поблекший рог
Щитом своим державы прикрывают.
Несётся клич: «Распни, распни его!
Предай опять на рабство и на муки!»
О Русь, ужель не слышишь эти звуки
И, как Пилат, свои умоешь руки?
Ведь эта кровь из сердца твоего!
События на Кипре, словно запал, взорвали ситуацию и в других провинциях Османской империи.
В Эпире и Фессалии, Албании и Сербии начали действовать вооружённые отряды.
Консул в Янине Ионин сообщал послу, что антитурецкое движение может охватить весь Балканский полуостров. В его обстоятельной записке содержались выводы о том, что не исключена возможность объединения сил Греции, Сербии и Черногории против Порты.
Сербия заключила договор с Черногорией и начала переговоры с Грецией о подготовке совместных выступлений против Турции.
«Пока христиане не усомнились в нашем могуществе, – делал вывод в своей записке консул, – следует спешить с разрешением Восточного вопроса».
Однако собранная Игнатьевым информация из других источников давала ему основания написать в сопроводительном письме к записке Ионина, что содержащиеся в ней выводы преувеличивают возможности объединения христианских народов на Балканах.
Аналогично оценивал ситуацию и Горчаков. Он считал завышенным оптимизм возможного объединения балканских христиан в тот момент. Одновременно канцлер ни на минуту не сомневался в том, что европейские страны всячески этому будут противодействовать.
Его комплексный анализ включал также и неготовность России активно выступить в защиту восставших народов на Балканах по причине незавершённости реформ и серьезных внутриэкономических проблем.
В этом духе Игнатьеву была направлена ориентировка Стремоухова с предупреждением о необходимости сдерживать «горячие головы», ибо без опоры на союзы с европейскими странами России это может грозить войной со всей Европой.
Строительство Суэцкого канала вынуждало Францию искать выгодного для себя решения Восточного вопроса. Беседы Мустье с Игнатьевым помогли ему лучше понять позицию России в отношении подвластных Турции христиан.
Пытаясь заручиться поддержкой своих интересов со стороны Петербурга, Мустье, уже в качестве министра иностранных дел, разработал проект реформ, который предусматривал оказание совместно с Россией содействия Турции при сохранении её целостности в проведении преобразований в христианских провинциях.
Этот проект Горчаков направляет Игнатьеву для того, чтобы посол высказал по нему свои соображения.
Николай Павлович ответил, что документ француза базируется на националистических идеях «младотурок» и «новых османов», предусматривающих ассимиляцию славянского населения или его «слияние», а фактически «поглощение» мусульманами. Проведение такой реформы было бы химерой. Поскольку она не учитывала реального положения дел и отвергала принцип национальной автономии. Предложения Мустье повторяли принятый турками указ, который называется хатт-и-хумаюн. Предлагаемое участие христианских народов в высших органах власти Османской империи не соответствовало количественному составу населения. Невозможно также, считал Игнатьев, формировать из христиан военные соединения, возглавляемые турецкими офицерами, и морскую службу под началом французов и англичан.
Николай Павлович прозондировал отношение других послов к проекту Мустье.
Чувство разочарования вызвало у него их единодушное согласие с французским проектом, а фактически – проявленную ими полную индифферентность к острейшей проблеме – к невыносимому положения христианских народов под гнётом турок.
Из этого Игнатьев сделал вывод, что послы получили соответствующие указания своих правительств.
Он сообщает в министерство, что рассчитывать на какое-либо содействие Англии, Австро-Венгрии, Германии и, разумеется, Франции в переговорах с турецкими властями не приходится.
Нужно сосредоточиться на том, чтобы постараться самим убедить турецкую сторону в необходимости самоуправления в провинциях. Местные органы власти должны формироваться на основе пропорционального представительства всех национальностей.
Одним из принципиальных моментов его предложений было восстановление православных и армянских церквей и создание болгарской церкви, а также обеспечение самостоятельности христианских школ и широкого участия христианского населения в судебной системе.
К своей записки в МИД Игнатьев для усиления аргументации приложил депешу консула в Адрианополе Константина Леонтьева, в которой выражалась надежда болгарского населения на помощь России в уравнении прав христиан с мусульманами.
Настойчивость Игнатьева возымела результат.
Под влиянием его информации Горчаков приходит к убеждению, что надежды на возможное взаимодействие с Францией по урегулированию вспыхнувшего конфликта между христианским населением и властями Турции оказались напрасными.
Светлейший князь приглашает к себе директора Азиатского департамента и диктует ему телеграмму послу в Константинополе.
– Мы слишком расходимся с Парижем в понимании сути реформ.
Канцлер сделал паузу. Дождался, когда Стремоухов закончит записывать за ним. Протёр батистовым платком стёкла пенсне и решительной интонацией, словно убеждал, как будто бы присутствующего при этом Николая Павловича, продолжил:
– У нас на первом плане – выгоды и будущность христиан, а у Франции – упрочение турецкого владычества, но исключительно под её влиянием.
Закончив диктовать, князь уже мягким тоном проговорил:
– Извольте направить депешу срочно с поручением послу провести переговоры с министром Фуад-пашой и твёрдо выразить позицию его императорского величества о необходимости эффективного, серьёзного и гарантированного улучшения положения христиан и обеспечения их безопасности, отмены репрессий, полного соблюдения законности и гуманности.
Раскланявшись, Петр Николаевич Стремоухов направился выполнять поручение Горчакова.
Он отметил про себя: «Князь по-прежнему не называет посла по имени и отчеству, ни его фамилии. Значит, он всё ещё продолжает опасаться его, как бы государь не назначил Игнатьева своим канцлером».
А такие опасения возникли у стареющего Александра Михайловича ещё в ту пору, когда Игнатьев был директором Азиатского департамента. Причём на эту должность он был назначен благодаря настоятельной просьбе самого Горчакова после триумфального успеха Игнатьева во время его миссии в Китае, где он в результате труднейших переговоров проявил блестящий талант дипломата и добился заключения Пекинского договора (ноябрь 1860 г.).
По этому договору были признаны заключенные двумя годами ранее Тяньцзиньский и Айгунский договоры между двумя государствами, урегулированы пограничные споры и к России навечно отошли земли на Дальнем Востоке, равные по площади четырём территориям Франции. Довольно скоро в новой должности Игнатьев проявил твёрдость характера, что не очень импонировало самолюбивому канцлеру.
Игнатьеву благоволил император, чьим крестником был Николай Павлович. Александр II считался с мнением Игнатьева, зная его беспредельную преданность трону, энергичность и умение находить убедительные аргументы в доказательстве своей позиции.
Особенно тревожно почувствовал себя Александр Михайлович, когда его обожгло змеиное жало сплетни об амурных связях с Надеждой Сергеевной Акинфовой. Вот тогда-то и покрывался он холодным потом и бегали по его телу мурашки от предательской мысли: «А вдруг государю однажды покажется, что ему нужен молодой и более решительный канцлер?»
Во время кратких наездов Игнатьева из Константинополя в Петербург для того, чтобы на родине провести свой отпуск, у Горчакова невольно полушутя, полусерьёзно вырывался вопрос:
– Не моё ли место вы приехали занимать?»
Игнатьев, как правило, остроумно возвращал ему шутку.
«Но кто знает, – думал князь, – как всё может повернуться?»
Для конфиденциальной беседы Игнатьев пригласил турецкого министра Мехмеда Фуад-пашу на обед в свою резиденцию в местечке Буюк-дере на берегу Босфора.
Вскоре после своего прибытия в Константинополь Николай Павлович произвёл капитальный ремонт главного здания посольства и резиденции посла.
Запрашивая средства на этот ремонт, он писал: «Российское дипломатическое представительство должно иметь подобающий великому государству вид».
За короткое время российское представительство преобразилось. Расширилась территория посольства за счёт купленного по соседству участка. Над главным зданием был надстроен этаж, где были оборудованы кабинеты для сотрудников. Столь же основательно удалось отремонтировать в стиле русского ампира двухэтажное здание резиденции. На её территории разбили красивый сад. Подобным комплексом не обладала ни одна иностранная миссия.
Игнатьев внешней стороне придавал немалое значение. Вот и сейчас он выезжал из посольства в резиденцию в красивой карете, запряжённой четвёркой аргамаков. На козлах восседал в своём красочном одеянии мощный Христо Карагёзов.
«Москов-паша», «Игнат-паша», – раздавалось в толпе горожан, с любопытством и восхищением наблюдавших за необычной картиной.
Всему Константинополю было известно, какое влияние приобрёл в турецкой столице российский посол благодаря своим добрым отношениям с султаном Абдул-Азизом.
Николай Павлович сумел расположить к себе падишаха с первой встречи. После торжественной речи и вручения верительных грамот он дал знак сопровождавшим его сотрудникам посольства преподнести от имени государя красивый чайный сервиз, изготовленный на императорском фарфоровом заводе.

Султан Абдул-Азиз
От себя лично он вручил картину известного российского художника-мариниста Айвазовского, которая произвела на Абдул-Азиза сильное впечатление.
– Я глубоко удовлетворён, – сказал султан, – что император России направил к нам послом такого известного политического деятеля. Выражаю благодарность за подарки и всегда буду рад быть вам полезным. Вы может без лишних формальностей и церемоний обращаться непосредственно ко мне.
Николай Павлович был приятно удивлён такой любезностью восточного монарха, его доброжелательным тоном, который располагал к доверительности.
– Позвольте заверить вас, ваше величество, – сказал он, – что я сделаю всё от меня зависящее, чтобы практической деятельностью помочь в осуществлении искреннего желания нашего государя, его императорского величества Александра II, открыть новую страницу в отношениях с Турцией и наладить взаимовыгодное торговое сотрудничество.
Игнатьев постарался закрепить наметившееся расположение к нему султана. Он вскоре пригласил его пожаловать на приём в посольство, организованный по случаю своей официальной аккредитации.
Султан удостоил приём своим посещением, что явилось полной неожиданностью для всего дипломатического корпуса и высшей аристократии Османской империи.
Случай беспрецедентный. Другие посольства не удостаивались такой чести.
На приёме падишах не сводил глаз с супруги посла, красавицы Екатерины Леонидовны. Она была дочерью князя Л.М. Голицына и правнучкой великого полководца М.И Кутузова.
На следующий день в посольство нарочным от султана был доставлен подарок – великолепное колье из бирюзовых звёздочек, обрамлённых бриллиантами. В сопроводительной записке на французском языке содержался изящный комплимент, посвящённый Екатерине Леонидовне.
Николай Павлович немедленно отреагировал благодарственным письмом монарху за щедрый подарок с изысканными словами признательности от имени Екатерины Леонидовны.
С тех пор в отношениях между Абдул-Азизом и Игнатьевым установилась столь впечатляющая доверительность, что высшие чиновники Великолепной Порты иногда даже обращались к российскому послу за содействием в продвижении их личных дел.
Игнатьев, осознавая меру в столь щепетильной сфере, действовал с присущими ему тактом и осторожностью.

Графиня Екатерина Игнатьева
Умение налаживать доверительные отношения с людьми, находящимися на различных ступенях государственной власти, с представителями разных социальных слоёв и сфер деятельности в государстве его аккредитации это – свидетельство профессионального искусства дипломата. Николай Павлович Игнатьев постиг его в совершенстве.
Такие отношения султана к главе российской дипломатической миссии не всем были по нраву, как среди представителей турецкой верхушки, так и иностранных посольств.
Кроме того, в Константинополе было немало польских эмигрантов, скрывавшихся от российского правосудия за преступления во время восстания 1863 года. Здесь функционировало польское агентство, преобразованное в так называемый Польский жонд (повстанческое национальное правительство – авт.). Вскоре его возглавил Тадеуш Окша-Ожеховский, получивший прозвище на турецкий манер «Окша-бей».
Власти Порты благосклонно относились к польской эмиграции. Военные с опытом получали титулы беев и пашей. У них были широкие связи в посольствах западных стран и в кругах, близких к власти, в этих странах.
Для турецких специальных служб они представляли практический интерес в проведении разного рода тайных операций.
Игнатьев через верных ему людей сумел получить документы из архива польской эмиграции, находящейся в Турции. Среди них оказались тексты поддельных англо-французского и русско-турецкого договоров, изготовленных агентами Окша-бея. Николай Павлович представил их великому визирю Турции.
Окша-бея выслали из Константинополя. Но через своих подручных он продолжал строить козни против русского посла.
Однажды на Игнатьева было совершено покушение. При выходе из театра на него напали несколько человек. Но чётко сработали Христо Карагёзов и четверо охранников-черногорцев. Николай Павлович не пострадал. Его обращение к турецким властям с требованием провести расследование этого преступления не дали результатов. Кто его организовал, так и осталось неизвестным.
Читатели, конечно, помнят, что уже в наши дни в результате террористического нападения погиб российский посол в Турции Андрей Карлов.
После попытки покушения на Николая Павловича его супруга Екатерина Леонидовна пригласила Христо Карагёзова на разговор:
– Благодарю вас, Христо, за вашу бдительность.
Она попросила принять подарок его супруге Елене.
– Вы можете дать мне слово, Христо, что и впредь будете столь же внимательны, и ни один злоумышленник не сможет причинить вреда Николаю Павловичу?
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+18
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе