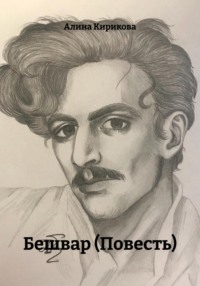Читать книгу: «Бешвар (Повесть)»
Бешвар
Пребывая в забытьи в тот день, когда началась первая глава моей жизни, я, двадцатипятилетний молодой человек, шел у пруда, смотрел под ноги и о чем-то бесконечно думал. Одна мысль сменялась другою с грязным непостоянством. Все мешалось в серый ком, оставшийся после жизни в Европе. Ком этот выглядел точно так, как снежная баба, слепленная по первому снегу в ноябре: тело ее и голова были запятнаны землей, гнилыми листьями, желтой травою и истлевшими прутьями. «Что же теперь делать, куда податься? Связи прервал, не служу, кругом решительно ничего и никого, последние деньги спустил заграницей. Гол как сокол!» – размышлял я. – «Надо бы взяться за дело какое-нибудь, что ли, иначе растрачу последние гроши. Только за какое дело? Мир и без меня переполнен всевозможными идеями, которые меж тем друг друга повторяют, а новое скажешь – удушат. Жениться тоже пристало, да на ком, ежели я никого не любил и не люблю?».
– Это же Сергей Романов! Серж, идите сюда! – закричали голоса, заставив меня обернуться.
К берегу причалила лодка, в ней сидели давние знакомые: Никита Малютин, Семеоновский, Тамара Несвицкая и Фирсова. С ними я дружил первые годы пребывания в Петербурге, когда еще состоял при училище. Ну как дружил, скорее, только думал, что дружу. То ли сельское воспитание повлияло, то ли бабушкина любовь, то ли свойства души, но вырос я в плане дружбы глубоко наивным человеком, поэтому всякий новый знакомый жадно становился мне другом. Отсюда и следствие – впервые оказавшись в светском салоне, до которого все пытался дорваться, всецело отдался столичным лицам. Как слепой дикарь, я не знал, что такое хорошо, что плохо, дозволял петербургскому кругу вести себя со мною, как будет угодно – это и было мне куском черствой дружбы. Стоит сделать оговорку, одного человека я знал давно и сразу – Тамару. К столичному кругу она от рождения имела положительные свойства. Ее взяли в свои тотчас, чуть она показала превосходные способности к лицемерию, которым так дорожат в свете. Итак, несмотря на плохое расставание, на лице моем прорезалась ностальгическая улыбка по минувшему, как будто в нем было что-то пригожее; я смело залез в лодку.
– Романов, каковы вы теперь, а! Заметно поправились! Женились, что ли? – утягивая меня, веселилась Фирсова. – Или вы то же, что Семеоновский, – отъедаетесь на покое да по армии тоскуете?
– Да, к слову, теперь на отдыхе, – заводя руки за голову, растянулся Семеоновский, передавая мне весла. – Вы, Сергей Георгиевич, видно не собираетесь восстанавливаться, раз усы еще не отрастили?
– Во Франции не модно усы носить, пытался соответствовать, – отвечал я, отвлекаясь на задумчиво улыбающегося Малютина. – А вы как, Никита? Не молчите.
– А я, Серж, безвылазно в городе живу, чиновничаю в состоянии предобморочном. Помогаю отцу писать законы. Приехал к матери на недельку, – отвечал Малютин. – Однако, как удачно совпал наш с вами приезд! Надо будет вспомнить прошедшее, пропустить партишку. Мне не с кем досуг проводить, а вы, помнится, хорошо в карты играли…
Я почему-то промолчал, не нашел, что сказать. Тамара упорно строила из себя равнодушную, глядела то в одну сторону, то в другую, теребила веер, но, заметив мою улыбку и то, что я обличил для себя ее чувства, прорвалась:
– Еще не устроила вас бабуся? – фыркнула она.
Тут Семеоновскому да Малютину чего-то стало смешно, и я начал жалеть о том, что сел в злополучную лодку и взялся грести. Грустные воспоминания и прошлые обиды всколыхнулись в моем сердце, как подымается ил, если на дно сквозь спокойную и чистую воду опускается камень.
– Я только что вернулся. Мы давно не виделись, – выдал я.
– Бедная ваша бабуся! – пальнула Несвицкая. – А я-то думаю, чего она со мною и маменькою неприветлива, оказывается, внук у нее бестолочь: нервы трепет, везде катается и ничего не делает!
– Как вам в Европах, хороши школы? – наскоро внедрилась Фирсова, чтобы потушить пыл Тамары.
– Печально в Европах. Не нашел в ней того, за что все детство меня заставляли ее любить. Зря только время тратил на заграничные языки. Зато повстречал любопытных соотечественников, которые мнят из себя чистокровных французов, считая все русское варварским отродьем. Это хорошенько меня встряхнуло и разрешило многие вопросы, – высказался я. – Школы тоже неважные. Право слова, у нас учат намного лучше. Я удивлен, что все расхваливают Европу, когда хвалить ее стыдно.
– Если вы хотите быть принятым в обществе, Сергей Георгиевич, французский вам необходим, как и европейские школы! – яро проскрежетала Несвицкая.
– Кому именно необходим? Голицыну, Нарышкину, кому? Считаю, что русский человек должен знать прежде всего свой язык и свое отечество, – спокойно отвечал я.
Все, кроме Тамары, напряженно затихли.
– Что же хотите сказать, вы своему не учились? – раздражалась Несвицкая, вздергивая головою.
– Хочу сказать, что наши школы не учат любить русскую словесность, не помогают постигать нашу культуру, нашу историю, именно нашу, а не чью-нибудь, потому что преподаватели, в большинстве своем, немцы, швейцарцы или, на худой конец, французы. А если уж ни то и ни другое, то у всякого существует тетушка, расхваливающая Европу сверху до низу. Чему такие учителя или тетушки могут научить русского человека?
– Мирок ваш резко ограничится, если вы будете почитать только наше, – завершающим аккордом перебила Тамара.
– Как мы начали этот разговор? – закрывая уши, пикнула Фирсова. – Друзья, не бранитесь, пожалуйста!
Несвицкая была мне как младшая сестра, с детства я любил ее донимать, поэтому и теперь хотел, чтобы последнее слово непременно осталось за мною.
– Мы и не бранимся. Во-первых, Тамара Викторовна, я не говорил, что нужно забыть об остальном мире, кроме русского, во-вторых, заграница пагубно влияет на молодую неокрепшую душу, которая не сама выбирает путь, а идет строго по тому, какой маменька с папенькой выдумали. Мы с вами росли обольщенными, но обольщение это началось задолго до нашего с вами рождения. До Петра первого русский народ и думать не думал, что заграничное лучше своего. А теперь что? Народ стыдится своей культуры, на русском пишет с дичайшими ошибками, платья носит французские.
– Сами-то сидите в английском костюме! Что ж не в косоворотке и с картузом?! Так что извините, Сергей Георгиевич, но довольно. Вам надо с г-ном Хомяковым познакомиться, он представитель таких же глупостей, что и вы. Как бишь он называет-то себя? А! Славянолюбом! Вот вам туда же, – остановила Несвицкая и показательно отвлеклась на Малютина. – К слову, забыла рассказать, Никита! Представьте себе, Алексей Степанович целый час городил моей матушке то же самое, что и наш Романов, довел ее до приступа. Нет, чтобы вовремя замолчать, все-таки говорил с дамой, правда? Он планомерно заставлял ее уверовать…
– Уверовать в то, к чему она была не готова потому, что с рожденья ей внушали любовь к загранице, будто там воздух пахнет духами, и птицы распевают оперные песни. Все мы жертвы этих убеждений, Тамара Викторовна. Только стоило бы всем нам понять уже сейчас, что эдакая методика воспитания чревата тем, что в стране начнут рождаться дети без отечества, полурóдные, русские полурусские, которые будут до конца дней мучиться неприкаянностью на Родине и на чужбине одинаково: в России им будет не хватать заграницы, а заграницей – России. Не злитесь, прелестная Тамара, я не провоцирую вас, вы просто не способны меня понять, потому что никогда не жили там, как я жил. Вы отдыхали, не пересекались с простыми жителями, не ютились с ними в одной комнате. Между отдыхом и жизнью огромная разница. Вспомните, Тамара Викторовна, до некоторых пор я вас поддерживал в суждениях, но все потому, что в Европе отдыхал. Теперь наши мнения различны, потому что мои розовые очки треснули – я там жил. Вам тамошняя жизнь неизвестна. Вы видели только наружную картинку, она вам красива, но эта картинка всего-навсего искусно нарисованная декорация, за которой прячется грязь. А насчет платья не удивляйтесь, мы – продукт нашего времени; я в английском, вы во французском, шляпку вам вовсе шил немец Брахман. В том-то и дело, что своего в нашей стране даже не пошить, а если пошьешь, то только картуз на маскерад.
– Славянолюбы, видно, заражены общей болезнью, и называется она невежеством! Вы говорите с дамой, умейте замолчать вовремя.
– Господа, умоляю! – зажмурилась Фирсова.
– Кроме того, что вы дама, у вас больше нет аргументов? – усмехнулся я, Малютин тоже хихикнул.
Несвицкая думала осыпать меня замечаниями, но шляпа, унесенная порывом ветра, смешала ей замыслы. «Брахман!» – только-то успела выкрикнуть Тамара, имя мастера прозвучало у ней ругательством. В то же время небосвод заполонило тучами. Налетел и ветер, разнося угрожающие раскаты грома; ливень не заставил себя ждать. Иногда переходящий в град, он хлынул, точно где-то на небесах прорвало плотину. Оказавшись на берегу, мы бросились к дому Семеоновского – он жил ближе всех. Пока четверня кушала чай, отогревалась под пледами и не желала продолжать со мною бывший диалог, а потому молчала, я пребывал на террасе, окна которой были раскрыты настежь. Иногда высовывал руку, принимая к коже дождь, иногда разглядывал ладонь, наблюдая за тем, как небесные слезы растекаются по ней, оставляя влажные следы. Порою ветер задувал мне в спину, по коже пробегали мурашки. Пахло сыростью старых половиц и измокшей землей. Вдохновившись, я обтер мокрую руку о фрак и, вынув маленький альбомчик да обломок карандаша, почти до конца истертый, принялся записывать новое стихотворение.
Только дочиркал, как откуда ни возьмись выпрыгнула Несвицкая и, выхватив книжечку, затрепыхав ею, побежала к остальным. В гостиной она принялась громко и весело читать стихи, но стоило мне попытаться отобрать свои произведения, альбом полетел в следующие руки. Так я и бегал по кругу, как косолапый щенок, пока не встал в стороне. Заметив, что перестал бегать, Несвицкая сделала злобную мину и швырнула книжку в камин. Вне себя я метнулся к огню и, вытащив кочергою дрова, а вместе с ними и альбом, сунул руку да заплевал, задул, зажал горящее местечко. Пальцы мои несколько обгорели и покраснели, а ногти почернели. Когда тление остановилось, я веером пролистнул страницы и, к счастью своему, обнаружил, что поэзию удалось спасти. Двумя ладонями прижав к сердцу маленький альбом, я закрыл глаза. Руки мои продолжало жечь, голова обливалась потом. Чувствовал себя так, будто вот-вот чуть не потерял своего единственного родного человека.
– Это же просто стишки, Романов! – отмахиваясь от дыма опаленного ковра, кашляла Несвицкая наперебой с Фирсовой.
– Турецкий заказной ковер испортили! Что вы натворили? Чуть нас не подожгли! – бурчал Семеоновский, закрывая нос платком.
– Да лучше бы вы сгорели! Вы что не понимаете, сколько трудов мне стоило заполнять эту книжку? – выпалил я, слезы сами собою прыснули из моих глаз и размазали лица, интерьеры и свечи, все слилось в неразличимую мазню.
Пробормотав что-то, я бросился из гостиной и выбежал на улицу. Ливень шел стеною, молнии тянулись к земле и разрывали небо оглушительным грохотом. «Романов, вернитесь! Простите нас!» – кричали мне сзади. Скоро голоса четверни омрачились, постепенно угасли. Они смотрели мне вслед и молчали до тех пор, пока я не растворился в дожде. Почти сразу ноги мои совершенно промокли из-за давнишней дырки в подошве. Но я не замечал ничего. Мне было тяжко и грустно.
Уже у себя на даче, сидя мокрый, оплеванный тучами, я бесцельно смотрел перед собою, задавался извечным вопросом: почему? Не понимал, за что со мною так обходятся всю жизнь, за что издеваются и ненавидят. Причем, если претворялся глупым и добрым, меня одинаково не любили, как если был резок и груб. Порвавшись с места, я встал, суетно походил по неосвещенным комнатам, закрыл окна и положил собираться. Мне было страшно показаться бабушке, я не знал, как сказать ей, что предал ее мечту о Европе, что приехал в Россию насовсем, а не на короткий период. Уложив в чемодан перво-наперво попавшееся, наскоро переодевшись, я выехал из Павловска.
Дорогой вслушивался в скрип колес и цокот тройки. Ночь была синей, туманной, она застилала проносящиеся мимо окон пейзажи, внедрялась во встречные ветхие дома. Выделялось в черноте только развешенное на веревке белье белого цвета, но и то обливалось темной голубизною, становилось призраком, не желающим, чтоб проезжий узнал в нем знакомое. Моя жизнь была тем же призрачным бельем на веревке, так же подо что-то маскировалась, но все-таки была видна – тем грустнее становилось на нее смотреть. Спать в экипаже было неудобно, я никак не мог понять, почему одежда жмет в груди и плечах. Только с рассветом заметил, что в спешке оделся в старый мундир поручика. Своего рода перепутанный костюм был знаком, что я, как мужчина, не вырос статусом и на толику. Сказать, что страдало самолюбие? Понимал, что если у меня появится возлюбленная, то нечего будет ей дать, что в глазах любой матери я выходил бы очень невыгодным голодранцем с европейским образованием. Можно было бы, конечно, выехать на уме, но романтичных до бедности девушек, тем более мам девушек, в природе нет.
Отдыхать лакей прикатил в Руссу. Город меня явно не принял, нелюбовь демонстрировал с большою охотой. К моему приезду даже самые захудалые постоялые дворы набились гостями битком, лавки и прочее подобное заколотились досками, а одна единственная ресторация сгорела. Но делать было нечего, лошадям стоило отстояться, так что проторчал на улице, к прискорбию Руссы, четыре лишних часа, шатаясь бродягой. Даже на воды не попал в лечебницу. Меня не пустили потому, что я, как выразились на карауле, странного вида и распугаю девиц с их мамашами, которые именно в тот день всем городом собрались в парке.
– Вы знаете, всяко меня оскорбляли, но никто еще не говорил, что лицом не вышел, – возмущался я, пока мимо меня проходила толпа дам с кружечками для воды.
– То-то и оно, что вышли. Не пущу и все! Сначала приезжают всякие, а у нас потом дуэли, потом разборки, потом нас наказывают! Уходите, – отвечал мне красный воротничок у ворот, но я не двигался с места уже из принципа. – Смотри на него! Пристава сейчас позову! Извольте представиться, сударь!
– Романов Сергей Георгиевич, – ухмыляясь, ответил я, наверняка зная, что моя фамилия произведет эффект. – Зовите хоть городничего!
Красный воротничок как стоял, так и упал сплошняком на спину. Другой же, подскочив к нам, принялся передо мною извиняться, пропускал в парк, но я, раскланявшись, задрал нос и ушел. Сначала меня забавляла сложившаяся ситуация, потом стало скверно оттого, что я со скуки стал радоваться глупостям.
Следуя по обрывистой набережной, понурив голову, я скучал от одиночества, сочинял рядом с собою прекрасную компаньонку. Сперва выдуманная девушка радовала меня, потом стала досаждать тем, что каждый раз, только я возвращался в реальность, она исчезала. Тоненький, безвольный ветерок обдувал мне лицо и гладил по голове. Невдалеке звенел церковный колокол. Я остановился, поднял взор на купола. Стаи птиц кружились над золотыми крестами. Задумав перекреститься, сделал это только мысленно. Душа моя тяжелела нестерпимо, я был опустошен, как битый сосуд: ни во что не верил, ничего не хотел, не мог как следует печалиться, уж тем более не думал и радоваться. Старушка, просящая милостыню у врат храма, откуда раздавалось чистое многоголосое пение и запах лилий, с интересом глядела на меня. Она видела, что денег ей не дам, потому что самому лишь бы хватило. Было в ее взгляде что-то понятливое, но не доброе, а злорадственное: «холеный домашний кот вдруг стал оборванцем», – думала она и улыбалась.
Ночевать остановился не в Твери, а в Торжке у Пожарских, заодно знаменитых котлет отведал. Началось с одной, закончилось тремя, поэтому ко сну вышел на променад. Торжок полюбился моему сердцу. Улицы его были пустынны, смирны, томно придавались пению птиц. Некоторые дома Торжка были огорожены забором, некоторые стояли просто: в гуще кустарников и желтых деревьев. Местные жители между собою были очень дружны: где-то соседи собрались на ужин, где-то встали за забором вести разговор о делах насущных. За одной торжокской семьей я даже подглядел. Все сидели в кружевной столовой, озаренной множеством свечей, были дружны и веселы. Толстый мещанин, глава семейства, пил наливку и балагурил с другим мужчиною, бас его раздавался раскатистым громом. Полная баба ухаживала за остальными, молодые девушки шушукались, дети баловались и хохотали. Я завидовал им, тоже хотелось быть дружным с кем-нибудь, сидеть за большим столом, желал большую крепкую семью. Мне не хватало той прежней простоты, в которой я вырос, не хватало гостей. Хотя принимать никогда не любил, но общность помогала мне чувствовать, что вокруг меня есть хоть кто-то, кто всплакнет, если я вдруг умру. Как сейчас помню, родственники, соседи и друзья каждую субботу собирались в нашем с бабушкой поместье за общим столом. Шум-гам стоял сумасшедший, всем было чего-то весело. Один мой дядя постоянно курил, стоя у пруда и наблюдая за плещущимися сыновьями, другой пил и временами выдавал философские мысли. Вот этот второй дядя был рыжеват, имел длинные усы и бакенбарды, которые постоянно чесал. Жизнь свою тот посвятил математическим наукам, думал, что выйдет из него ученый, но вышел только умный пьяница; я любил с ним потолковать вечерами, он один понимал мою тонкую натуру. И вот, некоторые из ранее собиравшихся умерли, другие переругались. Семья наша разрослась, но больше никто ни с кем никогда не соберется.
Вернувшись к Пожарским, я испросил чаю и, пока он готовился, бродил по коридорам, рассматривал картины. Ноги вывели меня в общий кулуар, где я встретил барышню двадцати лет, она перебирала бруснику, разделяя ее на чистую и на грязную.
– Добрый вечер, – проявился я.
Девушка безучастно на меня посмотрела и вновь занялась прежним делом. Не скажу, что было приятно перетерпеть неуважительное отношение к себе, но уже так привык к этому, что просто решил уйти. С укоризною посмотрев на барышню, поймав еще один взгляд ее, я развернулся, но она остановила: опередила и выдвинулась поперек дороги.
– Простите, милостивый государь! Я думала-думала, а тут вы вошли, и мне показалось, что поздоровалась с вами, а потом очнулась… – суетилась она. – Если не поздоровалась, простите мне эту выходку, не желала оскорбить вас! У меня часто такое бывает, что задумываюсь и…
– Не беспокойтесь, понимаю вас. Сам знаю, что значит никого не видеть и не слышать, когда о чем-то думаешь, – отвечал я. – Разрешите представиться, имя мое Сергей Георгиевич.
– Антонина Сергеевна. Очень приятно, – произнесла барышня, пожимая мне руку. – Ой! Замарала вас ягодой! Весь день кувырком! То все рассыпалось, то с вами не поздоровалась, еще и замарала. Сегодня не мой день, определенно!
– Давайте помогу вам ягоду перебрать? Заняться здесь нечем, – предложил я, усаживаясь на табуретку.
– Да что вы, не стоит! – останавливала Антонина, но увидав, что я уже принялся за ягоду, присмирела и приземлилась на прежнее место.
Так мы с барышней начали говорить. Я узнал, что она возвращалась из Твери в Петербург, что по дороге у нее сломался экипаж, что пока она, поймав попутчика, ездила за помощью в Торжок, ее ограбили. Несмотря на заданную тему, беседа наша была легка, без напряжения, какое бывает в разговоре с малознакомыми людьми. Когда незатейливый диалог прервался, я украдкой поглядел на Антонину. Наши взгляды пересеклись. В первый раз в жизни я ощутил, что душа моя затрепетала. Волнение охватило такое, что невольно замер. Барышня не выдержала моего взгляда, покраснела и отворотилась. Грудь ее тяжело вздымалась, корсет скрипел.
– Вы прелестны, Антонина Сергеевна, – смущенно произнес я.
Барышня думала ответить, стыдливо поворотилась, но появившийся сухой старик смешал ей замыслы. Он был богат, но неопрятен, весь в каких-то сдобных крошках и трухе сгоревшего табака. Барышня с его появлением вскочила и сделала порывистый жест рукою, как будто желала стряхнуть что-то.
– Вы кто еще такой?! Антонина, опять ты нацепила кого-то! – с претензией тарахтел старик.
– Князь Сергей Георгиевич, – поднявшись, представился я.
– Вижу, вы поручик! – злобно проскрежетал старик, будто в моем звании таилось что-то невообразимо для него оскорбительное. – Антонина, молчишь?! Ягоду перебрала, спрашиваю?
– Почти, Федор Федорович. Принесу вам, как закончу, – обронила барышня.
– Вижу, что ты тут заканчиваешь! – вспылил старик и, шаркнув ногой, заторопился назад.
Не выдержав, Антонина заплакала и, прижав обмаранные ягодой пальчики к лицу, ушла в угол. Не мешкая, я усадил барышню на прежнее место и, поставив перед нами таз с водою, отнял ее ручки да с всею заботою принялся отмывать их от ягоды. Недолго Антонина еще всхлипывала, но вскоре отвлеклась и стала наблюдать за мною.
– Еще на лице наверно, – улыбалась барышня.
– Совсем нет, – внимательно осмотрев милое личико с ямочками на щеках, заверил я. – Строгий у вас дедушка. Вы не обижайтесь на него, к старости мы все становимся невыносимы.
– Это мой муж, – понурив голову, призналась Антонина и снова заплакала, я жалеючи обнял ее.
Так мы просидели до тех пор, пока барышня совсем не успокоилась. За это время нам принесли чаю, который просил давным-давно. Пили его в кристальной тишине. Антонина сильно стеснялась, изо всех сил старалась не глядеть на меня, но тем ценнее становился мне каждый взор ее. Немного погодя барышня вспомнила, что должна была унести своему престарелому мужу ягоду и, поднявшись, стыдливо поклонившись, заторопилась с блюдцем вниз. Пока Антонины не было, я подошел к зеркалу, причесал пальцами кудри, развязал шейный платок, а сев на место, съел мяты из чая. Посидев чуть-чуть, я подскочил и стал искать что-нибудь занимательное к приходу барышни. За комодом стояла старая гитара. Взяв ее, я перебрал струны, парой аккордов проверяя настрой. Послышались шаги: «идет!» – подумал я, весь трепеща от счастья.
– Барин, вы не засиживайтесь, – пришла г-жа Пожарская со слугой, который внес нам железный чайничек чаю и забрал пустой фарфоровый. – Конечно, все понимаю – муж у нее старый, но наглеть-то тоже не надо.
– Договорились, – покраснел я.
– Ох ты ж Бог мой, а горите-то пламенем! – по-доброму подстегнула г-жа Пожарская. – Давайте-ка, барин, закругляйтесь. Вы выглядите умным, вот и поступайте умно. Она-то ладно девица, все мы бабы глупые, но вы-то другое дело. Сворачивайтесь, я спать.
– Дарья Евдокимовна, подождите! Мы ягоду перебирали, осталась порченая. Прикажите, чтоб ее высыпали птицам.
– Ничего себе птицам! Не жирно им, птицам-то, кушать ягоду? – забухтела г-жа Пожарская, собирая в газетку просыпанное. – Сделаю наливку, все равно давить!
Сразу, как ушла Дарья Евдокимовна, ко мне вернулась Антонина. Она подправила прическу, накинула на себя синий платок с красными лилиями, который к ней очень шел, и надухарилась. На гитаре хотел играть я, но барышня попросила инструмент себе. Хоть извлекаемая мелодия состояла из простых аккордов, а романс не был замысловат, слушал я с упоением, даже сентиментально прослезился, отворотив притом голову, чтоб Антонина не заметила.
– Вы плачете!.. – с тихим восторгом произнесла она. – Как вы чудесны, Сергей Георгиевич, как чувственны!
– Нет, просто плакса, – отшутился я, утерев нелепую слезу.
– Не наговаривайте! – тепло улыбалась барышня, уместив ручку на моем плече. – Какие у вас глаза, Сергей Георгиевич…
– Мы уже породнились, называйте меня просто: Женя, – тоже заулыбался я, заглядываясь на Антонину.
– Тогда меня зовите Ниной, – смутилась она и обыкновенно покраснела. – У вас такие глубокие глаза, Женечка, такие большие, глубокие, как океан. Но вы грустны, и глаза ваши печальны. Заметила, что вы, кажется, редко улыбаетесь.
– Говорю же, я плакса, – вновь отшутился я.
– Вы, должно быть, писатель? Такие чувственные натуры всегда писатели, – предположила барышня. – Если пишете, то послушала бы что-нибудь.
Долго я упирался, не хотел вставать с дивана, но Нина вытолкала меня за стихами. Когда принес в кулуар свою обгоревшую книжечку и начал читать, то ожидаемо довел барышню до слез.
– Вот и вас сделал несчастной, – обнявшись с Ниной, прошептал я. – Говорил же, не надо сочинений.
– Надо, очень надо! Как вы пишете, как вы одарены! – рыдала барышня. – Напишите в мой альбом! Пожалуйста, Сереженька, хотя бы маленькое стихотвореньице!
Сбегав в комнату, Нина принесла бархатный альбомчик, куда я начиркал два сочинения: давнишнее и мадригал, вот-вот придуманный на диване. Второе стихотворение попросил ее не читать при мне, а только перед сном; стеснялся, что мои чувства, которым на бумаге дал волю вполне, неправильно поймут.
– Господа, совесть имейте. Два часа ночи, – вышла к нам г-жа Пожарская. – Спать, пожалуйста. На вас уже жалуются. Говорят, шумите.
На этом пришлось расходиться. Наши с Антониной комнаты были напротив. Прощаясь в коридоре, мы обнялись, простояв так, прижавшись друг к другу, довольно долго. От Антонины пахло сладко – лилиями, да и она сама как будто была этим цветком. Лишь едва прижимая Нину к себе, я боялся, что ненароком покалечу ее хрупкость и нежность. Она была столь изящна, что любое неверное движение, казалось, могло повредить ее хрустальному телу, расписанному бирюзовыми арабесками вен. Плечики ее аккуратно умещались в моей ладони. Она была высшим творением Бога, я не мог ею налюбоваться.
Уснуть так и не смог, все переживал насчет мадригала в альбоме. В конце концов довел себя до того, что решил не являться на завтраки, утром отослав хозяйке записку с прошением о продлении комнаты, сбежал на рыбалку. Пока сидел с удочкой, вокруг меня шумели сухие камыши и прощающиеся с бабьим летом птицы. Наслаждаясь ласковыми дуновениями ветра, я вспоминал искусное лицо Нины, но чем больше думал о ней, тем сильнее страшился возвращаться. На ужин не явился; ушел на прогулку, по дороге найдя чайную, где скушал кофе и персиковый пирог. Ночевать, конечно, вернулся к Пожарским, хотя до последнего оттягивал этот момент, даже закат проводил до полного его исчезновения. Прокравшись в гостиницу, как вор, а затем и к себе в комнату, я вслушался в звуки пространства: было смирно. Небо обсыпало звездами и, глядя на них, я вновь задумывался о возлюбленной – тончайший месяц напоминал мне бровки Нины, а тишина ночи ее кротость и непоколебимое спокойствие. Вызвав слугу, я спросил об Антонине и ее старом муже, он мне ответил, что те отбыли сразу после завтрака. «Уехала… ну и славно!» – еще больше загрустил я, просив себе чая в кулуар, где сидел вчера. Затушив все свечи, кроме одной, я придвинул кресло ближе к окну. «Лучше бы задушил ее своею любовью, чем так глупо поступил… И зачем, спрашивается, убежал от нее?» – думал я. Кулуар, казалось, еще хранил лилиевый запах Антонины. Недолго аромат этот был неуловим, лишь едва щекотал мне сердце, но в некий момент усилился и, подкравшись сзади, тоненькими пальчиками закрыл мне глаза.
– Нина! – воскликнул я, подпрыгнув с места.
– Тш-ш! – улыбнулась она, шикнув мне; я бросился ее обнимать.
– Господи, что творится? Так рад вам, Нина, будто не видел вас два столетия, а между тем мы знакомы-то с вами один только вечер и не виделись лишь день! Как вы, милая? Признаться, я такой глупый: сбежал утром, потому что думал, что вас разозлит мой мадригал! И вообще, я думал, что вы уехали навсегда!.. О, как рад вам! Сидел тут, укорял себя, что просто так вас отпустил! А вы не уехали, вы вернулись!
– Как вы милы, Женечка, как открыты, чисты и прямолинейны! Вы настоящий ребенок, все мне с участием рассказали! – улыбаясь на меня и обнимая, произносила барышня. – Как же могу злиться на вас за вашу симпатию? На такое светлое чувство не обижаются, его ценят!
– Бог со мной! Рассказывайте, Нина, где вы были! Хочу знать все! – радовался я, отводя нас на диван.
Пока волновался, задыхался от счастья видеть, прикасаться к барышне, глядеть на нее, она с девственной стыдливостью бегала по лицу моему очами, изредка заглядывая прямо в глаза. Антонина рассказала, как ездила с мужем за подарками для его сына и ее маменьки, как все время думала обо мне и скучала. Стоило барышне договорить, в отражении стеклянных дверей показался огонек, который хоть и с раскачкою, хоть и с шарканьем, но медленно и верно приближался к нам. Подскочив, Нина скользнула за книжный шкаф, а я торопливо уселся на прежнее место у окна и взял остывший чай. Покряхтев для привлечения внимания, шаркнув ногою, престарелый муж Нины все-таки обратился ко мне.
– Поручик! – процедил Федор Федорович. – Где моя жена?!
– Разве вы с женой приехали? – как бы удивился я, оборачиваясь.
– А тебя не научили вставать, когда со старшими говоришь?! – вновь зашипел старик; я поднялся и, отставив кружку, заложил руки за спину. – Где Антонина?!
– Ах, правнучка ваша!.. Откуда мне-то знать?
– Правнучка?! – брызнул слюной старик. – Наглец!
– Простите? – издевался я.
– Ты сказал: правнучка! – зверел Федор Федорович.
– Внучка, я сказал! – наигранно выдвинул я.
Нина чуть не выдала себя, некстати хихикнув, но глухой старик не услышал и дернулся к ее комнате. Не отперев дверь супруги, Федор Федорович злобно зыркнул на меня своими острыми глазенками и зашаркал к лестнице, там и вниз. Выведя Нину из-за угла, я отвел ее в свой нумер, который делился на три части: гостиную, спальню и кабинет. Гостиная была первой, в ней находились четыре кресла, круглый стол, разные шкафчики, натюрморты и букет сухостоя. Поначалу Антонина стеснялась быть у меня, но вскоре, убедившись в моем благонравном настрое, расслабилась. Муж ее нас больше не беспокоил, мы проговорили всю ночь. Так я узнал подробности брака Нины со стариком. «Нас три сестры, первые вышли замуж неудачно – муж старшей вдребезги проигрался, муж средней, Наденьки, запил. Еще у нас умер отец, долго мы жили на его состояние, но однажды все закончилось… Федор Федорович был другом моего отца и часто помогал деньгами. Мне пришлось выйти за него, иначе мы бы по миру пошли», – рассказывала Нина. В остальном я не слушал свою барышню, а любовался ею. «Если она что-нибудь теперь у меня спросит, ведь не отвечу ни на один вопрос. Словно пьянею, глядя на нее», – все время проулыбался я. Но и она, когда наступала моя очередь говорить, моргала осоловелыми глазками бездумно, любуясь то моими руками, то волосами, по-прежнему избегая прямого взгляда. Я только тогда получал ее взор, когда нагибался и нарочно подлавливал. Что-то особенное было в нашей чувственной игре. Безмолвные уговоры, ласка без прикосновения будоражили душу, как самые горячие поцелуи.
Начислим
+9
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе