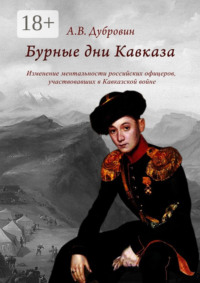Читать книгу: «Бурные дни Кавказа. Изменение ментальности российских офицеров, участвовавших в Кавказской войне», страница 4
Немалое значение в «пропаганде» Кавказа сыграла поэзия А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. А. Бестужева-Марлинского и других поэтов участников или очевидцев войны. Военный историк и участник Кавказской войны А. Л. Зиссерман дает типичное для многих объяснение выбора места службы в Кавказском корпусе: «Не стану распространяться об энтузиазме, с каким я восхищался Аммалат-Беком, Мулла-Нуром и другими очерками Кавказа; довольно сказать, что чтение это родило во мне мысль бросить все и лететь на Кавказ, в эту обетованную землю, с ее грозною природой, воинственными обитателями, чудными женщинами, поэтическим небом, высокими, вечно покрытыми снегом горами и прочими прелестями, неминуемо воспламеняющими воображение»116.
Кавказский корпус выглядел весьма привлекательно и с материальной точки зрения. Огромное и слабо контролируемое финансирование военных расходов создавали благоприятные возможности для казнокрадства. Неудивительно, что желающих отправиться на Кавказ было больше, чем возможных мест, поэтому в войсках часто появлялись спекуляции, а офицеры даже бросали жребий117.
Вместе с тем, многие попадали на Кавказ не по доброй воле. В начале XIX в. Кавказ заслужил неофициальный титул «теплой Сибири». Сюда ссылали декабристов, участников польских восстаний, военнопленных и прочих провинившихся. Были случаи, когда за ослушание ссылались целые подразделения118.
Главным ссыльным местом являлось черноморское побережье, но офицеров здесь все равно не хватало, поэтому правительство предоставляло желающим добровольно отправиться в черноморские укрепления различные преимущества и льготы: увеличение выслуги лет, жалованья, уменьшения сроков службы и т. п.119
В сознании российских офицеров Кавказ часто представлялся «обетованной землей для всякого рода несчастных людей»120. Ведь отличительной особенностью кавказской ссылки являлась возможность исправиться и вернуть доверие, «делом» очиститься от «грехов», или продемонстрировать свою лояльность. Нередки были случаи когда разжалованным офицерам за боевые заслуги возвращали офицерский чин. Многие ссыльные даже сделали на Кавказе головокружительную карьеру. Так, рядовой участник польского восстания А. Ф. Рукевич после взятия в плен, был назначен солдатом в Кавказский корпус, где благодаря своему таланту, «беспорочной службой» и везению смог дослужиться до генеральского звания121.
Люди, попадавшие на Кавказ, не по своей воле были в большей степени подвержены ожесточению и часто отторгали новый опыт. В их среде наибольшее распространение получили девиантные модели поведения.
Для понимания ментальных особенностей офицеров Кавказского корпуса необходимо произвести обзор ключевых особенностей исторической среды, в которых проходила их жизнь.
Одним из важнейших параметров Кавказской войны является ее колониально-захватнический характер со стороны России и в глобальном плане она была вписана в общемировой процесс активизации экспансии крупных западных держав. Хронологически покорение Кавказа совпало с завоеваниями французами Алжира, англичанами Индии, США индейских территорий.

К. К. Пиратский. Формы нижних чинов Отдельного Кавказского корпуса. 1860
Однако российский колониализм на Кавказе имел особый специфический характер, существенно отличавшийся от классического европейского. Он шел в полном соответствии с многовековой тенденцией расширения России, выходом ее к естественным границам. Как заметил великий историк рубежа XIX – XX вв. В. О. Ключевский: «История России есть история страны, которая колонизуется»122.
Согласно понятиям XIX в., которые естественно разделяли российские офицеры, под колонизацией понимали «массовое вселение в некультурную или малокультурную страну выходцев из какого-либо цивилизованного государства. Результатом такого заселения является колония или колониальное государство, находящееся в той или иной зависимости от метрополии, т. е. государства, из которого вышли поселенцы»123. При этом надо заметить, что процесс колонизации не является общепринятым и существует множество различных ее видов, дифференцирующихся от целей, методик, характера взаимоотношений между представителями колонизующего и автохтонного народов.
В отличие от большинства европейских держав, осуществлявших захваты исключительно ради материального обогащения, причинами российской колонизации являлось массовое переселение россиян из густонаселенных районов, а также стремление контролировать стратегически важные территории. Последнее имело жизненно важный и часто вынужденный характер, так как Россия постоянно подвергалась агрессии со стороны соседей.
Однако самым главным отличием российского колониализма является то, что Россия изначально складывалась как многонациональное государство, для которого было характерно отсутствие комплекса превосходства, лояльное, и иногда даже покровительственное отношение к другим, особенно малым народам. И это неудивительно, ведь Россия всегда испытывала недостаток в людях, поэтому, при победе над своими противниками, не происходило целенаправленного истребления, как это делалось во многих колониальных империях. Напротив, в России «побежденных» стремились всеми силами завлекать на государственную службу, для чего им даже предоставлялись определенные привилегии недоступные для остального населения страны. Толерантность закреплялся в воинском уставе, принятом Петром I, наставлявшего начальников вести себя с подчиненными, независимо от звания: «Какой бы веры или народа они суть не были, между собой должны христианскую любовь иметь»124.
Кавказ оказался в орбите имперских воззрений преимущественно благодаря стратегически важному положению. Современники называли его не иначе как «мостом» и «трамплином в Азию»125. И действительно, кавказский регион в XVIII – XIX вв. являлся ареной соперничества целого ряда мировых держав: России, Турции, Персии, Англии и Франции. Несмотря на установившуюся к середине XIX в. гегемонию России в регионе, все они на протяжении Кавказской войны продолжали проявлять активный интерес к Кавказу. Они активно материально и психологически поддерживали независимые кавказские народы к бескомпромиссному сопротивлению российской армии. Для реализации своих целей они активно использовали специальных агентов – эмиссаров126.
Европейцы принимали участие в формировании некоторых национально-освободительных символов. В Национальном музее Адыгеи среди исторических флагов хранится уникальное знамя натухаевцев, в основе которого лежит французский триколор.

Знамя натухаевцев времен Кавказской войны. Фото автора
В сложившейся ситуации российские офицеры, отождествлявшие себя главными защитниками интересов государства, воспринимали захватническую войну на Кавказе как необходимую и вполне справедливую. Набеги кавказских горцев, постепенно усиливавшиеся пропорционально увеличению роста пограничного российского населения, подкрепляли их уверенность в необходимости покорения воинственных соседей.
Тем не менее, в российском обществе война на Кавказе воспринималась весьма неоднозначно. Следует заметить, что вплоть до начала активных наступательных действий в 1850-х гг., оно оставалось в «полном неведении»: о войне судили поверхностно «по нескольким повестям да рассказам людей, приезжавшим на Пятигорские воды»127. В отличие от офицеров российское общество в массе не понимало даже целей, заставлявших государство добиваться столь дорогостоящего в материальном и людском отношениях покорения далекой страны. Ведь в общем обзоре внешнеполитической стратегии Кавказ всегда занимал второстепенное значение (даже в войнах против Турции главной задачей Кавказской армии являлось отвлечение сил противника от главного – Балканского театра военных действий), а на его покорение отводилась значительная часть ресурсов страны. К концу 1850-х гг. на это тратился каждый шестой рубль государственного бюджета128, не говоря уже о крупных безвозвратных людских потерях.
Поэтому российская общественность вела активное обсуждение целей, задач и путей скорейшего завершения малоизвестной, но затянувшейся войны. Для обоснования необходимости дорогостоящей войны выдвигались утверждения о богатстве края, хотя на самом деле Кавказ вплоть до открытия крупных нефтяных месторождений в Азербайджане в конце XIX в. приносил одни убытки. Звучали идеи о просветительской роли России, распространявшей плоды «цивилизации» на «варварские» кавказские народы. Весьма убедительно выглядела цель защиты единоверной Грузии от «мусульманского ига»129. Также убедительно и небеспочвенно представлялась необходимость покорения воинственных горцев как единственного эффективного способа защиты пограничных подданных России130.
Сторонники необходимости присоединения Кавказа выдвигали предположения цены возможной неудачи. По их мнению, поражение на Кавказе стало бы демонстрацией ее слабости. А это в свою очередь привело бы не только к падению престижа России на международной арене, но и способствовало объединению ее врагов. Произошло бы неминуемое усиление сепаратизма у других свободолюбивых подданных империи. Кроме того серьезный удар был бы нанесен по обороноспособности южных регионов страны: «превращению границы от Каспийского моря до Китая в постоянный источник угрозы». И все это означало бы многократное увеличение общих военных расходов131. Все эти утверждения дополняли «геостратегическое» восприятие офицеров.
В то же время на Западе считали, что будто бы Россия была сама заинтересована в продолжительной перманентной войне на Кавказе «как в некоем хроническом раздражителе», позволяющем поддерживать вооруженные силы в постоянном боеспособном состоянии132. Эта точка зрения шла в полном соответствии с созданной в то время «теорией войны» известного немецкого военного теоретика К. Клаузевица. В соответствии с которой офицеры должны были постоянно упражняться в военном искусстве, а в мирное время отправляться туда, где идет война133.
Однако в российском обществе подобные воззрения считали беспочвенными. Здесь трезво осознавали дороговизну такой «военной школы». Не стоит забывать, что и без Кавказской войны, Россия регулярно участвовала в военных конфликтах.
Впрочем, справедливости ради, следует заметить, что в России действительно существовала категория людей, заинтересованных в затягивании конфликта. Но это были не российские власти, а облеченные значительной самостоятельностью кавказские начальники, пылкие офицеры134, а также многие «мирные горцы», которые благодаря непрекращающейся войне имели ряд привилегий.
Особенностью российского колониализма, достаточно ярко проявившегося на Кавказе, является стремление не просто к завоеванию территории, но и к ее инкорпорации в общероссийское социально-культурное и экономическое пространство. Кавказские горцы в конечном итоге должны были приобрести равные с остальными жителями России права и обязанности. Российская власть становилась гарантом безопасности в регионе. Российские войска не только защищали кавказские народы от вторжений персидских и турецких войск, но и способствовали прекращению разорительных междоусобиц135.
Помимо сугубо военных методов завоевания, российской стороной активно использовались разносторонние дипломатические, экономические, финансовые и просветительские методы, направленные на мирное распространение влияния136. Так, еще Екатерина II подчеркивала, «что не единою силою оружия… побеждать народы, в неприступных горах живущие… но паче правосудием и справедливостью, приобретать их к себе доверенность, кротостью смягчать, выигрывать сердца и приобщать их более обращаться с русскими»137.
Показательным примером многогранной политики России является использование горских национальных подразделений. Во-первых, российская армия значительно усиливалась за счет храбрых воинов, в наибольшей степени приспособленных к партизанской и мобильной войне. Во-вторых, происходило уменьшение количества «горючего материала» среди пылкого горского населения. В-третьих, через службу в российской армии наиболее мягким путем происходило приобщение и распространение «мирных идей культуры и цивилизации». По возвращении на родину они рассказывали об увиденном своим соплеменникам». В-четвертых, национальные воинские формирования нередко использовались для разжигания вражды между кавказскими народами. Наконец, на международной арене национальные горские подразделения в российской армии были символом покорности Кавказа138.
Мнения российских правителей ставили офицеров, как основных исполнителей их государственной политики, в весьма противоречивое положение. Специфика рода деятельности предопределяла их нацеленность на силовые пути решения проблем, в то же время высшее российское руководство требовало несвойственного для них «миролюбия». Ведь весьма сложно проявлять дружелюбие к тому с кем приходится вести кровавые схватки.
Имперские тенденции российского командования и упорное сопротивление горцев в конечном итоге привели к доминированию силовых методов войны. В результате война приобрела крайнюю степень ожесточения. Все участники противоборства не гнушались использовать голод, разорение мирных жителей, жестокие расправы и издевательства над пленными, практиковалось устрашение и запугивание, как противника, так и колеблющихся союзников.
Важным фактором Кавказской войны является уникальный характер боевых действий. Российские офицеры привыкли воевать «по-европейски»: сражаться с четко организованными армиями в открытом бою, где победа в генеральном сражении и занятие стратегически важного пункта (например, столицы) ознаменовывали завершение боевых действий. На Кавказе же они столкнулись с иными принципами.
Основной противник – северокавказские горцы, предпочитали «партизанские» методы противоборства, а потому избегали открытого боя. В наступлении и обороне использовался один сценарий: неожиданный набег заканчивался молниеносным отступлением. Излюбленными местами сражений для горцев являлись труднодоступные участки местности, где нивелировались все преимущества российской регулярной армии.
Особой сложностью для российской стороны было то, что кавказские народы представляли собой конгломерат более чем полусотни обособленных друг от друга общностей, покорение каждого из которых требовало отдельной кампании. Кроме того у горских народов не существовало и крупных политических и экономических центров, взятие которых делало невозможным продолжение сопротивления. Российская армия на Кавказе столкнулась с поголовно «вооруженными народами», ведь у горцев воинами считалось все мужское население, способное носить оружие139. В результате российская армия не имела на Кавказе точки приложения сил, что фактически растворяло ее подавляющее военно-техническое превосходство. Осознание данного факта угнетало офицеров, деморализуя их боевой дух.

Штурм аула Китури. Литорафия с рисунка Т. Горшельта
Уникальные для российских военных условия Кавказской войны делали ее сравнение с привычной европейской одной из главных тем рассуждения в воспоминаниях офицеров. Так, Н. В. Симановский по окончании экспедиции на Кавказе делает типичное для современников сравнение: «В европейской кампании больше удовольствий, больше жизни, я вижу своего врага, здесь же не видишь, откуда летят пули, лоскутник [А.Д. – горец, скрывающийся в зарослях] избирает такое место, откуда его и видеть, и выбить трудно, жизнь каждую минуту в опасности, тогда как в европейской кампании – только при виде неприятеля. В европейской кампании я сражаюсь по роду моей службы, здесь я, кавалерист, ползаю с пехотой по горам; там встречаете деревни, видите людей, здесь – ни того, ни другого…»140. Все это было в противодействии с европейской войной, «где климат, места, люди и все уменьшает неприятности оной, <…> где случится в Воскресенье быть на сражении, в Понедельник на бале, а во Вторник в театре…»141.
Российские офицеры сталкивались на Кавказе с совершенно иной социокультурной средой. Горцы являлись носителями отличных ценностных идеалов. Многие нормы горской морали и права по российским представлениям являлись противоправными. Во главу угла на Кавказе ставились такие постулаты как независимость, самопожертвованное покровительство гостю и побратиму, личное удальство, которое можно было заслужить только в набегах. Горские народы имели весьма разнообразные социально-политические структуры от военных демократий до тиранической монархии. А их общество имело совершенно иную иерархическую структуру. Непохожесть культур значительно усложняла взаимопонимание между противоборствующими сторонами.
Лишь у части кавказских народов (дагестанцев, кабардинцев, грузин, азербайджанцев и др.) были иерархически организованные формы устройства общества. У наиболее многочисленных северокавказских народов (черкесов и чеченцев) несмотря на существование рабства, все свободное население было преимущественно равноправно и независимо, иерархия складывалась исходя из личных качеств и родовитости конкретного человека.
Определенное влияние на Кавказскую войну оказывал религиозный фактор. Активное распространение ислама среди северокавказских народов, не говоря уже о Турции и Персии, придавало войне на Кавказе контекст извечного исламо-христианского противоборства. Защита единоверных грузин являлась одной из причин (или поводом) вмешательства России в дела региона142. В российской ментальности была закреплена мысль о миссионерской роли российского государства как единственного защитника православной веры143. В соответствии с ним стремление восстановить христианство в регионе, которое здесь распространялось еще византийскими и грузинскими проповедниками еще в VI – XIV вв., играло важное идеологическое значение для российского общества144.
Особым ментальнообразующим фактором являлась перманентность боевых действий. В отличие от большинства европейских кампаний, обычно длившихся несколько лет, боевые действия на Кавказе непрерывно велись на протяжении целого столетия. Гарнизоны многих крепостей десятилетиями находились на осадном положении, а многочисленные экспедиции имели лишь «частный» успех. В период с 1830 по 1856 гг. несмотря на значительную интенсификацию боевых действий, российская армия практически не продвинулась вглубь региона.
Существует множество вариаций хронологических рамок Кавказской войны. Несмотря на многочисленные походы, совершаемые еще в глубоком средневековье, бесповоротное покорение Кавказа началось лишь в середине XVIII в. со строительством ряда укрепленных линий, направленных на постепенный захват территорий в Центральном Кавказе. Завершение крупномасштабных боевых действий произошло с покорением Северо-Западного Кавказа в 1864 г.
Но самое главное – при постоянном разрастании боевых действий на Кавказе не существовало четкой линии фронта. Занятие территории и признание подданства в отличие от классических европейских войн не являлись актами, завершающими войну. Она лишь переходила в скрытую форму, являясь постоянным источником угрозы. Паузы и перемирия, предпринимаемые российской стороной, способствовали эскалации конфликта, горцы воспринимали это как слабость, активизировались и сразу совершали нападения145.
Сложность характера подчинения кавказских народов привело к формированию в российской терминологии особой системы дифференциации их покорности. Кавказские народы делились на «мирных», «иногда мирных», «вполне покорных», «полупокорных» и «непокорных» («враждебных»)146. Разница между ними, по мнению авторитетного историографа и участника войны генерала Р. А. Фадеева, состояла «только в неприступности заселённых ими мест <…>. Мирная деревня, только что пройдённая русскою колонною, через час иногда обращалась в неприятельскую позицию»147. Из-за тучи тревожных сведений в головах начальников бушевала «война нервов», офицеры морально изматывались148.
Существенное влияние на ход и характер войны оказывала историческая память противоборствующих сторон, их гордость недавними заслугами. Так, российские офицеры пришли на Кавказ после оглушительных побед в Европе. Особым достижением считался разгром Великой армии Наполеона, после которого российская армия стала считаться сильнейшей в Европе. По сравнению со столь знаменательным врагом разрозненные и неорганизованные кавказские горцы казались весьма слабым противником, а их покорение не должно было потребовать особых хлопот.
В свою очередь кавказские народы гордились своей военной историей. Среди них жили предания о победах над могущественными завоевателями, например, дагестанцы особо гордились разгромом в середине XVIII в. великого персидского завоевателя Надир-шаха149. Воодушевлению горцев способствовала непререкаемая вера в неприступность гор150.
Кроме того, кавказские народы имели весьма недооцененный образ силы России. Во многом это было обусловлено активной пропагандой турецких, персидских и английских эмиссаров, внушавших горцам, что она является самой слабой европейской державой. На протяжении всей войны горцы презирали русских солдат, называя их «неуклюжими крестьянами», а российскую тактику ведения боя и дисциплину проявлением трусости. Неудивительно, что бахвальство российских офицеров о своих победах над «Великим Наполеоном» на Кавказе вызывали лишь иронию. Победы России считались далекими, незначительными и случайными151.
В данной связи следует заметить, что преодоление предвзятого отношения обеих сторон к противнику в конце войны являлось одним из факторов побед российских войск. После широкомасштабных восстаний начала 1840-гг. и неудачи Даргинской экспедиции 1845 г. офицеры стали уважать ранее презираемого противника. Наступательные действия стали более продуманными. С другой стороны, возможность России успешно противостоять ведущим мировым державам во время Крымской войны 1853—1856 гг. воспринялась горцами как ее непобедимость. Взятие в 1855 г. турецкой твердыни – крепости Карс на Кавказе звучало намного громче, чем падение «какого-то» далекого Севастополя. О первом на Востоке знали многие, о втором – «едва слыхали».
Одним из определяющих факторов Кавказской войны является резко контрастирующие с основной частью Российской империи природно-климатические и ландшафтно-географические условия. Прямым следствием стала высокая заболеваемость в войсках152. Различные болезни (чума, холера, лихорадка, малярия, обморожения, чахотка и т.п.) являлись причиной более чем 70% всех потерь российских войск на Кавказе153. К такой большой смертности приводили и субъективные факторы, прежде всего нежелание отказываться от северных привычек жизнедеятельности154. Кроме того болезни возникали из-за плохих условий проживания, нехватки теплой одежды, недостатков медицинского обеспечения и гигиены.
Большие сложности для российской армии на Кавказе представлял сильно пересеченный характер местности. Он сводил на нет преимущества линейной европейской тактики ведения боя и особенностей вооружения. Чтобы вернуть преимущество российские командующие применяли совершенно новые методы ведения войны: раскрытие местности путем прорубания просек, вырабатывалась уникальная система укрепленных линий и пограничной охраны, создавались особые боевые строи, системы передвижения войск и грузов (т.н. «оказия») и многое другое155.
Любые перемещения на Кавказе между укреплениями, находящимися вблизи боевых действий, были сопряжены с огромным риском. Почтовые перевозки, доставка продовольствия, боеприпасов, различных грузов и прочие передвижения объединялись и осуществлялись в крупных конвоях. Для их прикрытия выделялись значительные вооруженные силы, обязательно состоящие из кавалерии, пехоты и часто артиллерии. Колонна имело особый строй с перемежением обозов и охранения. Подобные мероприятия участники войны и называли «оказиями».
Следует обратить внимание, что сам Кавказ являлся довольно разнообразным регионом. В период стагнации Кавказской войны (1830—1856), когда в целом произошла стабилизация границ боевых конфликтов, можно выделить следующие «театры военных действий»: Черноморская береговая линия, Черноморская кордонная линия, Правый фланг, Центр Кавказской линии, Левый фланг, Северный и Восточный Дагестан, Закавказье, включая Легзинскую линию и Грузию (См: Приложение). Все они обладали особыми природно-климатическими, ландшафтными условиями, этническим составом местного населения и другими уникальными факторами. При продолжительном пребывании в одном регионе офицеры настолько приспосабливались к ним, что у них сформировывались уникальные локальные черты характера.
Природный фактор и региональная дифференциация создавали особый календарь боевых действий. Так, экспедиции в Дагестане осуществлялись только летом, в другое время года местные горы были непроходимы. В лесах Чечни и Черкесии экспедиции, целью которых в конце войны стало преимущественно прорубание просек, напротив, предпочитали производить зимой. В это время года листва с деревьев осыпалась, затрудняя скрытые передвижения горцев, к тому же их тонкая обувь не позволяла им долго находиться в засаде, а срубленное дерево лучше горело156. С другой стороны нападения горцев также имели сезонный характер. На Черноморской кордонной линии они осуществлялись преимущественно зимой, когда вода в Кубани замерзала, а на Кавказской линии от Правого фланга до Дагестана – весной и осенью, когда непогода скрывала их действия157.

В. Ф. Тимм с рисунка Т. Горшельта. Устройство военных дорог в Дагестане. Литография XIX в.
Кавказская война имела множество социальных факторов. Одним из важнейших являлось единообразие жизнедеятельности, особенно в крепостях. Здесь с утра до ночи была одна и та же рутина в ограниченном пространстве: одни и те же предметы, лица, и притом только мужские, каждый последующий день был идентичен предыдущему. Подобные условия вызывали непомерную скуку и синдром «остановившегося времени», оказывающие разрушающее воздействие на человеческую психику158.
Весьма тягостным для российских военных был недостаток женского общества. Мужчинам было трудно не только найти подходящего партнера для создания семьи, но и удовлетворить элементарные половые потребности. Дефицит оказывал влияние не только на соответствующие мировоззренческие установки, но и общие нравы, царящие в сугубо мужском офицерском обществе.
К числу социальных факторов относится мода на восточную тематику, получившая широкое распространение в европейских обществах XIX в. Офицеры, участвовавшие в Кавказской войне, наяву погружаясь в экзотику сказочной страны, испытывали подлинный восторг от экзотической горской культуры. Этому во многом способствовали качества горского снаряжения, идеально приспособленные для ведения партизанской войны в условиях пересеченной местности. Самодельные и переделанные винтовки горцев были легче, стреляли дальше и точнее российских, а боевые качества шашек имели легендарный характер, накладывавший неизгладимое впечатление на восприятие противника. В воспоминаниях офицеров часто описываются факты разрубания людей и стальных стволов солдатских ружей159. Притягательными для офицеров были многие горские обычаи, такие как гостеприимство и куначество, а также ценностные идеалы личного удальства с безграничным свободолюбием.
Разнообразное влияние на Кавказскую войну и ее участников оказывали «внешние» факторы. Среди них особенно выделяются события в Польше. Кавказ и Польшу роднило их насильственное присоединение к России и свободолюбивое население, постоянно поднимавшее восстания. Противники России поддерживали ее мятежных подданных, оказывая достаточно серьезное внешнеполитическое давление, угрожавшее началом широкомасштабной военной интервенции160. Особенно настойчиво действовала Англия, осуществлявшая активную пропаганду, направленную на дискриминацию России на международной арене161.
Российская общественность, включая офицерство, замечало сходство двух мятежных провинций. Кавказ называли не иначе как «Азиатской Польшей»162. Высшее командование стремилось перекрестно использовать накопленный опыт ведения боевых действий в обоих регионах. Так, для подавления Польского восстания 1830—1831 гг. был отправлен кавказский триумфатор И. Ф. Паскевич-Эриванский, а на Кавказ – отличившиеся в том же восстании Г. В. Розен и Е. А. Головин163. Польша значительно влияла на интенсивность боевых действий на Кавказе, оттягивая на себя ее вооруженные силы. Восстания 1830—1831 и 1863 гг. значительно приостанавливали наступление Кавказского корпуса.
События в Польше влияли на изменения состава участников войны. С одной стороны начиная с 1830-х гг. в Кавказский корпус в значительной степени стал пополняться поляками. Одни попадали сюда как ссыльные элементы или военнопленные, переходящие на службу в российскую армию, другие же сами отправлялись на Кавказ для доказательства своей лояльности новой Родине. С другой стороны, значительные группы мятежных поляков-эмигрантов чтобы помочь «врагу своего врага» в массовом порядке отправлялись в страну «независимых горцев». Наиболее знаменитой акцией польских эмигрантов оказалась экспедиция полковника Т. Лапинского (1857—1860), организовавшего у западных черкесов артиллерию и наделавшей много препятствий продвижению российских войск164. Силы горцев также пополнялись за счет польских солдат, дезертировавших из российской армии.
Следует заметить, что массовое дезертирство солдат польского происхождения по отзывам многих кадровых офицеров Кавказского корпуса, являлся предвзятым стереотипом о неблагонадежности поляков. По наблюдениям очевидцев в пропорциональном плане они ничем особым не отличались от остальных категорий нижних чинов российской армии.
Определенное влияние на некоторые аспекты Кавказской войны оказывали происходящие параллельно колониально-захватнические войны западных держав. Образованная часть российского офицерства с особым интересом отслеживала ход и характер завоеваний Англии, Франции и США. Во многих российских периодических журналах и книгах публиковались сводки и материалы по анализу различных боевых конфликтов. Наибольшую популярность имела тема, связанная с войной в Алжире, где более всего прослеживались с аналогии с войной на Кавказе. Здесь были и горы, и воинственное население, предпочитавшее партизанские методы противоборства. Завоевание, которое самонадеянные французы думали завершить без особых хлопот, стало одной из самых тяжелых войн в истории страны. Многие российские офицеры не могли удовлетвориться сугубо теоретическими познаниями и, стремясь глубже изучить чужой опыт, отправлялись в «горячие точки» планеты и становились непосредственными очевидцами военных противоборств других держава.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе