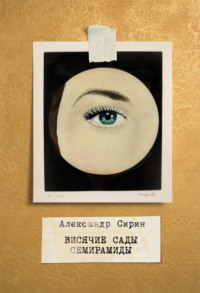Читать книгу: «Висячие сады Семирамиды», страница 3
Его охрана состояла из близких родственников и односельчан из той далекой курской деревни, которой когда-то владели Левины. Они почитали Воронка, преклонялись перед ним, называли его дядей. Они относились к нему так, как в стае волков относятся к вожаку. По любому его приказу они готовы были кинуться на противника и вцепиться ему в горло.
По рассказам отца, уровень Воронка так и остался на уровне ученика начальных классов церковно-приходской школы: он с трудом читал, угловато, коряво писал. В его кабинете не было книг. Он был чужд искусства, литературы, живописи, кино…
Его единственным увлечением было оружие. Во дворе дома, когда-то принадлежавшего полковнику Пиленко, где после войны проживал Воронок, стояли мишени, и он часами стрелял по ним, упражнялся в меткости. Но его главной страстью было холодное оружие. Он высматривал в музеях собрания холодного оружия, а потом отбирал из этих коллекций полюбившиеся клинки, мечи, сабли. По рассказам отца, он, голый по пояс, выходил во двор и, издавая какие-то звериные вопли, саблей рубил ветки стоявших в парке деревьев. Это было его любимое занятие.
Он был зверь, и его отношения с людьми тоже были звериными; такими же звериными были его отношения с бывшим хозяином – Левиным: как между хозяином и собакой. Именно так, как ведет себя собака по отношению к умершему хозяину, он вел себя на похоронах Левина. Бывшие партийцы говорили речи.
Мой отец рассказывал, что это был первый и единственный раз, когда он видел Воронка таким: он был похож на брошенного пса, отвергнутого хозяином.
Гражданскую панихиду устроили в здании нашего уездного ЦИК, в бывшем особняке купца Добровольского. Возле гроба с покойным были установлены длинные ряды стульев, на которых сидели соратники Левина. В центре, низко наклонившись, опустив голову, сидел Воронок. Его могучие руки, подобно собачьим лапам, лежали на коленях и безжизненно свисали вниз. С правой стороны от гроба была поставлена небольшая трибуна, на которую поочередно взбирались бывшие соратники Левина, говорившие, каким тот был человеком и как много потеряла большевистская партия. Молчал лишь Воронок. Иногда его партийные товарищи бросали на него нетерпеливые взгляды, но Воронок никого и ничего не замечал: молча сидел, свесив руки.
А потом, на кладбище, как рассказывал отец, он повел себя вообще очень странно. В присутствии огромного количества народа он вдруг присел на близлежащую могилу и сидел там, пока гроб с телом его хозяина под траурные звуки оркестра опускали в землю. Мой отец говорил, что в этот момент он был похож на брошенного хозяином пса. Отец рассказывал, что в тот момент, когда он смотрел на этого жалкого, совсем на себя не похожего Воронка, у него мелькнула мысль, что тот сейчас завоет, как собака.
Мой отец больше двадцати лет проработал у Воронка (вначале секретарем, а потом директором партархива) и как никто другой изучил все его повадки. «Я двадцать пять лет работал рядом с ним, – как-то сказал отец, – но его сущность, мотивы его поступков так и остались мне непонятны. Он не был человеком. Это была какая-то страшная мутация человека».
Читая различные мемуары, связанные с Воронком, я все более и более прихожу к выводу, что отец был прав, говоря о нем как о какой-то звероподобной мутации.
Собственно, от человека в нем оставались только внешний облик и некоторые навыки человеческого существования; внутри он был зверь, но зверь особого рода, особый вид чудовища. Он каким-то животным инстинктом чувствовал в людях страх, и этот страх приводил его в еще большее неистовство. В отличие от животных он убивал людей не потому, что в этом была потребность утолить голод или необходимость защиты, а потому что это было его сутью звериного нутра, его призванием – нападать и лишать жизни тех, кто слабее его. И в своих зверствах он не знал меры. Немыслимые жертвы репрессий в нашем крае именно этим и объясняются – звериной страстью чудовища убивать.
Это было звероподобное существо особого рода. Отец рассказывал об одном эпизоде, который произошел во время войны. Мой отец сопровождал Воронка, когда тот с группой партийцев посетил передовую.
С холма, где находился наблюдательный пункт, Воронок смотрел в сторону немецких окопов. Один из военачальников пересказывал ему последние данные разведки: количество танков у противника, номера немецких подразделений, задействованных на этом участке фронта. В это время в немецких окопах началось какое-то движение.
Воронок вдруг странно согнулся и в таком полусогнутом состоянии, в каком-то выжидательном оцепенении стал наблюдать за этим движением. Сопровождающие подумали, что он опасается обстрела, но это было совершенно другое. Из него в очередной раз выглянул зверь: он со звериным любопытством смотрел на непонятных для него существ. В этот момент он напоминал какого-то хищника, который неожиданно встречает на своем пути диковинное существо и пытается понять, кто его соперник: такой же, как он, хищник или же неспособное защитить себя слабое животное.
А после войны в его зверином механизме что-то сломалось: он стал пить. Историки по-разному объясняли его послевоенную страсть к выпивке: одни писали, что у темного, невежественного человека это было единственное развлечение, другие говорили, что так он пытался подавить свои страхи. Наконец, третьи находили в этом нечто мистическое. Один писатель даже посвятил целый роман последним годам тирана, которому постоянно мерещатся лица казненных им людей. Но ничего ему не мерещилось. Мой отец объяснял это тем, что в его зверином нутре просто не было иммунитета к алкоголю. Если в молодые годы он неимоверным усилием своей звериной воли с этим еще справлялся, то с возрастом страсть к алкоголю стала пересиливать его способность к сопротивлению, а женщины к тому времени перестали его интересовать. Он тогда уже практически отошел от дел и большую часть времени проводил на одной из правительственных дач на черноморском побережье, которую ему предоставили за особые заслуги. В тридцатые годы этот особняк, когда-то принадлежавший одному из родственников начальника Черноморского округа полковника Пиленко, использовался в качестве пансионата для партийных работников и был нашпигован всякого рода портретами и бюстами различных большевистских руководителей и основоположников научного коммунизма. И в этом особняке прошли последние годы Воронка.
Сохранилось несколько воспоминаний о его кутежах, в частности воспоминания солдата по фамилии Цыбуля, служившего в караульной роте, которая охраняла правительственные дачи и госучреждения.
По его рассказам, Воронок пил всегда один, а потом полуголый с шашкой в руках ходил по особняку. Потом он заходил в зал заседаний, в разных концах которого были установлены бюсты пролетарских вождей. Он по-звериному подкрадывался к ним, заглядывал в их гипсовые глаза, заливался зычным, диким хохотом, потом резко умолкал и напряженно, злобно смотрел на них. Затем начинал кружить вокруг них в каком-то особом зверином танце – раскачиваясь из стороны в сторону, приседая то на одну, то на другую ногу, все быстрее и быстрее, сужая круги своего кружения и с неистовством бросался рубить шашкой эти гипсовые бюсты: удар за ударом, отсекая им различные части их гипсового тела – руки, голову. Иногда он подходил к часовым, заглядывал своим звериными глазами в их лица. Какие-то странные искорки любопытства пробегали в его глазах. Затем точно так же, как раньше возле бюстов, Воронка охватывал звериный хохот. В своих воспоминаниях Цыбуля пишет, что всякий раз, когда Воронок подходил к нему, его охватывал леденящий ужас: ему казалось, что сабля сейчас опустится на него и Воронок, как несколько минут назад с неистовством крушил гипсовые фигуры, точно так же будет рубить его.
В те времена за малейшие провинности люди лишались жизни, но Воронок был вне людского племени. Он был как небожитель, которому позволялись различные проступки, за что простого обывателя ожидало бы суровое наказание.
Под утро, когда уставший тиран заваливался спать, солдаты караульной службы приводили в порядок зал заседаний, убирали изуродованные гипсовые фигуры.
Неизвестно, как далеко завело бы тирана его собственное безумие, если бы не роковой случай. С ним случилось то, что в одном из исторических преданий называется причиной смерти Аттилы: Воронок, как и Аттила, захлебнулся в собственной блевотине. В некрологе написали, что причиной скоропостижной смерти Воронка стал сердечный приступ.
Это случилось буквально за месяц до пятого марта пятьдесят третьего года, когда в Москве умер человек, тридцать лет правивший страной.
Мой отец в то время был уже на пенсии, но продолжал работать в нашем районном партархиве. Собственно, отец и был организатором этого архива. В конце двадцатых, после нескольких лет работы секретарем у Воронка, отцу, занимавшему в прошлом аналогичную должность при нашем первом председателе реввоенсовета Левине, было дано поручение заняться сбором документов по истории местной партийной организации и революционной истории нашего, Веньяминовского уезда. И вот в этом архиве, основателем которого и являлся мой отец, он проработал до семидесяти пяти лет, вначале в должности директора архива, затем, после выхода на пенсию, в должности главного хранителя, а последние десять лет – научным консультантом.
В том самом пятьдесят третьем, в год смерти Сталина, я первый год после окончания Горного института работал на Приполярном Урале, на кварцевом руднике на реке Балбан-ю.
Среди работающих на руднике было немало тех, кто прошел через интинские и воркутинские лагеря. Там, на Большой земле, звучали бодрые коммунистические песни (Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля, / Просыпается с рассветом вся советская страна), а здесь пели о тяжкой доле узников: Этап на Север, срока огромные, / Кого ни спросишь – у всех Указ…
Связь с Большой землей у нас осуществлялась через рацию. Раз в неделю на вездеходах нам оттуда забрасывали почту, продукты и необходимое для работ оборудование и снаряжение.
И вот, я помню, к нам приехал вездеход, привез почту. Взбудораженный водитель разгружал груз и почту и все время повторял: «Сталин умер». Вместе с почтой он привез нам мартовские номера газеты «Правда» с репортажем о похоронах Сталина.
Для многих работающих на руднике, тех, кто прошел через интинские и воркутинские лагеря, усатый тиран был предметом анекдотов и каких-то злобных политических шуточек, но в первые минуты, когда водитель вездехода огорошил нас новостью о смерти Сталина, у многих из них на лицах читалась растерянность: вдруг вот так неожиданно рушился мир, казавшийся доселе незыблемым, – умер тиран, над которым, казалось, смерть не властна, который, так тогда это виделось, будет править вечно – уйдем мы, наши дети, дети наших детей, а всё так же с плакатов на улицах будет взирать усатый тиран, и его речи с характерным сталинским кавказским акцентом всё так же будут звучать по радио. И вдруг оказалось, что тот, преклонение перед которым было сродни обожествлению и почитанию фараона в древнем Египте, оказался простым смертным, беззащитным перед лицом смерти.
Теперь нам было чем занять себя после работы: вместо всяких забавных историй, анекдотов и частушек мы теперь раскладывали пасьянсы про политическое будущее нашей страны – спорили, судачили, кто же будет теперь руководить страной вместо диктатора, тридцать лет правившего страной. При всем нашем разномыслии большинство из нас склонялось к мысли, что место главного правителя займет теперь Берия. В пользу этого говорило и то, что он от лица членов Политбюро выступал с речью с трибуны Мавзолея на траурном митинге.
Вскоре последовала большая амнистия, которую в народе называли «бериевская», – отсюда, с Севера, потянулись составы с бывшими зэками. С собой они везли лагерный, гулаговский фольклор – песни, частушки, и это лагерное наследие долгих зимних посиделок за колючей проволокой рассеивалось, проникало в квартиры, дома, множилось в рукописных блокнотах подростков, которые по вечерам во дворах под гитару напевали эти тюремные песни. И в этих песнях всплывали различные географические координаты архипелага ГУЛаг – от Соловков до Колымы.
Воркута:
Этап на Север, срока огромные,
Кого ни спросишь – у всех Указ…
Взгляни, взгляни в глаза мои суровые,
Взгляни, быть может, в последний раз.
А завтра утром по пересылке я
Уйду этапом на Воркуту,
И под конвоем, своей работой тяжкою,
Быть может, смерть свою найду;
Печора:
Я знаю, меня ты не ждешь
И писем моих не читаешь.
Но чувства свои сбережешь
И их никому не раздаришь.
А я далеко, далеко,
И нас разделяют просторы.
Прошло уж три года с тех пор,
Как плаваю я по Печоре.
А в тундре мороз и пурга,
Болота и дикие звери.
Машины не ходят сюда,
Бредут, спотыкаясь, олени…
И конечно же, прекрасная планета с названием Колыма:
Я помню тот Ванинский порт
И вид парохода угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт
В холодные, мрачные трюмы.
На море спускался туман,
Ревела стихия морская.
Лежал впереди Магадан —
Столица Колымского края.
Не песня, а жалобный крик
Из каждой груди вырывался.
«Прощай навсегда, материк!» —
Хрипел пароход, надрывался.
От качки стонали зэка,
Обнявшись, как родные братья.
И только порой с языка
Срывались глухие проклятья.
– Будь проклята ты, Колыма,
Что названа чудной планетой!
Сойдешь поневоле с ума —
Оттуда возврата уж нету.
Ну и конечно, были и песни про побеги заключенных из гулаговских спецучреждений:
Это было весною, в зеленеющем мае,
Когда тундра проснулась, развернувшись ковром.
Мы бежали, два друга, замочив вертухая,
Мы бежали из зоны, покати нас шаром.
Лебединые стаи нам навстречу летели,
Нам на юг, им на север – каждый хочет в свой дом.
Эта тундра без края, эти редкие ели,
Этот день бесконечный – ног не чуя бредем.
По тундре, по железной дороге,
Где мчится поезд «Воркута – Ленинград»…
И этот лагерный, уголовный фольклор – песни, частушки, всякого рода прибаутки постепенно расползались по стране, проникая в различные социальные слои. Не чурались этих песен и дети высшей партийной знати. Для них, для этих диссидентствующих детей и внуков гулаговских надзирателей, вохровцев и различных энкавэдэшных чинуш, было особым шиком на своих вечеринках пропеть что-нибудь из уголовного фольклора или продекламировать какую-нибудь частушку про партийную номенклатуру и про смерть Сталина.
Коммунисты отдыхают
На Кавказе и в Крыму,
А рабочих отправляют
На леченье в Колыму.
Колыма, Колыма,
Новая планета:
Двенадцать месяцев зима,
А остальное – лето!
Или:
Вся природа оживает,
На земле проталины.
В марте лагерь отмечает
Похороны Сталина.
На уголовный манер коверкая слова, они пели про молодого жигана: Молодой жульман, молодой жульман начальничка молит: / «Ты, начальничек, ключик-в-чайничек, отпусти до дому – / Дома ссучилась, дома скурвилась молода зазноба…»
Меня всегда удивляла схожесть музыкально-поэтических вкусов уголовников и различных тюремных надзирателей.
Это было время надежд и ожиданий. Многим тогда представлялось, что многолетняя эпоха Сталина сменится эпохой Лаврентия Берии, поэтому известие про арест Берии, суд над ним и последующий приговор с высшей мерой наказания для многих был подобен грому среди ясного неба. Тогда никто всерьез не воспринимал главного кукловода тех событий Никиту Хрущева. Для многих он был чем-то вроде опереточного шута. Многие полагали, что руководителем страны станет Маленков. Помню частушки тех времен:
Предатель Берия
Потерял доверие.
А товарищ Маленков
Надавал ему пинков.
И такая еще:
Цветет в Сухуми алыча
Не для Лаврентия Палыча,
А для Климент Ефремыча
И Вячеслав Михалыча.
У многих вызывали симпатии слова Маленкова, в которых он критически высказывался о партийной номенклатуру: мол, для многих партийных функционеров характерно «полное пренебрежение нуждами народа» и «взяточничество и разложение морального облика коммуниста глубоко проникло в ряды партии». Для многих он тогда был «последним ленинцем». Сейчас, спустя годы, я думаю, что судьба нашей страны могла бы сложиться иначе, останься тогда Маленков у власти и сумей он реализовать свои реформы в сельском хозяйстве, легкой и пищевой промышленности. Конечно, многого из сталинского прошлого Маленкова (о его участии в «ленинградском деле» и прочем) мы не знали. В памяти народной он остался человеком, который ратовал за улучшение жизни простого народа – снижение сельхозналога, списание недоимков за прошлые годы и изменение принципа налогообложения жителей сельской местности, а также за отмену привилегий для партийной номенклатуры. Но время руководства Маленковым Советом министров СССР было недолгим – в 1955 году его сместили с этой должности. А затем грянул XX съезд партии, разоблачение культа личности, публичное признание массовых сталинских репрессий. Для многих эти публикации о репрессиях стали настоящим шоком.
Слухи о том, что Хрущев замышляет что-то серьезное, что по его предписанию в архивах собираются документы про сталинские репрессии и среди прочего – компрометирующие материалы на Маленкова, Кагановича и Молотова, среди работников различных архивов поползли еще за полгода до XX съезда. Я помню, к отцу приехал из Москвы его товарищ, руководитель одного из московских архивов, он рассказывал, что скоро грядут большие изменения. Там, наверху, будет очень жарко, говорил он, им, руководителям архивов, прислали предписание составить свод документов про репрессии и те документы, в которых упоминалась фамилия Хрущева в составе троек, предписывалось уничтожить. «Мы девять мешков таких документов, связанных с Хрущевым, уничтожили», – сказал товарищ отца, этот старый архивист.
Уже позднее в воспоминаниях Судоплатова я встретил подтверждение рассказам товарища моего отца об уничтожении архивных документов, связанных с участием Хрущева в репрессиях тридцатых годов.
Уже тогда многие понимали, что Хрущевым движет вовсе не желание восстановить историческую справедливость (в этом случае он должен был начать с себя, говорить о собственных преступлениях), а желание расквитаться с ближайшим окружением Сталина. Это была обычная грызня внутри большевистской верхушки.
Современный обыватель, читая всякие брошюрки о тех страшных временах, задается вопросом, как в этих условиях могли жить люди – какими радостями они жили, любили ли они, как мы, ревновали и чем вообще они тогда жили. Но дело в том, что во всех этих исторических и псевдоисторических книжках сконцентрировано все жуткое и негативное, происходившее в те времена (количество репрессированных и так далее), а в реальной жизни оно было размыто на фоне других, более радостных и будничных событий. Большинство людей даже и не догадывалось о репрессиях и их масштабах. К тому же идеологическая машина этих репрессивных акций была так устроена, что у обывателя складывалось впечатление, что они направлены против той или иной враждебной строю социальной группы и сословия (зажиточное кулачество, священники и прочие). Немалую роль в неосведомленности обывателей в происходящих событиях играла индифферентность рядовых граждан к политической жизни: большинство людей, и не только у нас, в России, в реальной жизни живет маленькими радостями, не особенно интересуясь теми или иными политическими событиями: для кого-то удачей является затащить в постель смазливую девушку, другого интересует лишь продвижение по карьерной лестнице. Даже в изуродованных политических системах люди находили и находят стимулы для жизни, стремятся к карьерному росту. Основным стимулом обычно является то, что один австрийский писатель назвал «этажным самолюбием»: я достиг большего, чем мой сосед. В стремлении занять определенную социальную нишу, желании в своем карьерном росте обогнать определенных лиц (выше, чем у бывшего одноклассника, соседа по лестничной площадке и так далее) заключается истинная цель жизни. Большинство людей, за исключением крайних неудачников и счастливчиков, живут одинаково плохо, но живут они плохо на разных этажах. Это этажное самолюбие представляет для человека, которому в общем не очень-то виден смысл его жизни, чрезвычайно заманчивый заменитель.
Но тогда народ разделился на тех, кто верил этим публикациях, и тех, кто считал, что это все политические игры Хрущева и его компании.
Мой отец не был сталинистом, но он, как и многие очевидцы сталинской эпохи, ко всей этой разоблачительной кампании Хрущева отнесся резко отрицательно: «Сталин, конечно, был палач, – помнится, говорил он мне тогда, – но среди большевистского отребья, окружавшего в те годы Ленина, он был не худшим мерзавцем. Если бы к власти в двадцатые годы пришел Троцкий, то о газовых камерах мир бы узнал на пятнадцать лет раньше. Сталин осуществлял основное направление борьбы с инакомыслием, а конкретные репрессивные действия на местах проводили малообразованные карьеристы вроде Хрущева, которые таким образом избавлялись от конкурентов».
В 1930-е годы отец присутствовал на одной краеведческой конференции, где перед собравшимися архивистами выступал палач-цареубийца Юровский. Отец рассказывал, что, слушая сладострастное смакование Юровским подробностей убийства царя и членов его семьи, он испытывал физическое омерзение.
По мнению отца, среди большевистской верхушки только трое – Сталин, Маленков и Молотов – верили в коммунистическую утопию. Для значительной части этих стойких большевиков-ленинцев партия была всего лишь местом личного обогащения.
– Посмотри, – говорил мне отец, – на мемориальные квартиры всех этих большевистских вождей, всех этих Кировых и прочих, и ты увидишь, что жили они похлеще любых буржуев.
О том, что и сам Никита Хрущев был отнюдь не безупречен и принимал активное участие во многих репрессивных акциях сталинской эпохи, говорили многие. Среди знакомых моего отца было много сотрудников различных архивов из Украины. Они помнили и рассказывали о тех страшных временах конца тридцатых годов, когда Хрущев занимал пост первого секретаря ЦК КП(б) Украины. Сотни тысяч людей были репрессированы в годы его руководства Украиной. Людей без суда и следствия арестовывали и увозили, и во многих случаях это происходило с личного ведома сталинского палача Хрущева. О чистке партийных рядов, которые в тридцатые годы в Москве устроили Ежов, Каганович и Хрущев, рассказывали пожилые партийцы-москвичи. К тридцать седьмому году Хрущев с помощью Ежова практически убрал всех секретарей райкомов партии в Москве и области, всех наиболее способных руководителей, которых он рассматривал как своих конкурентов.
Уже позже, во времена так называемой горбачевской перестройки, стали появляться публикации, авторы которых (Борис Сыромятников, Павел Судоплатов) в своих воспоминаниях рассказывали о происходящих в тридцатые годы событиях, в частности о репрессиях в Москве и на Украине, проводимых по инициативе Хрущева.
Так, один из очевидцев этих событий писал, что Хрущев непосредственно контролировал ход арестов высшего партийного руководства в Москве, регулярно названивал руководству Московского управления НКВД, чтобы еще более ужесточить репрессии. «Москва – столица, – обращался Хрущев руководству Московского управления НКВД, – ей негоже отставать от Калуги или Рязани». Хрущев был одним из главных инициаторов закрытия церквей и репрессий против их служителей. Рассказывали, что Хрущев предлагал Сталину сделать Красную площадь местом публичных казней – расстреливать на площади священников и тех, кого тогда называли ревизионистами и троцкистами; поэтому некоторые из партийцев называли за глаза Хрущева Малютой Скуратовым.
В памяти народной Хрущев оставил о себе плохую память: кукурузная кампания; экспроприация домашнего скота в личных подсобных хозяйствах и последующий за этим массовый забой скота в деревнях; подавление восстания в Венгрии; строительство Берлинской стены; расстрелы мирных демонстрантов в Новочеркасске и Темиртау; передача Украине Крыма, чтобы перетянуть на свою сторону украинскую партийную номенклатуру. А была еще хрущевская денежная реформа, когда «хрущевские фантики» сменили «сталинские портянки», в результате миллионы людей «погорели» на облигациях.
Никакого уважения как руководитель страны Хрущев не вызывал: для многих он был просто героем анекдотов и частушек:
Все случилось шито-крыто.
Стал вождем Хрущев Никита.
Сталин гнал нас на войну,
А Хрущев – на целину.
Кукуруза, мандавоха,
Вышла замуж за гороха.
Обосрала все поля
И не родит ни х<…>я.
Вышла б замуж за Хрущева,
Да боялась одного:
Говорят, что вместо х<…>я
Кукуруза у него.
Чтобы убедиться, что Хрущев абсолютно не верил в пропагандируемые им коммунистические идеи, достаточно посмотреть на его детей и их потомков: когда я вижу их политические трансформации, я еще раз убеждаюсь в справедливости народной поговорки: «У мерзавцев и дети вырастают мерзавцами».
Я помню, в середине шестидесятых среди интеллигенции ходили по рукам машинописные тексты секретного доклада Че Гевары, который он, как пояснялось в преамбуле этого текста, сделал на закрытом совещании руководства Кубы сразу после возвращения из СССР. По мнению Че Гевары, которое приводилось в докладе, среди высшего руководства Советского Союза нет ни одного марксиста, все заражены ревизионизмом. Интересы высшего руководства, утверждал автор доклада, лежат исключительно в меркантильной плоскости: они живут в роскоши, подобно высшей знати дореволюционной России, окружены многочисленной прислугой. И в заключение отмечалось, что через двадцать лет в СССР будет реставрация капитализма.
Возможно, это была фальшивка, а может, действительно это был подлинный текст доклада Че Гевары, но удивительным образом пророчество этого текста сбылось буквально с точностью до одного года.
В девяностые годы вину за развал Советского Союза возлагали исключительно на две фигуры – Горбачева и Ельцина. В действительности высшее руководство компартии Советского Союза насквозь прогнило еще в хрущевские времена. Спустя годы, читая биографии высших партийных чиновников, я удивлялся, как людей с сомнительным происхождением, людей из семей репрессированных допускали до высших эшелонов власти, не было ли это сознательной диверсией советских спецслужб, руководители которой тоже мечтали о реставрации капитализма.
И в этом отношении Хрущев был ярким олицетворением внутреннего разложения компартии.
Пожалуй, единственное доброе деяние, связанное с именем Никиты Хрущева, – это амнистия политзаключенных, но вместе с ними на свободу были выпущены десятки тысяч коллаборационистов всех мастей – бывшие полицаи, власовцы, бендеровцы, каратели из латышских добровольческих бригад СС, эстонские и литовские националисты, сотрудничавшие с гитлеровскими оккупационными властями.
На Севере, где я тогда работал геологом, хрущевское время было временем жутких гонений на религиозных диссидентов, сосланных сюда еще в тридцатые годы. В начале пятидесятых годов они исправно трудились в лесопунктах и сельхозпредприятиях при различных спецучреждениях и, не привлекая к себе особенного внимания, проводили свои религиозные богослужения. Но в хрущевское время за них опять крепко взялись, начали понуждать ходить на выборы, лишали родительских прав, наиболее активных заключали в психоневрологические изоляторы, разрушали храмы, которые пережили гражданскую войну и суровые тридцатые годы. А потом на Север докатилась кукурузная кампания – снимали с должности агрономов, которые противились хрущевским директивам выращивать кукурузу в зоне рискованного земледелия.
Хрущев был мил лишь горстке интеллигентов из больших городов, которые эту жуткую эпоху назвали «оттепель». Для них это действительно было оттепелью, но для сотен и тысяч религиозных диссидентов это время даже по сравнению со сталинским периодом казалось суровыми сибирскими морозами.
Триумфальные успехи СССР в космонавтике во многом были заслугой предшественников Хрущева – кровавого диктатора Сталина и его правой руки Лаврентия Берии.
Когда в шестьдесят четвертом году днепропетровская партийная группировка убрала с политической сцены Хрущева, никто в народе особо не горевал из-за ухода этого сталинского палача. Народ на это отреагировал новыми частушками и анекдотами.
Товарищ, верь: взойдет она,
на водку прежняя цена,
и на закуску выйдет скидка —
ушел на пенсию Никитка!
Поэтому, наверное, и неудивительно, что сразу после похорон Хрущева стали распространяться слухи об осквернении его могилы на Новодевичьем кладбище. Рассказывали, что уже на следующий день после похорон Хрущева на его могиле кто-то устроил отхожее место. Бродили различные истории, будто кто-то несколько раз выкапывал из могилы тело Хрущева, а позднее был арестован рабочий Новодевичьего кладбища, который, как оказалось, и выкапывал труп Хрущева. Из-за регулярного осквернения могилы Хрущева, как судачили рядовые обыватели, московскими властями было принято решение о закрытии Новодевичьего кладбища.
Эпоха правления Брежнева в восьмидесятые годы с легкой руки одного малообразованного ставропольского комбайнера было названо застоем, в действительности же она была золотым временем советского государства: в магазинах появилась бытовая техника – холодильники, телевизоры, стиральные машины, радиоприемники; открывались дома мод; на прилавках магазинов стала появляться одежда из соцстран и из Финляндии.
Но идеологические основы общества были уже в значительной мере подорваны предшествующей эпохой. Начавшееся еще во времена так называемой «хрущевской оттепели» размывание основ советской идеологии, обесценивание коммунистических идеалов прошлого, приняло фатальный характер. Диссидентские настроения подобно едкой плесени расползались по разным уголкам страны, находя приверженцев подобных умонастроений не только среди жителей крупных городов, но и в далеких рабочих поселках, затерянных на необъятных просторах Сибири и Русского Севера.
В умах значительной части советских граждан витали уже не мысли о далеком светлом будущем, как у их отцов и дедов, а меркантильные интересы дня сегодняшнего. В портовых городах и крупных городах-миллионниках пышным цветом процветала фарцовка: молодежь гонялась за дисками популярных западных поп-групп, за западным ширпотребом – кроссовками, джинсами. Подростки из состоятельных семей покупала у фарцовщиков джинсы Montana, Levi’s, Lee, Wrangler по цене месячной зарплаты инженера (150–200 рублей), а те, чьи семейные бюджеты были поскромнее покупали польские Odra, болгарские «Рила», индийские Miltons, Avis. А уже в 80-х появились более дешевые немецко-итальянские джинсы – Jordans, Super Perrys, Rifle, Riorda, Genesis, Ledex, Colorado.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе