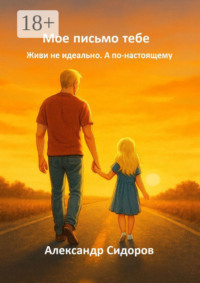Читать книгу: «Мое письмо тебе. Живи не идеально. А по-настоящему»
Иллюстрация на обложке ChatGPT
© Александр Валерьевич Сидоров, 2025
ISBN 978-5-0067-6808-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Вступление
Я начал писать эти строки в тот период, когда моя жизнь треснула. Не напоказ. Не громко. Но так, что внутри остались шрамы. Их не видно, но они стали частью меня.
Писал, чтобы понять. Чтобы не забыть. Чтобы боль обрела форму – и смысл.
Потом родилась моя дочь. И что-то во мне щёлкнуло. Я начал читать про детскую психологию, воспитание, взросление. И понял: всё, что я писал раньше – заметки, монологи, мысли, – было не случайно. Просто тогда я не знал, зачем.
Первая строчка этой книги появилась в 2015 году.
Я просто набрал слова на экране. И с того момента пошло. Менялось всё: стиль, форма, тон. Я не знал, к какому жанру она относится. Это и не было важно. Я писал не ради книги. Я писал, чтобы понять. Себя. Мир.
Со временем копились тексты, наблюдения, размышления. Я изучал труды психологов, философов, педагогов, экономистов. Всё это наслаивалось, выстраивалось внутри – искало форму.
И только спустя годы, после рождения дочери, я увидел, как всё складывается в одно. Понял, для кого я пишу. И зачем.
Я хочу, чтобы эта книга стала для неё опорой. Чтобы в трудные моменты она могла открыть её и найти что-то важное. Слово. Мысль. Понимание. Чтобы чувствовала: её слышат. И любят.
И если ты держишь в руках эту книгу – значит, она уже твоя.
Может быть, ты тоже ищешь ответ. Или просто хочешь почувствовать, что тебя понимают. Я писал её для дочери. Но с каждым словом всё больше понимал – это письмо ко всем, кто ищет смыслы. Кто хочет жить не идеально, а по-настоящему. Иногда мы не можем говорить с близкими прямо. Стыдно. Неловко. Или просто боимся быть непонятыми. Один вопрос – и уже спор.
А эта книга – способ сказать то, что не выходит словами. Иногда текст слышат лучше, чем голос.
Всё, что здесь написано, – из любви. Если ты чувствуешь это – значит, всё получилось. Значит, ты тот самый человек, ради кого стоило писать.
Я мечтаю, чтобы эта книга шла рядом с ней по жизни. Чтобы когда-нибудь в трудную минуту она открыла её – и будто бы поговорила со мной.
Чтобы почувствовала моё тепло, даже если я далеко.
Теперь я знаю точно: эта книга для моих детей. И для каждого, кто хочет лучше понять тех, кого любит. Понять, почему мы молчим, когда надо говорить. Почему обижаем, когда любим. Почему уходим, хотя хотим остаться.

Письмо 1. О чём стоит поговорить сначала
В 2021 году я приобрёл видеоигру *The Last of Us Part II* (возможны спойлеры), созданную студией *Naughty Dog*. Если ты знаком с этим названием – знаешь, это не просто шутер. Это история, которую не проходишь – её проживаешь.
Первая часть зацепила меня глубоко. Но вторая… Вторая стала зеркалом. И, как любое хорошее зеркало, она показала не только героев, но и меня.
Сначала ты играешь за девушку, у которой на глазах убивают того, кого она называла отцом. Внутри у неё только месть. Всё, что она делает, – резкое, жестокое, порой безумное. Но ты понимаешь её. Ты с ней. Ты тоже хочешь мести. Это кажется справедливым.
А потом игра делает с тобой невозможное. Ты становишься другой – той, из-за которой погиб человек, ставший для героини самым близким. Ты теперь на другой стороне. И вдруг видишь: она не чудовище. У неё были причины. У неё была своя боль. И своя любовь.
И вот ты, игрок, чувствуешь разрыв. Ты начинаешь понимать обеих. И понимаешь главное: зло и добро не всегда там, где ты привык их видеть.
Мы привыкли судить. По первому взгляду. По своей боли. По роли, которую нам дали. Но если б хотя бы один из героев этой истории остановился – просто, чтобы увидеть другого не через обиду, а по-человечески, трагедии, возможно, и не было бы.
Они не смогли. Но мы, глядя со стороны, можем.
Можем не спешить с выводами. Можем попробовать понять. Можем быть людьми – даже в самых запутанных историях.
Часть первая. Когда мы становимся родителями
В этой книге постараюсь не давать однозначных ответов. Ведь правда часто не одна – у каждой истории как минимум две стороны. И в теме родителей и детей это особенно заметно.
Хочу, чтобы взрослые читатели смогли понять подростков. А подростки – хоть на секунду взглянули на родителей по-другому. Поняли: гиперопека не всегда зло. Но и не всегда благо.
Когда у нас появляются дети, мы вкладываем в них почти всё. Время. Силы. Деньги. Знания. И при этом часто забываем о себе. Это не жертва. Это просто… природа.
Младенец, в отличие от детёнышей животных, абсолютно не приспособлен к жизни. Он не сможет выжить без помощи. Даже если мать будет рядом, но будет спать, сможет ли он сам доползти до мамы и поесть? Очевидно, нет.
Только к совершеннолетию ребёнок более-менее готов к взрослой жизни. Поэтому родители с первых дней живут в режиме полной самоотдачи: сон урывками, тревога 24 на 7, бесконечная забота.
Любой родитель видел своего ребёнка с самого начала. Мы сами не помним себя лет до пяти-семи, а родители помнят каждую мелочь. Они делали за нас всё: кормили, поили, мыли. Видели, как мы впервые улыбнулись, сели, встали, пошли, как прозвучало первое слово.
Они не спали ночами, пока росли зубы. Мама качала тебя на руках по комнате, тихо шепча колыбельную, хотя сама засыпала на ходу. Папа, уставший после работы, учил тебя держать ложку, и пусть каша летела мимо, но для него это была целая победа.
Они помнят твой первый шаг – и то, как ты тут же упал. Первую царапину на коленке, когда весь мир показался трагедией. Первую поездку к врачу, когда сердце родителей сжималось сильнее, чем у тебя от укола. Первую ёлку, первый утренник, где ты стоял в нелепом костюме и смущённо смотрела на зал.
Родители видели все наши победы и все падения. Для них это не мелочи, а целая летопись. Мы вырастаем и забываем, а они помнят всё. Именно из этой памяти, из этой глубокой вовлечённости и рождается то самое чувство, которое невозможно объяснить чужому человеку. Это и есть любовь, выросшая из бессонных ночей, из тревоги, из радости за твой каждый маленький шаг.
С первых недель между мамой и малышом возникает связь, которая крепнет с каждым днём. Женщины меняются. Даже те, кто не проявлял материнских инстинктов, во время беременности становятся другими.
А у мужчин любовь появляется иначе, чуть позже, когда ребёнок рождается. Любовь растёт от вложенных усилий и потраченного времени. Любовь мужчины рождается не из гормонов, а из привычки быть рядом. Из бессонных ночей. Из каждой мелочи, которую он сделал сам.
Не то дорого, что дорого стоило. А то, куда ты вложил сердце, время и терпение.
Раньше я не понимал, почему родительская любовь бывает такой крепкой, даже навязчивой. Пока моя жена не забеременела. И вдруг мне выпал шанс по-настоящему участвовать в воспитании ребёнка. С этого момента всё изменилось. Полный эмоций, я думал, что справлюсь лучше всех. Но реальность быстро швырнула меня – как лодку о скалы.
Часть вторая. Когда мы перестаём понимать друг друга
Одна из самых острых тем – непонимание между родителями и подростками. Мимо неё не проходит почти никто. Классики писали об этом. Психологи бьются над этим.
Ещё Тургенев посвятил этой теме целый роман. А с тех пор прошло полтора века, и всё равно мы спрашиваем: «Почему нас не понимают?»
В каждой семье в какой-то момент звучит знакомое: «Ты меня совсем не понимаешь!»
Если кто-то говорит, что в его семье такого не было, я не верю. Этот кризис приходит в дом как гроза – неожиданно, громко и сразу со всеми.
Мама в панике. Папа с квадратными глазами. Даже кошка и та прячется под кровать. Потому что в доме начинается буря.
Подростковый возраст – это не просто «трудный период». Это землетрясение в теле, разлом в душе и шторм в голове. Тело меняется. Голос лезет вверх и вниз. Настроения скачут. А мозг… он просто не успевает догнать всё, что происходит.
Но самое главное – меняется психика. Мы уже не те, какими нас привыкли видеть. Того ребёнка больше нет.
На его месте молодой человек или девушка со своими мыслями, желаниями, претензиями. Кажется, что мир наконец открыт и пора его завоёвывать. А рядом родители. Которые всё ещё видят в нас детей.
И это… больно. Потому что мы хотим быть услышанными. А нас по-прежнему «воспитывают». Хотим выбрать, а нам указывают. Хотим рискнуть, а нас оберегают.
Родители просто не успевают за нашими изменениями. А мы не хотим, чтобы нам мешали. Вот в этом и есть корень конфликта. Они защищают. А мы чувствуем: нас сдерживают.
Во второй раз это непонимание возвращается к нам уже тогда, когда мы сами становимся родителями. Мы меняемся местами. Теперь уже мы – взрослые, которые не могут найти общий язык со своими детьми.
Когда-то, в пылу ссоры, мы обещали себе: «Я никогда не буду таким, как мои родители. Я буду слушать. Понимать. Принимать».
Но потом приходит реальность. И ты вдруг понимаешь – это не так просто. Это трудно и больно. И чаще всего безуспешно.
Мы хотим уберечь. Чтобы у них всё было лучше. Без наших ошибок. И стараемся. Очень стараемся. Но – перегибаем.
Мы начинаем навязывать, контролировать. Подсказывать «как правильно». Лезем в их выбор, уверенные, что «знаем лучше».
А в итоге – теряем. Связь. Доверие. Разговор по душам.
Дети закрываются. Отдаляются. Начинают делать назло. Бунтовать.
А потом приходит улица. И чужие люди, которые вдруг кажутся ближе, чем мы.
С ними легче. Они не требуют. Не вмешиваются. Не упрекают.
И вот уже голос отца звучит не как опора, а как помеха. А мама – словно помеха в эфире. И всё зависит от того, куда заведёт эта улица.
Я пишу всё это не как учёный. Не как психолог. А как человек, который сам был ребёнком. И сам стал отцом.
Мои родители тоже были строгими. Иногда чересчур. Мы часто не сходились во мнениях. Они запрещали, наказывали, давили. Не из злости – из страха. Из желания «сделать правильно». А мне просто хотелось понять этот мир. Самому. Сделать свои ошибки. Побегать по краю. Иногда даже упасть. Чтобы встать самому.
Сейчас я понимаю их лучше. Но тогда не понимал. И иногда злился, плакал, закрывался. Мечтал убежать.
А потом вырос.
И теперь сам ловлю себя на том, как хочу защитить тебя, не давать тебе идти туда, где может быть боль. И снова приходится делать выбор: держать или отпускать. Направить или дать пройти самой.
Я не всегда буду идеальным отцом. Но я обещаю быть рядом.
Ты – самое лучшее, что случилось со мной в этой жизни. И всё, что я пишу здесь, – не просто слова. Это моя попытка остаться с тобой в любом моменте, даже если я молчу, даже если ты далеко, даже если я однажды не смогу ответить сразу.
И я знаю, ты справишься. Даже тогда, когда будет казаться, что не справляешься. Потому что в тебе больше силы, чем ты думаешь. А если споткнёшься, знай: ты не одна. Моё плечо рядом, даже если ты его не видишь. Я просто… всегда с тобой. Где бы ты ни была.

Письмо 2. От первобытной страсти к зрелой любви
Часть первая. Сознание, прошивка и иллюзия воспитания
Почему мы вообще уверены, что можем кого-то воспитать правильно? Что это значит – правильно? Для кого?
Когда появляется ребёнок, мы будто забываем, что он не проект, не клон, не послушный исполнитель нашего сценария. Он – новая вселенная. А мы, вместо того чтобы быть рядом, пытаемся ей командовать.
Только вселенная команд не слушает.
Кажется, что воспитание – это когда ты знаешь, как правильно, а ребёнок – пока нет. Типа, ты мудрый сенсей, а он безвольный ниндзя в памперсах.
Но на практике всё чаще бывает наоборот. Ты вычитываешь умные книги, планируешь развивашки, варишь брокколи… А он в это время пытается засунуть пульт от телевизора в кошку.
Кто кого воспитывает – это ещё вопрос.
Сознание человека – странная штука. Слишком странная, чтобы с ним было просто. Снаружи – вроде бы обычный человек: кожа, кости, глаза, зубы, ногти, паспорт. А внутри – вселенная, загадки, тараканы и тысяча «почему».
Миллионы лет человек эволюционировал физически. Растёт мозг – уменьшаются челюсти. Подстраиваются мышцы – перестраиваются кости. Меняется зрение, походка, хват. И вот постепенно вырисовывается тот самый облик, который мы сегодня видим в зеркале.
А потом пауза. Как будто природа сказала: «Ну ладно, снаружи хватит. Теперь займёмся мозгом». И тут началось самое интересное. Наш разум до сих пор словно в режиме настройки: ищет, пробует, пугается, придумывает нам тысячи ненужных занятий, а потом удивлённо спрашивает: «Эй, а зачем я это сделал?». Если бы у разума были руки, он без колебаний чесал бы затылок.
Если посмотреть со стороны, человек – существо довольно посредственное. Не самый сильный, не самый быстрый, летать не умеет, клыков и когтей нет, меха тоже. Всё, чем он может похвастаться, – мозг. Но и с ним, честно говоря, мы до конца так и не разобрались. Потому что мозг – это не просто орган, а будто второе тело, которое растёт медленно, по слоям, словно строится небоскрёб. Сначала фундамент, потом этажи, потом лестницы и лифты. И ещё не факт, что лифты всегда доезжают куда надо.
И вот в этой конструкции нам, родителям, предлагают разобраться, научить, воспитать, направить.
Ага. Щас.
Когда у нас появляется ребёнок, мы почему-то уверены: вот он – чистый лист. Маленький, удобный, пока ещё не спорит, и мы сейчас всё в него заложим: сон, манная каша и система воспитания по методу бабушки.
Мол, научим хорошему, укажем правильный путь, разовьём, воспитаем, вылепим из этого комочка настоящего человека. Вон, у Машки сын в шахматы с двух лет шпарит – и наш будет! У Петьки дочка в четыре английский знает – и наша выучит. Ну а что? Мы же родители. Кто, если не мы?
А если честно, мы очень часто хотим в ребёнке не просто «воспитать хорошего человека». Мы хотим исправить себя. Прожить через него то, чего не получилось у нас. Добиться за него того, чего сами не добились. Вырастить не «его», а свою лучшую версию.
И в этот свежий, пустой, удивлённый мозг вместо заботы, свободы, любви и познания окружающего мира мы, сами того не замечая, передаём свои страхи: своё «не получится», «мир опасен», «будь как все», «не высовывайся». И всё это под лозунгом «Я хочу, чтобы тебе было лучше».
А потом ты садишься с этим крошечным «архитектором будущего» лепить грибочек из пластилина, ну, как положено: ёжик из каштана, листики в форме сердца, клюква на зубочистках… А он смотрит на всё это богатство с видом инженера на ярмарке хендмейда и спокойно говорит: «Можно я лучше рассчитаю устойчивость фермы под нагрузкой? Мне это как-то логичнее». И ты сидишь – шишки в руках, клей в волосах, душевный ступор в глазах – и думаешь: «Это точно мой ребёнок? Или в роддоме по ошибке выдали будущего мостостроителя?»
Вот тут и приходит понимание: ребёнок приходит в этот мир не пустым. Он приходит уже с настройками. Своими «заводскими параметрами», которые ты не заказывал, но теперь – вот, держи, воспитывай.
У него уже есть характер, реакции, склонности. И они могут вообще не совпадать с нашими. Скорее всего – не совпадут.
Но мы же взрослые. Мы же «знаем, как надо». Поэтому вместо того, чтобы наблюдать и понимать, достаём свой родительский набор инструментов – виртуальный напильник, педагогическую отвёртку и молоток амбиций. И вперёд: «Это сточим… Тут поправим… Вот здесь прокачаем!»
А потом проходит лет десять. Вы сидите на кухне – чай, печеньки, взрослые разговоры. И тут тебе как будто кто-то по затылку дал – прозрение пришло: «Так… это не моя улучшенная копия, а самостоятельный проект с багами, апдейтами и встроенными по умолчанию моими страхами, только теперь с расширенной тревожностью и железобетонными аргументами. И всё это в 4K, с объёмным звуком. А шутит он лучше меня. Что, признаться, даже немного обидно».
Взгляд изнутри – глазами ребёнка
А теперь давай представим, что чувствует сам ребёнок.
Он только пришёл в этот мир. Всё для него в первый раз. Всё ново, странно и немного страшно.
Он ещё только осваивается – и тут к нему сразу с расписанием:
– Так, смотри. Ты у нас пойдёшь в сад, потом в школу, будешь играть на скрипке, заниматься танцами, математикой и английским. А ещё плавание! Не забудь улыбаться, быть вежливым и удобным. И да, главное – не разочаруй нас!
Он бы и рад быть хорошим. Честно. Только у него в голове пока не чек-лист, а радуга, динозавр и мысль: «А можно я просто посмотрю, как у бабушки суп кипит?..»
Но вместо наблюдения – давление. Вместо исследования – инструкции. Вместо простого «а что тебе интересно?» – список, где уже всё за него выбрали.
И вдруг начинаются ещё и фобии.
– Не трогай! Упадёшь. Заболеешь. Потеряешься. Обожжёшься. Утонешь. Простудишься.
Он ещё не успел испугаться, а ему уже всё объяснили: жить страшно. Мир опасен. Сиди тихо. Думай как надо. Не выделяйся.
Вместо того чтобы пробовать, ошибаться, падать, вставать и делать выводы, он уже боится.
Даже не попробовал, а уже знает, «как правильно».
Он не прожил – он перешагнул через то, что должен был прочувствовать. Через опыт, через реальность, через свою первую шишку, ссадину, открытие. И он смотрит на родителей и думает: «Я вроде только появился… А от меня уже так много ждут. Уже не могу быть собой. Уже кому-то что-то должен. А можно я пока просто побуду… собой?»
Прежде чем «воспитывать», нужно понять, кто перед тобой. Не шаблон, не набор функций, не чей-то идеал. А живой человек. Со своими особенностями. С внутренним миром, который не ты придумал.
Именно об этом – дальше.
Часть вторая. Почему девочка – это не просто женщина
В конном спорте нет мужских и женских категорий. Конь – он и есть конь: грациозный, копытами хрустит, мощью переливается. Скакать умеешь – скачи. Никого не волнует, кто ты по паспорту.
А вот на Олимпиаде всё строго. Прыжки в длину? Мужчины отдельно, женщины отдельно. Бокс? И подавно. Даже в шахматах, где от мышц толку ноль, всё равно: мужская категория, женская категория.
Почему? Потому что человек не конь. Он сложнее. И главная сложность началась не тогда, когда стал умным. А когда встал на ноги.
Когда-то давно нечто, похожее на обезьяну, спустилось с дерева и подумало: «Хватит лазить, пойду пешком». И пошло. А вместе с этим начались проблемы.
Раньше самка рожала, не вставая с четверенек – быстро и без особых мук. Логично. А прямоходящей падать уже было неудобно. И опасно. А рожать всё ещё нужно. Перед эволюцией встал нетривиальный вопрос: как приспособить женщину к новой позе при старой задаче.
С этого момента тело женщины пошло по своему, особому маршруту. Всё ради одной задачи: продолжения рода.
Центр тяжести сместился, таз стал шире и пластичнее – чтобы ребёнок мог пройти. Зато скорость и выносливость снизились. Появился подкожный жир – и как запас, и как броня.
Гормоны стали сложнее: чтобы вынашивать, кормить, предчувствовать опасность, беспокоиться заранее. Вместе с телом изменилась и психика. Самка человека стала той, на ком держится хаос, забота и эмоциональная устойчивость.
В результате женщины начали отставать в скорости и выносливости, а со временем стали физически слабее. Охотиться вместе с ними стало опасно – они уже не могли угнаться за добычей или защищаться так же, как мужчины.
Так появились первые поселения. Женщин – в лагерь, мужчин – за добычей.
Но тут природа кинула ещё один «фокус»: человеческий ребёнок начал рождаться недоношенным. Голова-то большая. Оставь в утробе подольше – не пройдёт. Значит, рожать пораньше. А кто-нибудь потом «досидит».
И сидели. Мама, бабушки, племя, а потом и детсад.
У лошади жеребёнок встает на ноги через 15 минут. У медведицы всё вообще прекрасно: беременность в спячке, роды в спячке. Весна – она просыпается, а дети уже почти подростки. Удобно? А то.
А у человека – нет. Ребёнок выходит в мир с одним навыком: громко кричать. Всё остальное под присмотром, подстройкой и с регулярной подачей каши. И чаще всего со стороны женщины.
Пока один бегал с дубиной за мамонтом, другая сохраняла тепло, пищу и потомство. Это были не просто разные обязанности. Это были две разные прошивки.
Да, сегодня у нас вместо пещеры бетонка, вместо дубины ноутбук, а мамонта давно заменил холодильник. Но прошивки остались. Они внутри. Даже Олимпиада-2024 во Франции об этом напомнила. Просто тело ещё не успело забыть, как всё начиналось.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе