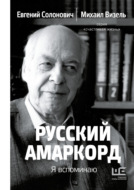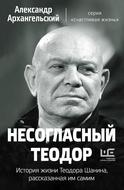Читать книгу: «Русский иероглиф. История жизни Инны Ли, рассказанная ею самой», страница 3
А еще меня повторно приняли в комсомол: советский опыт больше не засчитывался. На собрании нужно было главным образом искать и находить в себе что-то нехорошее. И произносить монолог на этические темы. Я послушала других, настроилась на взятую ими покаянную ноту и отлично справилась с задачей. Не подозревая, что мастерство самобичевания вскоре будет востребовано постоянно и повсеместно.
Но особенно остро я пережила свою раздвоенность, когда поступила в Бэйвай (так сокращенно называли Пекинский институт иностранных языков; теперь он получил статус университета). Мы пошли оформляться вместе с Аллой: я на первый курс, она на подготовительное отделение. Оделись, как привыкли, по-европейски, в юбочки, блузочки. У Аллы был хвост роскошный, ниже пояса, единственный такой на весь Пекин, наверное. Заходим на территорию кампуса – и заливаемся краской. Вокруг сплошные выходцы из бедноты. Латка на латке. Особенно мальчишки. Причем не только шорты залатанные: я впервые увидела заплаты на трикотажных теннисках и майках.
Нас распределили в общежитие, шесть человек в двенадцатиметровой комнате. Три двухъярусные кровати. Деревянные, без всяких пружинных матрасов. Матрасы, тоненькие, ватные, мы привозили с собой, одеяла тоже. Стол один на всех. И табуреточки, которых не хватало, так что я предпочитала сидеть на кровати.
Но самое главное – распорядок дня как в казарме. В шесть утра звонок – дзынь. Вскакиваешь. Немедленно вся группа выбегает на улицу, строится, и в любое время года, в любую погоду начинается утренняя зарядка. В столовую сначала ходили поодиночке, потом стали водить строем. Еда тоже сама простая. В Китае был голод после коммун, карточная система. Нам выдавали книжечки – мама это называла “заборные книжки”, я думала, что оно от слова “забор”, никак не могла понять, что от слова “забирать”. В них отмечалось, сколько ты съел риса за день и пампушек. Мясо два раза в неделю. Причем какое мясо… Спустя годы, уже после тюрьмы, мама начала рассказывать: “Инн, ты знаешь, мне же давали картошку нечищеную. А если иногда доставалось мясо, то, бывало, вместе с кожей, и прямо щетина торчала”. Говорю: “Мама, я же в институте все время так ела. И мясо такое, и картошку в кожуре”. Так что мне в тюрьме было привычнее, чем ей, проще приспособиться. (Но опять я забегаю вперед, не могу удержаться.)
Студентам был назначен паек – до 15 кило круп или муки в месяц, полкило в день. Мне-то хватало. Но я ведь дома рис почти не ела; поэтому девчонки мои удивлялись, когда я ограничивалась половинкой пиалы: “Ты чего, наедаешься?” – “Наедаюсь, мне больше не надо”. Зато, когда я приходила домой по субботам, мне хотелось мясца. Повар у нас очень добрый был, хороший старик, начинал четырнадцатилетним поваренком в Шанхае, в русском ресторане, прекрасно готовил. Позднее он работал у Буша-старшего, когда тот открыл американское представительство в Пекине. Однажды приезжаю на побывку, а мама говорит: “Наш повар хочет тебя побаловать, он сегодня рябчика приготовил”. Говорю: “Мам, я не хочу рябчика. Ну там же одни кости. Я свинку хочу”.
До поры до времени проблемы рядовых китайцев обходили наш дом стороной. Наша семья не прошла через самый страшный голод 1959–1960 годов. Единственное, стали получать нормированный сахар, которого, как маме казалось, теперь не хватало; она его очень любила. Но еще сохранялись специальные магазины для иностранцев, где можно было купить и сливочное масло, и французские булки. А был, конечно, и спецраспределитель для руководителей.
И тут возникла еще одна проблема, которая может показаться смешной, но деталь важная. Посуду в общежитие все приносили свою. Но у нас дома были только серебряные приборы. Мама купила их в русском эмигрантском магазине; ей очень нравилось, что на них выгравирован вензель “К”, – конечно, ложки не кишкинские, откуда им здесь взяться, но приятно. Но я же не могу с этой большой серебряной ложкой заявиться в пролетарскую среду, где все едят алюминиевыми китайскими ложечками. А пользоваться алюминиевой тоже не в состоянии – они так быстро облезали, становились зеленоватыми, противными. Как я в рот буду эту ложку совать? Я нашла выход. Взяла русскую деревянную ложку, расписную. И когда спрашивали: “А чего это ты такой ложкой ешь?” – я отвечала: “Такими ложками в Советском Союзе едят колхозники”. Ну, колхозники – совсем другое дело!
На меня даже приходили посмотреть; ложка меня прославила на весь институт.
5
Преподаватели были в основном китайские, но на испанском отделении (я выбрала его из-за восторга перед кубинской революцией) работала супружеская пара, из эмигрантов, что когда-то перебрались из Испании в Москву: они стали основателями китайской испанистики. А потом начали приглашать левых латиноамериканцев – мексиканцев, колумбийцев, чилийцев. То есть были носители языка. Среди студентов тоже, пусть и редко, попадались представители соцстран. Возникали разные сюжеты, и романтические, и драматические. В дружественном нам Пекинском университете, например, учился парень из ГДР. У него была китайская девушка, которую внезапно вызвали и отправили вглубь страны, в Синьцзян, не дав никому сообщить и запретив вступать в переписку. Он очень переживал, искал ее, но без толку. Был и другой случай, напрямую задевший нашу семью. К отцу пришел советский аспирант Евгений Синицын, на мой тогдашний взгляд, уже очень старый, я думаю, ему было двадцать семь – двадцать восемь. И рассказал, что у него девушка китайская, они уже решили пожениться, и вдруг им приказали прекратить общение: ее тоже куда-то отправляют. И говорит: “Товарищ Ли Лисань, я знаю, что у вас жена советская, вы не могли бы мне помочь? Вы же должны меня понять”. Ну, они поговорили. А когда Синицын ушел, отец сказал довольно мрачно: “Вы же понимаете, что я ничего не смогу для него сделать: как бы мне самому не запретили мой брак”.
Я услышала – и окаменела… Но постаралась спрятаться от тяжких мыслей.
Родители, конечно, понимали, что быть китаруской становится токсично. А я ни на что внимания не обращала, мы с Аллой были на особом положении, поэтому немножко наглые, самоуверенные. В Китае есть такая поговорка: новорожденный теленок тигра не боится. Поэтому мы общались с кем хотели, на танцы ходили и даже, когда папа уезжал в командировки, устраивали танцульки у нас дома: мама разрешала, при условии, что папа ничего не узнает. И когда кубинцы стали появляться в Китае – 1963-й, 1964 год, – мы их тоже стали приглашать. Против этих даже отец не возражал: они революционные, “свои”.
Но тут у нашей шестнадцатилетней Аллы начался роман с болгарином. Он был старше нее, красивый парень, по-русски говорил прекрасно, маме очень нравился. Кстати, его мать была членом ЦК Болгарской компартии. И наша мама все переживала: “Если бы не испортились отношения, если бы не этот Хрущев, как все было бы хорошо. Ляля бы вышла замуж, уехала бы в Болгарию и горя бы не знала”. Однако Болгария не Куба – это не страна свершающейся революции, но ближайший союзник СССР. То есть пока еще не полный враг, но уже под некоторым подозрением. В отличие от “правильных” кубинцев “ревизионист” Теодоси – так звали Лялиного ухажера – мог приходить лишь тайком, когда папы дома не было.
Долгое время тайну удавалось сохранять, но как-то раз мы всей компанией решили отправиться в Пекинский университет на танцы. Теодоси должен был заглянуть за нами. И вот звонок с улицы. Наш особняк стоял в глубине двора, и, чтобы впустить гостя, нужно было через открытое пространство пройти к воротам. Обычно отпирал вахтер, но тут отец почему-то пошел сам открывать. Думаю, надо его опередить. Подбегаю, а он уже отворяет большие ворота, предназначенные для проезда машины. За воротами – растерявшийся Теодоси, который знает, что ему нельзя показываться на глаза отцу. В полной растерянности он бормочет: “Нихао”. Вопреки всем ожиданиям отец просто кивнул, ни о чем не спросив. Мне показалось, он даже не осознал, что произошло. И я провела Теодоси в дом.
Причина отцовской невнимательности была проста и страшна: он уже был полностью погружен в свои политические неприятности. Его постоянная задумчивость была формой защиты от окружающей реальности.
И теперь от главки к главке, от эпизода к эпизоду о неприятностях будет все больше, а о привычных радостях все меньше, пока не наступит перелом и в политической, и в моей собственной жизни.
Глава 3
Государственные яблочки
1
К моменту поступления я уже немного знала испанский: целый год мы с Аллой занимались у кубинской журналистки (и бывшей актрисы) Марии Офелии. Она подарила нам кучу кубинских дамских журналов, поскольку, вопреки революционным порывам, Куба еще не прониклась духом социалистической морали и право на развлечения не отрицала. В итоге из обычной группы, начинавшей с нуля, я перевелась в более продвинутую, где учились выпускники спецшколы при нашем институте. Считалось, что это очень буржуазная, испорченная группа. Хотя на самом деле буржуазной и испорченной была только я. Но меня не трогали, я пока была защищена отцовской тенью, а в группе уже к концу семестра началась кампания проработки.
Одним из буржуазных преступлений, инкриминируемых студентам, стала вечеринка, которую они устроили по случаю европейского Нового года. Причем давным-давно, еще в школе. Они – о ужас! – поставили елочку. И не только пели испанские песни, не только танцевали, но и варили кофе. Кофе!!! Кошмар, испорченность! А несколько мальчишек, это уже в институте, удрали за пределы кампуса и заказали себе лапшу в трактире. Какой позор. Лапша – в трактире. Теперь им было велено обдумывать свою испорченность и публично каяться. Я сидела на собраниях и тихонечко думала насчет себя: “Что же тогда сделают со мной, если до меня доберутся?”
Собрания проходили по определенной схеме. Сначала кто-то произносил разгромный доклад. А потом каждому полагалось вспомнить по четко составленным пунктам: что вы делали неправильного, нехорошего, ошибочного. Проанализируйте свои мотивации и напишите самокритику. Я слушала покаянные выступления и взвешивала, что смогу написать, а чего не буду писать ни за что. Я же не стану рассказывать, что я каждое утро пью кофе дома. На протяжении стольких лет. А что признаю, в чем покаюсь? Начала припоминать какие-то совсем безобидные вещи. Например, в анкете был пункт: чем вы себе позволяете пользоваться бесплатно? Не присваивали ли госсобственность? Я вспомнила случай, как мы с мамой в курортном районе ходили по какому-то государственному саду. И я там подобрала упавшие яблочки, позволила себе их съесть. Государственные яблочки съела. Так и написала. Но, повторюсь, самое мучительное было решать, о чем можно написать, а о чем – табу.
Об отце и последствиях для него я пока еще не думала; мне казалось, что он вне подозрений.
2
Маме я об этом мало рассказывала. И не только потому, что мы как-то чаще и теснее общались в те годы с сестрой. Просто не хотелось тратить на это домашнее счастливое время. Дома было так хорошо, я все-все могла себе позволить, вплоть до империалистического кофе. Но отпускали нас так накоротко… По субботам в шестом часу вечера я садилась на велосипед (привезенный из Москвы, с ножным тормозом – у китайцев были только с ручным) и мчалась домой. А на другой день полвосьмого пополудни должна была явиться в институт. Специально для того, чтобы никто не отлынивал, как в армии, устраивали так называемые совместные самостоятельные занятия, по группам. Изволь явиться как штык и сидеть, уткнувшись в учебники. Я приезжала всегда самой последней, но входила точно по звонку. Взмыленная, но не нарушившая правила.
Между тем ситуация все ухудшалась. Нас как бы готовили к полному разрыву с СССР.
Была создана специальная группа спичрайтеров во главе с Кан Шэном, которого я считаю одним из главных виновников гибели отца. Они стали печатать статью за статьей: в Советском Союзе началась реставрация капитализма, возрождается класс буржуазии. Повторялся один и тот же вывод: нельзя допустить в Китае прихода к власти просоветских ревизионистов. Кстати, войны с настоящей буржуазией тогда не очень опасались, потому что Мао Цзэдун сказал: все империалисты – бумажные тигры. И атомная бомба – тоже бумажный тигр. А вот могущественный СССР…
А еще нас регулярно посылали в деревню. Как в Советском Союзе отправляли на картошку, так в Китае вывозили на пшеницу. Сначала ненадолго, на несколько дней, максимум на неделю. Потом, к 1965-му, начались политические кампании в деревне: чистка низовых организаций. И нас стали отправлять в статусе пропагандистских отрядов. Первый раз мы провели под Пекином около двух месяцев. Так и случилось первое мое соприкосновение с Китаем большинства.
Это тогда называлось “жизнь с крестьянами”. Питаться, естественно, нужно было вместе с ними, дома. Небольшими группками по два – три человека мы ходили сегодня к одному, завтра – к другому. В крестьянских домах был кан; в русском языке есть такое заимствованное слово: на Севере так называли что-то вроде огромной лежанки, под которую заводили дымоход для обогрева. Он полкомнаты занимал, этот кан. Ночью люди на нем спали, а днем складывали одеяла, ставили на кан маленький столик и за ним ели. Сидеть нужно было, сняв обувь и поджав ноги. Я этого не умела делать. Нас также инструктировали, чтобы мы не вели себя как баричи, а помогали по хозяйству. Но по хозяйству я тоже ничего не умела – ни готовить, ни стирать. Мне дома это не нужно было. Одежду – уже тогда! – у нас стирала машина. Пельмени лепил повар. А тут я всему научилась, с нуля.
Занимались мы, можно сказать, социологическими опросами. Но в классовом духе. Нужно было фиксировать классовое происхождение, социальное положение до 1949 года, как оно изменилось после 1949-го, имущественный статус и так далее. И еще записывать рассказы крестьян об их горькой жизни до освобождения, чтобы использовать в агитационных целях; тогда как раз проходила кампания “вспоминая горечи, ощущать сладость нынешней жизни”.
Но обычно получалось как. Мы приходим, просим крестьян постарше: “Поделитесь воспоминаниями о вашем горьком прошлом”. А они, чуть ли не повально, начинают вспоминать голод после создания народных коммун. Политинструктор объяснял нам: “Что с них взять, они несознательные. Вы должны их направлять в нужную сторону. Как только начнут жаловаться, прерывайте их: а вы лучше расскажите, как вы жили до 1949 года”.
А еще там был один как бы помещик. Ну, я помнила литературных помещиков у Льва Толстого, Тургенева, в русской классике. От бабушки слышала осторожные предания о нашем собственном помещичьем роде. А тут живой помещик! При этом китайский. И практически нищий. Дом у него был побольше, чем у соседей, но землю и все прочее имущество экспроприировали, и все пришло в такое запустение, что просто кошмар. Сплошная грязь, убогость, неустроенность. Он сам был молодой, лет сорока. Но такой весь забитый, жалкий. И в основном отмалчивался – видимо, не знал, что говорить, а о чем лучше не стоит…
Конечно, мы ходили на работу в поле. Это все потом мне тоже пригодилось.
3
На четвертом курсе мы поехали уже надолго, на полгода, и не под Пекин, а в дальнюю провинцию Шаньси – очень консервативную, кондовую. Жили у местных, спали с ними на одном кане; все освещение – пузырек из-под чернил, в нем масло, фитиль, слабый огонек, а вокруг кромешная тьма.
Нас инструктировали:
– Девочки, если решите помыть ноги, не выносите тазики во двор. Только в закрытом помещении. Считается неприличным, если женщина демонстрирует обнаженные ноги. И воду экономьте, район засушливый, колодцы и водоемы в жару пересохнут.
Мы старались экономить. Утром наливали воду в тазик, умывались без мыла; возвращались в обед, использовали ту же воду – и тоже без мыла. И только в конце дня позволяли себе с мылом помыться и воду выплеснуть.
И еда была скудная, хотя провинция считалась не самой голодной. Они там испокон веков пшеницу сеют. А тогда в Китае было так: что сеешь, то и ешь. То есть риса не было совсем, но была белая мука, что в Китае считалось очень хорошим уровнем. Впрочем, кроме муки – ничего. Мы ели лапшу три раза в день; к ней полагались лишь уксус и красный перец, слегка обжаренный в масле. Даже овощей почти не было, что уж говорить о мясе. Ну, можно было хотя бы набить желудок, и на том спасибо.
Однажды кто-то из преподавателей поехал по делам в Пекин. Мама узнала, решила передать посылку, подкормить любимую девочку, собрала сумку с продуктами. И эту сумку преподавательница передала нашему политинструктору. Он меня вызывает к себе и строго так говорит: “Инна, тут тебе мама прислала посылку. Но мы считаем, что это неправильно. Потому что ты здесь для того, чтобы приобщаться к жизни крестьян, а не для того, чтобы питаться отдельно от них. Поэтому мы на партсобрании всё обсудили и решили, что вернем посылку маме. А сумку бери, сумка хорошая, крепкая”. Я была очень расстроена, конечно. Прихожу домой – и обнаруживаю, что в уголок сумки завалился плавленый сырок “Дружба”. А плавленого сыра даже в Пекине не было – его иногда нам из Москвы присылали родственники.
Я смотрю – ах! Какое счастье.
До сих пор помню этот вкус.
Но я даже не посмела поделиться с подружкой, потому что она меня осудила бы. Потихонечку, по крошечному кусочку сама съела.
В поле, где мы работали с местными, не было скотины, лошадей. Во время осеннего сева бабы впрягались в сеялку, а мужик правил и шел сзади. Ну и мы, девчонки, впрягались. Воду носили издалека. Научились пользоваться коромыслом. Вроде бы все шло неплохо, но тут я (по доброй воле!) занялась своим собственным идейным перевоспитанием – начала искать, что во мне неправильно. Пришла к выводу, что ощущаю чуждость по отношению к этим крестьянам, не могу их понять, потому что заразилась буржуазным духом. Стала себя упрекать: ты обязана проникнуться их заботами, почувствовать их близкими, родными. Старайся, Инна. Но никак не получалось, и я испытывала гнетущее чувство.
Были и смешные эпизоды. Праздник Весны. Всех студентов свезли в уездный центр (мы были распределены по разным деревням), чтобы крестьяне могли спокойно попраздновать, не тратясь на наше угощение. Вечером нас собрали на политзанятия в уездном зале, где было электричество. Мы входим в этот зал, смотрим друг на друга и начинаем хохотать. Потому что все такие грязные, в копоти. У нас же не было ни зеркал, ни чистых водоемов, чтобы посмотреть на свое отражение.
В конце концов устроили нам баню. А бани были старые, еще японцы, видимо, строили. Большие, с общим бассейном. Сначала девчонок пустили в этот бассейн, потом мальчишек. Впервые за почти полгода мы помылись – какое счастье!
Трудно было. С другой стороны, мы же были воспитаны советской литературой. Я вспоминала шолоховских персонажей, мальчишки вообще воображали себя потенциальными жертвами революции. Кто-то говорил: “Вот я иду вечером по деревне и все думаю, что кулаки нас ненавидят. И смотрю по сторонам, как бы кто-нибудь чего-нибудь не замыслил”. Такой настрой был, героизация. Конечно, смешно, задним числом даже дико. С другой стороны, это поддерживало, наверное, как-то.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе