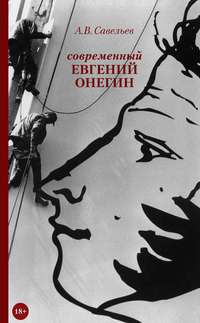Читать книгу: «Современный Евгений Онегин», страница 5
«Смысл пасквиля, сочиненного Хазиным, заключается в том, что он пытается сравнивать наш современный Ленинград с Петербургом пушкинской эпохи и доказывать, что наш век хуже века Онегина. Приглядитесь хотя бы к некоторым строчкам этой “пародии”. Всё в нашем современном Ленинграде автору не нравится. Он злопыхательствует, возводит клевету на советских людей, на Ленинград. То ли дело век Онегина – золотой век, по мнению Хазина. Теперь не то – появился жилотдел, карточки, пропуска. Девушки, те неземные, эфирные создания, которыми раньше восхищался Онегин, стали теперь регулировщиками уличного движения, ремонтируют ленинградские дома и т. д. И т. п. Позвольте процитировать одно только место из этой “пародии”:
В трамвай садится наш Евгений
О, бедный, милый человек!
Не знал таких передвижений
Его непросвещенный век.
Судьба Евгения хранила,
Ему лишь ногу отдавило
И только раз, толкнув в живот,
Ему сказали: “Идиот”!
Он, вспомнив древние порядки,
Решил дуэлью кончить спор,
Полез в карман…
Но кто-то спёр
Уже давно его перчатки.
За неименьем таковых
Смолчал Онегин и притих.
Вот какой был Ленинград и каким он стал теперь: плохим, некультурным, грубым и в каком неприглядном виде он предстал перед бедным, милым Онегиным. Вот каким представил Ленинград и ленинградцев пошляк Хазин»74.
Как видим, пронизанный партийным политическим пиаром образ советского пародиста в 1940-е гг. вполне мог сближаться и даже совпадать с образом советского диссидента 1950–1970-х гг. Тем не менее пародисты в СССР не переводились во все времена, хотя некоторые из них, к сожалению, мало чем отличались от литературных цензоров.
Литературная пародия, лишенная партийной директивности, но близкая к хамоватой цензурной цепкости, продолжала существовать в советские «застойные» времена, к примеру, в творчестве известного литератора А.А. Иванова. Творческий метод написания пародий у А.А. Иванова можно было назвать цензурно-редакционным, хотя для смягчения общего читательского впечатления от проделываемых травестийных трюков именовался он иногда поисковым. Основной принцип его действия был прост. Найдет А.А. Иванов, бывало, какой-нибудь несовершенный или не совсем удачный стишок у собрата-поэта, к примеру – такой:
Нет у меня Арины Родионовны
И некому мне сказки говорить.
И под охрипший ящик радиоловый
Приходится обед себе варить.
И тут же пишет небольшую пародию по этой теме:
Нет у меня Арины Родионовны,
И я от бытовых хлопот устал.
Не спится, няня. Голос радиоловый
Мне заменил магический кристалл.
Грущу, лишенный близости старушкиной,
От этого недолго захандрить.
Нет у меня того, что есть у Пушкина,
И нечего об этом говорить.
Нет Кюхли, нет Жуковского, нет Пущина,
Нет Дельвига! Не те пошли друзья.
В Большой энциклопедии пропущена
Красивая фамилия моя.
Мои рубашки в прачечной стираются,
Варю обед, сажусь чайку попить.
Никто меня, видать, не собирается
Обнять и, в гроб сходя, благословить.
Поэтому-то я готовлюсь к худшему,
К тому, что не оценят, не поймут…
А впрочем, что ни делается – к лучшему:
Меня, по крайней мере, не убьют75.
Простому советскому читателю, понятно, и любопытно и смешно наблюдать подобные стихотворные «перелицовки». Но вот пародируемый Ивановым поэт-неофит уже и унижен, и оскорблен. Однако официальная советская цензура, безусловно, довольна деятельностью своего внештатного поэта-острослова. К тому же и сам Иванов при деле: публикует один за другим сборники юмористических стихов, а затем и на телевидение ведущим передачи «Вокруг смеха» устроился, чтобы по цензурным меркам высмеивать всех пишуших самобытные стихи в СССР своими пародиями. Для меня же цензурный стиль работы, унижающий авторов пародируемых произведений, был с самого начала совершенно неприемлем, поскольку нетрудно было сообразить, что многие пародии по качеству их травестийной отделки стояли гораздо ниже, чем пародируемые ими литературные произведения-образцы.
Политико-идеологические факторы, оказывавшие чрезвычайно сильное влияние на пародистов и их творчество в советское время, тем не менее, нельзя считать доминирующими. Очевидно, что неограниченные возможности для литературного пародирования представляют и приемы так называемых языковых (лингвистических) игр. Приемы эти столь многочисленны и разнообразны, что перечислять и давать им всем характеристики в этой «объяснительной записке» совершенно не представляется возможным; к тому же почти все они уже были охарактеризованы в соответствующих работах справочного и исследовательского характера76. Хочу подчеркнуть лишь, что именно с помощью приемов лингвистических игр можно наиболее точно передать то психологическое состояние, которое, пожалуй, сильнее всего волновало меня в период 1987–1991 гг., – состояние, пронизанное чувством полнейшей абсурдности всего происходящего вокруг. В те дни мне казалось иногда, что в советской повседневности я наблюдаю какую-то плохо поставленную пьесу из авангардистского театра абсурда, и, как увидит читатель, это же чувство отражалось даже в советской прессе того времени (более подробно коснусь этого в разделе «Синтез»). В заключение своего краткого резюме о значении лингвистических игр для развития жанра пародии хотелось бы привести всего один пример – фрагмент из упоминавшегося сочинения Д.Д. Минаева. Пародируя письмо Татьяны к Онегину, автор дополняет его мысленным комментарием своего героя – Онегина, создавая тем самым не только пародийную, но и абсурдную, по сути дела, ситуацию.
Я к вам пишу – чего же боле?
(В любви признанье! Вот те на!)
Теперь я знаю, в вашей воле
Подумать, как смешна она.
(Ещё бы! Как ещё смешна!)
Сначала я молчать хотела
(Недурно б было помолчать!)
Когда б надежду я имела
Хоть раз в неделю вас встречать,
Чтоб только слушать ваши речи…
(Вот любопытная черта!
Не раскрывал пред ней я рта
От первой до последней встречи)
Зачем вы посетили нас?
(О, мой создатель! Вот беда-то?)
Я никогда б не знала вас
И, новым чувством не объята,
Была б со временем – как знать? —
(Так чем же я-то мог мешать?
Иль понимать я стал всё туго!..)
И превосходная супруга,
И добродетельная мать.
(Живи, как знаешь, в этом свете!
С кем хочешь шествуй к алтарю!..)
Но в высшем суждено совете:
Ты мой теперь!.. (Благодарю!)
Я знаю, ты мне послан Богом.
(Ведь это, наконец, разбой!)
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой.
Ты в снах ко мне являлся часто.
(Да чем же я тут виноват?
Приснился вам я, ну и баста! —
Про всякий вздор не говорят).
В душе твой голос раздавался
Давно… Нет, это был не сон!..
(Вот неожиданно попался!
Вот вам Вольмар и Ричардсон)77.
(Д.Д. Минаев, 1860)
Анализ пародийной травестии текста «Евгения Онегина» позволил выявить еще две существенные тенденции, характерные для этого процесса как в XIX, так и в XX в.
Первая тенденция указывает на различия в процессах травестии, существовавшие в русской (в XIX в.) и в советской (в XX в.) областях пародирования пушкинского текста. Суть этих различий заключается в том, что в XIX в. травестии в тексте «Евгения Онегина» подвергались в основном характеры персонажей произведения, а в советское время (особенно в период 1930–1950-х гг.) травестия характеров пушкинских героев уступила место травестии бытовой обстановки. Проблемы советской повседневности начали как бы возвышаться и доминировать над проблемами взаимоотношений между людьми – героями пародий. Бытовые и идеологические клише даже в создаваемых в то время пародиях полностью заменили собой то, что позднее, в годы горбачевской перестройки, стали именовать «человеческим фактором». Приведу несколько характерных примеров, демонстрирующих проявление этой тенденции:
Поездка в такси
Онегин с Брянского вокзала
Скакал в грохочущем такси.
Его дорога истерзала
(Кто сел – пощады не проси!)
Он бился головой о стенки
И носом тыкался в коленки,
Подпрыгивал и падал вновь,
Со лба платком стирая кровь.
Его тошнило и качало
И, пролетая вдоль Тверской,
На счетчик он глядел с тоской
(Число шесть цифр обозначало)
И думал он: уж лучше б мне
Скакать на вороном коне!
Такси! Как много в этом слове
Заключено для москвичей!
Они тебя напрасно ловят
При свете дня, во тьме ночей.
Какие выдумать приманки,
Чтобы привлечь вас на стоянки?
Какую речь сказать дрожа,
Чтоб мы услышали: «Пожа…»?
Увы! Ни жалобы, ни слёзы
Шофера сердце не смутят.
Шоферы ехать не хотят,
Неумолимы людовозы.
Участья ни в одном глазу.
Они твердят: «Не п-о-в-е-з-у»!78
(А.Г. Архангельский, М.Я. Пустынин, 1932)
Поездка в выходной день на московский пляж:
Онегин, весь обуреваем
Мечтой иметь спортивный стаж,
Спешит тринадцатым трамваем
В Покровско-Стрешнево на пляж.
Вцепившись в трам, подобно кошке,
Висит Татьяна на подножке.
Онегин сзади сам не свой
Уперся в стену головой.
Как ловкий акробат повис он,
Держась всего одной рукой!
Но – точка. Переезд такой
Был тыщу раз уже описан.
А описанья прошлых лет
Мне повторять охоты нет.
Езда зависит от сноровки:
Виси, держись и не зевай!
Вот, наконец, у остановки
Освобождается трамвай.
Переселение народов!
Сплошная лента пешеходов.
Кто с узелком, кто налегке —
Все устремляются к реке.
Но к ней ведущие дороги —
Увы! – не очень коротки.
Идешь, идешь – все нет реки,
Жара, подкашивает ноги,
Со лба стекает грязный пот,
И жажда иссушает рот79.
(Н.Ю. Верховский, 1934)
И у этого автора акцент на показе постоянного движения Онегина, но уже по Ленинграду:
«Прошли немногие недели…
Онегин бодр и деловит,
И ради неизвестной цели
Все время ездить норовит.
Его поездки очень длинны.
Вот он на Тракторной, Турбинной —
По новым улицам – идет
И наблюдение ведет.
Вот он в стремлении свободном
Десятку новых, светлых бань
Своих исканий отдал дань,
Бетон заметил на Обводном,
Зашел в больницу со двора…
Et cetera… et cetera…»80
А в самом конце – канонический уже в 30-е гг. панегирик социалистическому строительству, превращающему труд и быт в эпические и героические деяния:
Блажен, кто, расстегнувши ворот
И засучивши рукава,
Сам строил образцовый город
И жить в нём приобрел права,
Кто дал на стройке легендарной
Высокий темп и труд ударный
Под руководством вожаков —
Строителей-большевиков.
Кто знал, что быстро, горделиво
И расцветет и процветет
Грядущих дней живой оплот,
Советских стран краса и диво,
Нам всем награда из наград —
Великолепный Ленинград81.
Вторая тенденция характеризует и дополняет представления о том явлении, которое я довольно подробно рассмотрел в предыдущих разделах этой «объяснительной записки», а именно – о литературном культе А.С. Пушкина. Пародии на основе травестии текста пушкинского романа в стихах, созданные в XIX в., если учитывать их тенденциозную подоплеку, в немалом количестве были направлены против литературного культа А.С. Пушкина. Такого рода тенденциозной направленностью характеризуются пародии М.И. Воскресенского «Евгений Вельский» (1828–1829); Н. Карцева «Семейство Комариных» (1834); Н. Колотенко «Граф Томский» (1840); Б.Ф.З. «Граф
Нулин-сын» (1880). К этим же пародиям по их направленности примыкают и некоторые пародии, написанные в досоветское время в начале XX в.: В.М. Голиков (Wega) «Евгений Онегин» (1911); Е.Г. Яновский. «Кривое зеркало. Евгений Онегин. (обозрение г. Ровно в стихах)»; А. Липецкий (А.В. Каменский) «Надя Данкова» (1913).
В советское же время в отечественной литературе, как отмечалось выше, возобладала и безальтернативно соблюдалась установка на сохранение литературного культа Пушкина. Этим же обстоятельством объясняется странный на первый взгляд факт: огромное количество опубликованных литературоведами работ о пушкинском романе в стихах не сопровождалось таким же обильным появлением добротных исследовательских монографий (диссертаций) по этой же теме. Вся «онегинская» тематика и проблематика в советский период оказалась на удивление недиссертабельной. За всю советскую эпоху по проблемам, связанным с содержанием или текстологией «Евгения Онегина», было подготовлено всего 30 диссертаций различного уровня82. Очевидно, что культовые явления даже в области литературы не подлежали в СССР научной разработке и критике. Об особенностях советских пародий по теме пушкинского произведения в 1930–1950-е гг. я упоминал выше, а наиболее талантливые советские пародисты более позднего времени – Ю.Д. Левитанский, А.А. Иванов, В.С. Высоцкий, И.М. Иртеньев, Л.А. Филатов – предпочитали попросту не касаться этой темы.
Образцы пародирования пушкинского текста «Евгения Онегина», представленные в постсоветскую эпоху, немногочисленны и в литературно-художественном отношении очень сильно уступают всему, что было создано в этой области в XIX и в XX вв.83 Пародии Д. Пригова и В. Дагестанского, на мой взгляд, настолько бездарны, что у меня нет никакого желания даже цитировать и анализировать их фрагменты. «Реконструкции» пушкинского текста, обнародованные А. Черновым и Э.М. Абрамовым, – не более чем современные литературные мистификации. Сочинения же Т.Г. Кулаковой и А.П. Климая представляют собой в большей степени стилизации, чем пародии на текст «Евгения Онегина». Продемонстрирую несколько откровенных литературных «перепевов» пушкинского текста, выявленных мной в сочинении А.П. Климая:
Я думал лишь о форме плана
И плел сюжетную канву,
«Покамест моего романа
Я кончил первую главу;
Пересмотрел всё это строго:
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу.
Цензуре долг свой заплачу
И журналистам на съеденье
Плоды трудов своих отдам»
Иди ж по сёлам, городам
Новорожденное творенье,
И заслужи мне славы дань:
Кривые толки, шум и брань.
Я знал красавиц недоступных,
Холодных, чистых, как зима,
Неумолимых, неподкупных,
Непостижимых для ума;
Дивился я их спеси модной,
Их добродетели природной,
И, признаюсь, от них бежал,
И, мнится, с ужасом читал
Над их бровями надпись ада:
Оставь надежду навсегда.
Внушать любовь для них беда,
Пугать людей для них отрада.
Возможно, ты, читатель, сам
Встречал порой подобных дам…
Кто б ни был ты, о мой читатель,
Друг, недруг, я хочу с тобой
Расстаться нынче как приятель.
Прости. Чего бы ты за мной
Здесь не искал в строфах небрежных,
Воспоминаний ли мятежных,
Отдохновенья ль от трудов,
Живых картин иль острых слов,
Иль грамматических ошибок,
Дай бог, чтоб в этой книжке ты
Для развлеченья, для мечты,
Для сердца, для журнальных сшибок
Хотя крупицу мог найти.
Засим расстанемся, прости84.
Поверьте, что дело здесь не только в отсутствии творческого потенциала и вдохновения у современных авторов-пародистов. Над ними, словно дамоклов меч, нависли и тяготеют замшелые и тяжеловесные лавры пушкинского литературного культа. Ведь объем и помпезность только современной российской «Пушкинианы» могут подавить волю даже привычных к перегрузкам специалистов-литературоведов85. Вот эта-то никак не исчезающая культовая атрибутика, постоянно мелькающая в произведениях современных поэтов, замеченных и в травестии текста пушкинского романа в стихах, окончательно убедила меня в том, что жанр стихотворной пародии по ходу анализа был выбран мной совершенно правильно.
Синтез
Итак, мой анализ был в основном завершен. Работа оказалась довольно тяжелой и очень кропотливой, а вдохновение, если оно и оказывало влияние, присутствовало при этом в количественном отношении не более 3–5 %. Но я был доволен. Мысленно я поздравил себя с созданием принципиальной схемы или своеобразной «академической заготовки» последующего творческого процесса. Все было выверено и подтверждено многочисленными примерами. Какими же принципами я должен был руководствоваться в процессе творческой травестии текста пушкинского произведения?
Кратко всю принципиальную схему последующих действий можно изложить так:
Цель осуществляемой травестии – создание литературной пародии по тексту «Евгения Онегина» с соблюдением следующих основных условий:
Исторический контекст создаваемой пародии должен существенно отличаться от исторического контекста травестируемого оригинала.
Образное и лингвистическое содержание создаваемого произведения должно в максимальной степени отличаться от содержания травестируемого оригинала.
Использование новой лексики, а также факты истории и быта должны разъясняться читателям в комментарии.
Создаваемая пародия не должна ни рассматриваться, ни восприниматься как разновидность идеологической или литературной критики либо полемики.
Основным методологическим приемом создания пародии должен быть прием лингвистической игры, проводимой в обстановке максимальной интертекстуальности.
Специфическая, но важная цель создаваемой пародии – демонстрация реального абсурдизма, проявлявшегося в ходе горбачевской перестройки.
К этому последнему пункту своей принципиальной схемы я должен сделать необходимое дополнение – комментарий:
Весь «перестроечный» период я помню довольно отчетливо и, можно сказать, даже детально, видимо, потому, что вел в это время подробный дневник. Положив руку на сердце, могу заверить читателей в том, что абсурд пронизывал ход горбачевской перестройки фронтально и по всем возможным и невозможным направлениям. В дневнике, который я вел в те годы, сохранилось немало записей, свидетельствующих о том, что многие факты действительности – начиная от анекдотического приземления самолета немецкого пилота-любителя Матиаса Руста на Красной площади в мае 1987 г. и кончая угрожающе-бессмысленным грохотом танковых гусениц по московским мостовым в августе 1991 г. – воспринимались мной как образцы полнейшего абсурда. Но если к этим дневниковым записям (слишком пространным, чтобы цитировать их здесь) можно предъявить претензии в субъективности, то к советской прессе тех лет такие претензии предъявлять трудно. Уникальность советской «перестроечной» прессы заключалась в том, что она выглядела одновременно и сверхобъективной и сверхабсурдной.
У меня сохранилась подшивка одной из наиболее популярных «перестроечных» газет того времени – подшивка «Московских новостей» за 1989 г., и, просматривая ее недавно, я поразился тому, насколько часто присутствует абсурдистская ситуация или тематика на страницах ее выпусков. Вот, к примеру, один из первых ее номеров 1989 г. – № 7. В нем помещена большая статья американского политолога Д.К. Гэлбрейта о конвергенции – «Новая реальность. Капитализм и коммунизм в переходный период» (с. 6). Эта статья соседствует с заметкой «История с историей», в которой историк-сталинист А. Филимонов ратует за достоверность и «научный характер» фактов, изложенных им в диссертации, защищенной в 1953 г., – «И.В. Сталин – организатор и руководитель печати бакинских большевиков (1907–1910 гг.)» (с. 4). Такое в подвергаемой еще цензуре советской прессе стало возможным только при Горбачеве.
Привожу далее в качестве примеров некоторые другие достаточно красноречивые заголовки публиковавшихся статей: «Процесс о миллионах, или исповедь советского миллионера» (№ 9, с. 12); «Митрополит выступает в партшколе» (№ 11, с.14); «Крымские татары жаждут исхода» (№ 15, с. 13); «Ленинград: милиционеры выдвигают требования» (№ 17, с. 2); «Молитва на улице Горького» (№ 24, с. 2); «Увольнение в бомжи. (Где жить офицеру после службы Родине)» (№ 25, с. 15); «Требуем журналиста и попа. Бунт в колонии общего режима» (№ 27, с. 15), «Перестройка ОВД и НАТО. Готовы ли участники Организации Варшавского договора к реализации своего предложения о роспуске военных организаций двух блоков» (№ 27, с. 7); «Социалистическая ферма в штате Огайо» (№ 28, с. 6); «Дмитрий Язов: гласность укрепляет безопасность» (№ 29, с. 11); «Минкульт – минимум культуры» (№ 29, с. 13); «Академик Аганбегян в роли предпринимателя» (№ 30, с. 7); «Правительство Коми блокирует указ. Впервые автономная республика защищает кооперативы от подзаконного акта союзной республики» (№ 31, с. 10); «Самый умный среди дураков» (№ 33, с. 14); «Активная свинина» (№ 36, с. 2); «Американцы на Лубянке» (№ 37, с. 2); «Какой же строй мы построили» (№ 37, с. 8–9); «КГБ – ЦРУ: вместе против терроризма» (№ 41, с. 5); «Нереабилитированный народный депутат» (№ 43, с. 5); «Пришельцы из космоса – гости Воронежа» (№ 43, с. 10); «Неформалы в армии» (№ 44, с. 2); «Бездомная милиция» (№ 44, с. 14); «Нужна ли нам карточная система?» (№ 45, с. 4); «Московский саботаж» (№ 45, с. 5); «Хронология абсурда» (№ 46, с. 15).
Перечисление публиковавшихся статей с абсурдистской проблематикой можно было бы продолжать и далее, но полагаю, что и указанных наименований вполне достаточно для понимания происходившего. Добавлю, что публиковать заметки в «перестроечной» прессе в то время мог практически кто угодно, затрагивая при этом какие угодно по сложности проблемы86. Перечитывая недавно все эти заметки, я вновь вспоминал растерянные и порой испуганные лица москвичей, не ожидавших столь беззастенчиво-наглого отношения к себе со стороны властей, а также телевизионную фигурку улыбающегося М.С. Горбачева, уверяющего, что «процесс пошел», и пытающегося управлять всем созданным в стране хаосом и абсурдом. Именно поэтому, травестируя оригинал пушкинского текста, я очень старался донести до читателей то чувство реальности абсурда, которое было доминирующим в моем сознании в те годы. Думаю, что в пародии оно будет выглядеть и уместным и привлекательным.
Интертекстуальность – еще один наиважнейший принцип синтеза пародии, на который я хотел бы обратить внимание читателей. Явление это типично для многих произведений Пушкина, а интертекстуальность всего текста пушкинского произведения представляется теперь настолько очевидной, что ее сущностную характеристику можно встретить даже на страницах учебных пособий по литературе. Так, литературовед А.М. Гуревич в обзоре, посвященном сюжету пушкинского романа в стихах, отмечает: «Мы не раз уже говорили, что мир пушкинского романа не замкнут в себе, что границы его прозрачны и проницаемы для мира реального, что реальное и вымышленное в “Онегине” постоянно смешиваются, легко и незаметно переходят одно в другое.
Теперь мы можем добавить, что художественный мир романа открыт и для “чужих” произведений – созданий других авторов, которые тоже как бы входят в его сюжет, расширяют и раздвигают его пределы. И не потому только, что каждый из центральных персонажей “Онегина” выступает в роли творца своего романа, строит свою жизнь и судьбу по образцу любимых литературных героев, по законам художественной реальности.
Не менее существенно, что и автор для прояснения и конкретизации романных ситуаций – мотивов поступков и действий своих героев или же для углубления их психологической характеристики, более полного раскрытия их внутреннего мира, сути их жизненной позиции то и дело обращается к “чужим” произведениям, “чужим” сюжетам и персонажам, отсылает к ним читателя, проводит явные или скрытые параллели между ними и героями своего романа в стихах»87.
Принцип интертекстуальности, то есть открытости для «чужих» авторов и текстов их произведений будет полностью сохранен и в синтезируемой пародии. Подразумеваю при этом использование тех многочисленных «стилизаций», «продолжений» и «дополнений», которые появлялись в рукописях и в печати почти одновременно с выходом в свет пушкинского романа в стихах. Их фактура незримо будет присутствовать в создаваемой пародии, придавая ей авторское многоголосие и раздвигая тем самым границы произведения.
Несколько слов должен сказать о языке и стиле пародии. Везде, где это было только возможно, я стремился к простоте и использовал языковую и стилистическую основу, близкую и понятную современникам. Старославянизмы, которыми, например, пестрят пушкинские стихи, использовались мной довольно редко, зато часто употреблялись слова и выражения молодежного сленга тех перестроечных лет. Без этого уличного жаргона моей молодости я никак не мог бы обойтись в своей работе. В качестве убежденного апологета должен выступить также по отношению к «блатной музыке» и матерным выражениям, которые в несколько завуалированном виде читатель может встретить на страницах пародии. Тот, кто пережил горбачевскую перестройку, хорошо помнит, что без мата в то время обойтись было практически невозможно. Более того, мат иногда играл роль своеобразного лекарства и облегчал душу «народа», активно вовлекавшегося в российскую политику. Всю эту очень своеобразную языковую палитру, запомнившуюся мне с перестроечных лет, я очень хотел бы донести до своих читателей, передав им ее, как языковую эстафету.
Последним барьером, который любой автор преодолевает на заключительной стадии создания своего произведения, является редакционно-издательский барьер. Я ненавижу этот барьер, потому что ненавижу почти всех редакторов. Многие из них – прямые наследники и выкормыши цензурного цеха советской эпохи. Почти все они самодовольны, чванливы и непреклонны. Некоторые из них просто глупы, но они вполне осознают свое организационное превосходство над автором, и пытаются навязать ему разные идейки из своего нелепого идеологического арсенала. Обширные исправления, сокращения или дополнения текста – это лишь малая часть того, к чему они способны принудить неопытного литератора. Такие редакторы всегда напоминали мне садистов в области литературы. Но есть и совершенно неприступные редакторы, особенно если редакторский титул дополняет определение – главный. «Главные» подобны пастухам, пасущим только своё литературное стадо. Для них все авторы четко поделены на «своих» и «чужих», и последних – «чужих» – они просто не желают замечать. «Свежие» люди и «свежие» идеи не имеют никаких шансов оказаться в том стаде, которое пасут эти пастухи от литературы. Такова, к примеру, Ирина Прохорова – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение». (Один из молодых литераторов как-то удачно назвал ее при мне «недоступной бабой»). Ее высокомерие и хамство в отношении «чужих» литераторов неподражаемо и бесподобно. Само же издательство и организационно и идеологически напоминает современную мафиозную секту. Впрочем, до редакционного уровня журнала «Новый мир» и его легендарного руководителя – А.Т. Твардовского ей все равно тянуть еще очень и очень далеко. Даже с помощью своего братца-миллионера едва ли дотянет. Надорвется…
И всё же свою «объяснительную записку» я хотел бы закончить более мажорным тоном. Интертекстуальная травестия, которой я занимался в течение довольно длительного времени, подвела меня даже к историко-философским обобщениям и позволила подтвердить важное, хотя и не слишком оригинальное положение: в истории, как и в жизни, все повторяется – характеры и судьбы людей, события, происходящие в мире, и причины, вызывающие эти события. Современное российское общество, образовавшееся в результате радикальных реформ 1990-х и «нулевых» годов, в принципе, если говорить о его социальной структуре, не так уж сильно отличается от того общества, в котором жил А.С. Пушкин. Исторических параллелей и точек соприкосновения между ними можно выявить немало. Прочитайте, к примеру, замечательную книгу побывавшего в Российской империи маркиза А. Де Кюстина «Россия в 1839 году», и, если вы будете читать ее непредвзято, внимательно и вдумчиво, у вас не останется никаких сомнений на этот счет. Поэтому появление в России в начале ХХI в. «лишних людей», равно как и появление в ней политически худосочной либеральной оппозиции, напоминающей чем-то движение декабристов начала ХIХ в. – скорее, закономерность, чем дело случая. А там, глядишь, появятся и новые разночинцы, окрепнет и наберется политической мудрости пролетариат, всколыхнут страну бесчинства восточных мигрантов (экспортируемое к нам «национально-освободительное движение») – вот вам и предпосылки для новой революции. Все это вполне предсказуемые и допустимые вещи.
Могу предполагать, что, познакомившись с содержанием создаваемой на таких принципах пародии, кое-кто из редакторов и литературных критиков захочет представить мою персону в образе политического агитатора. Это – полнейшая глупость, господа! Я всего лишь историк, а пародия, представленная вашему вниманию, – литературное, а не политическое сочинение. К тому же я старался написать ее как можно правдивее, проще и понятнее для всех, используя преимущественно историко-бытовой, а не абстрактно-философский и идеологический материал.
Поэтому мне представляется уместным закончить эту «объяснительную записку» так же, как постоянно недовольный собой, склонный к эпатажу и идейным метаниям М.Ю. Лермонтов заканчивал предисловие к роману «Герой нашего времени»: «Довольно людей кормили сластями: у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает и, к его и нашему несчастию, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить – это уж бог знает!» В этом я с Михаилом Юрьевичем полностью согласен.
12.09.2017 Москва
Начислим
+11
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе