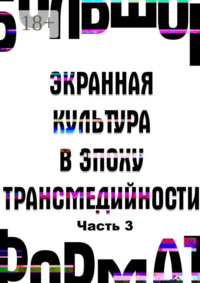Читать книгу: «Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности. Часть 3», страница 4
Андрей Звягинцев
К тому же клонит и Звягинцев в «Левиафане». Только он в качестве ретроспективной подсветки использовал евангельскую легенду об Иове, заметно ее перенастроив. Нынешний Иов, слесарь Николай Сергеев, оказался лишенным поддержки Бога. Жизнь не научила его смирению. Она его просто сломала и размазала по отвесному краю Бездны бесчеловечья. Более того, выяснилось, что в этом мире уже нет места для Бога и для веры.
Об этом, собственно, думал и высказался сценарист «Фауста», продолжая комментировать то, что ему совместно с режиссером удалось воплотить на экране:
«Когда я посмотрел финал, я понял магическую природу кино – конечный смысл фильма непредсказуем. Я увидел, что мы сделали картину о разрыве современного человека с метафизикой. Обычно говорят: современный человек не верит в Бога. Но порывая с Богом, мы порываем со всем, в том числе и с темным миром. В этом плане мы, по сравнению с людьми Средневековья или эпохи Возрождения, представляем собой плоский лист бумаги. Когда мы порываем с метафизикой вообще, как мне кажется, мы порываем с сердцевиной того, что в нас есть. Так как человек не исчерпывается тем, чем он есть» [53]. Так ли это? И не в том ли проблема, что в ХХI веке человек, играющий все более заметную роль в общественно-политической жизни, «исчерпывается тем, что он есть».
О том, как уплощение человеческой индивидуальности далеко зашло, намекнул Звягинцев в «Елене».
В картине мы видим, как окончательно и бесповоротно истлели и распались человеческие связи в отдельно взятой стране. И наверху – среди новых русских буржуа. И внизу – в спальных районах с хрущобами по соседству с какими-то производственными предприятиями, с незастроенными оврагами.
И дело уже не в социальной пропасти между теми, кто с деньгами в комфортабельных жилищах, и теми, кто прозябает в домах-сотах, перебиваясь с пива на водку. Дело как раз в одинаковой иссохшей человечности там и тут.
В пропасть ухнули оба этажа социального мироздания.
И вот, что хорошо было бы до конца осознать. Та разруха в головах и в сердцах наших – итог не последних двух десятков лет жизни. Это итог столетия с его смертельными мировыми войнами, с его душегубскими гражданскими войнами, с его опустошительными идеологическими сражениями, с мифологическими надстройками.
Антибуржуазная революция 1917-го подготовила почву бесчеловечности, на которой сегодня выросло то, что выросло.
Респектабельный вдовец поступил рационально, взяв в жены ту, кто его выхаживала в больнице – медсестру Елену, женщину простую, добросовестную и, кажется, добросердечную. Они живут без любви, но ладно и складно. И прекрасная Елена поступила рационально, когда поспособствовала кончине своего не очень здорового, но состоятельного мужа, чтобы помочь своим родным деньгами и жильем.
Стихийные люди с окраины мегаполиса переезжают из «хрущобы» в хорошую квартиру в хорошем районе, потеряв по дороге нечто сущностное – человечность.
О надвигающейся гуманитарной катастрофе, о ее корнях предупреждал и фильм Андрея Смирнова «Жила-была баба». Это картина о том, как большевистское неоязычество каленым железом выжигало в народе христианскую мораль…
Культура, намекая на возможную беду, свидетельствует о прошлом, комментирует настоящее и заглядывает в будущее. Вольно же нам считывать (или не считывать) ее показания и предсказания…
Сегодня мы не спрашиваем, по ком звонит колокол культуры? Возможно, потому, что он звонит уже не по нам, «на три поколения запроданным рябому черту».
Он звонит по тем, кто идут следом за нами.
«Нелюбовь» Звягинцева начинается неторопливой панорамой по сухостою в лесу: неживые деревья с искривленными позвоночниками, покосившиеся, отвалившиеся, согбенные и безнадежно несчастные. Мелькнул обнаженный корень дерева. Он еще раз попадется на глаза, но уже вырванным из земли, когда волонтеры будут прочесывать лес в поисках исчезнувшего мальчика.
С высокого края оврага открылся вид на другой лес – лес бетонных многоэтажек, вытянувшихся по стойке «смирно». Москва реновационная?..
Герои, что бесхарактерны и безличны как новые дома, скучны как сухой валежник в запущенном лесу. В них ни лирики, ни романтики, ни загадочности, ни простого человеческого обаяния. Они по-человечески неинтересны. Но это выбор авторов. Несогласные с фильмом не могут допустить, что неинтересных людей нет, или: что нет простых людей. А они есть и их довольно много. И гораздо больше, чем интересных и сложных. И их совершенно невозможно препарировать, исследовать, объяснять… Они лишены объема. Такой человек прост, как страница, вырванная из блокнота. Либо она пустая, либо – исчиркана не пойми, как и чем. Что, впрочем, не помешало русским классикам наградить этот люд статусом «священной коровы».
Автор «Войны и мира» вывел в качестве представителя такового мужика Платона Каратаева. И тем не менее граф Лев Николаевич Толстой предварил первую публикацию своего романа самокритичным разъяснением:
«Я пишу до сих пор только о князьях, графах, министрах, сенаторах и их детях и боюсь, что и вперед не будет других лиц в моей истории.
Может быть, это нехорошо и не нравится публике; может быть, для нее интереснее и поучительнее история мужиков, купцов, семинаристов, но, со всем моим желанием иметь как можно больше читателей, я не могу угодить такому вкусу, по многим причинам».
И далее причины. Их штук семь. Одна из ключевых:
«… Жизнь купцов, кучеров, семинаристов, каторжников и мужиков для меня представляется однообразною и скучною, и все действия этих людей мне представляются вытекающими, большей частью, из одних и тех же пружин: зависти к более счастливым сословиям, корыстолюбия и материальных страстей. Ежели и не все действия этих людей вытекают из этих пружин, то действия их так застилаются этими побуждениями, что трудно их понимать и потому описывать».
Вкусовая:
«…жизнь этих людей некрасива».
Оскорбительная:
«…я никогда не мог понять, что думает будочник, стоя у будки, что думает и чувствует лавочник, зазывая купить помочи и галстуки, что думает семинарист, когда его ведут в сотый раз сечь розгами, и т. п. Я так же не могу понять этого, как и не могу понять того, что думает корова, когда ее доят, и что думает лошадь, когда везет бочку» [54].
Впрочем, как мы знаем, жизнь и культура так или иначе побудили писателей попытаться понять, что думает «священная корова», когда ее доят, и о чем может размышлять лошадь, когда везет бочку. И граф пытался понять, и менее высокородные литераторы – Достоевский, Островский, Чехов, Горький, Платонов немало преуспели по этой части. Но тут надо признать, что и купцов, кучеров, семинаристов и будочников, и лавочников коснулась тень просвещения и окультуривания, а с ней пробудилась охота к рефлексии, пусть и неловкая, смешная, как у чеховского Апломбова, поминающего не к месту про Спинозу. Или агрессивная, как у шукшинского Глеба Капустина, слышавшего звон про первичность материи. Наметился процесс окультуривания тех слоев населения, которые имел в виду Толстой.
Процесс шел зигзагообразно и разнонаправлено. Репрессии, ГУЛАГ, войны, жесткие режимы, оттепельные послабления, – все это нагибало и распрямляло «простых людей». И снова нагибало, расплющивало и опустошало их.
Нынешнее отупение «священной коровы» стало столь очевидным, что последний фильм Звягинцева, отразивший его, не мог не вызвать резкого общественного сотрясения. И причем в первую очередь не на политической подкладке, а на почве гуманитарной. Как в случае с балабановским «Грузом 200».
Но тогда кто-то мог обольщаться, что это не про настоящее. Про советское прошлое. Тогда мы как-то не отдавали отчет, что на кону стоит не просто человеческая жизнь, но собственно – человечность, исчезновение которой и будет означать конец человеческой (в смысле человечной) цивилизации.
Теперь особенно стало ясно, что «свидетельские показания» об идущей на убыль, издыхающей человечности дают фильмы Звягинцева. И зло в «Елене» уже воспринимается как нечто рациональное в этом рациональном из миров. Успешный предприниматель берет в жены медсестру, что так профессионально его выхаживала в больнице. Она столь же добросовестна в ведении домашнего хозяйства, как и в исполнении супружеских обязанностей в постели. Но и она, простая русская женщина, воплощенная доброта, из рациональных соображений отправляет на тот свет своего мужа-благодетеля, брак с которым был заключен явно не на Небесах. Да и в отношениях отца с родной дочерью нельзя было заметить особой теплоты.
Нелюбовь уже в «Елене» стала подспудным лейтмотивом, ровным потоком текущей повседневности. И обернулась корыстным преступлением. Но таким мирным, таким будничным, таким не слышным…
Одним «грузом 200» стало больше.
В «Левиафане» Зло безлично и безбожно. Оно овладело государством. Оно стало им. И оказалось несовместным с человечным человеком.
Где-то в начале 2010-х ожидался конец Света. Федеральные каналы усердно нас, телезрителей, готовили к его встрече. Было множество и спекуляций, и розыгрышей. Ближе к сегодняшнему дню шутки кончились. Но, как это часто бывает, вчера наступило внезапно. Сегодня мы живем уже после конца Света. Но живем так, как если бы он не наступил.
Об этом как раз и последний фильм Звягинцева «Нелюбовь». О житье-бытье, оторванном от прошлого, безразличном к будущему. О людях, из которых выкачена какая-либо мораль, самобытность, живая любознательность или просто характерность. Лица неинтересные. У офисного труженика Бориса – очевидно безвольное. У его супруги Евгении, с которой он разводится, – каменное. Секс есть, но отдельный от чувств. И деторождение – не цель, а его нечаянное последствие, осложняющее течение зарегламентированной жизни. И все повязаны зависимостями – кто от прибыльной службы, кто от нечаянного брака. Кто-то не может отлепиться от смартфона, кто-то – от телевизора. Вот, собственно, мы и вернулись на круги своя.
На круги вынужденного интереса к неинтересным людям. И пришлось художнику Звягинцеву заняться жизнью тех людей, что представлялась когда-то Толстому «однообразною и скучною», а действия ее фигурантов казались ему «вытекающими, большей частью, из одних и тех же пружин: зависти к более счастливым сословиям, корыстолюбия и материальных страстей».
Таких персонажей и вправду, неинтересно интерпретировать, да и бессмысленно что-либо с ними делать. Звягинцев ничего и не делает. Он их наблюдает. Но уже не как доктор-диагност Балабанов, а как врач-патологоанатом.
Речь не о тех его клиентах, что по другую сторону Жизни, а о тех, кто по другую сторону Добра и Зла.
Режиссер холодно и беспристрастно засвидетельствовал последний вздох человечности, предсмертный ее вскрик (у матери) и всхлип (у отца), последнюю ее конвульсию. Это когда родители потерявшегося ребенка увидели в морге обезображенный труп мальчика.
Еще один «груз 200». Увы, безымянный. И то ли женщина не смогла опознать в нем своего сына, то ли отреклась от него окончательно и бесповоротно…
…Между берегами обезображенного леса и урбанизированной реальности сгинул подросток, который в нелюбви был зачат и нелюбовью окружен. Волонтеры попытались спасти его, но тщетно. Чужие для мальчика дяди и тети даны общим планом, почти не персонифицированы. Но едва они сбиваются в группу, почему-то легче становится на душе. Потому, наверное, что это неформальная, но деятельная душевная солидарность.
Человеческая (в смысле – человечная) цивилизация увидена и опознана художником на изломе.
И снова, как у пушкинского Бориса Годунова, мальчики кровавые в глазах. А также – без вести пропавшие, сгоревшие, якобы распятые, реально раздавленные, расстрелянные, утонувшие и т. д. и т. п.
И с нами многоголовый Левиафан во плоти телеведущего Дмитрия Киселева.
«Мать-героиня» пропавшего ребенка, оторвавшись от ящика с Левиафаном-Киселевым и от смартфона с эсемесками, натянув на себя спортивную футболку с надписью на груди «RUSSIA», выходит на балкон, становится на тренажер с движущейся дорожкой. И начинается бег на месте не без символического экивока в сторону России без кавычек.
Конечно, уместен сакраментальный вопрос: насколько адекватно отражена в фильме сегодняшняя Россия, уверенно поднявшаяся с колен?
Допустим: не адекватно, но тренд-то схвачен точно, и выглядит он более чем убедительным.
Такова уж участь художественных прозрений; они не всегда угадывают будущее в подробностях и в осложнениях, но почти всегда верно указывают направления к нему, оставляя за нами право выбора.
Это история не знает сослагательного наклонения, а современность его не может не знать.
Другое дело, если не хочет знать.
Шоу Бэби-Бум
С некоторых пор Его Величество Дитя стало товаром и к тому же хорошо продаваемым товаром на отечественном ТВ.
Конечно, зритель, окунувшись в море ненависти, источаемой пропагандистскими программами Киселева, Соловьева, Шейнина, Пушкова и Норкина, рад зацепиться за островки сентиментальных эмоций и умилиться непосредственности деток, их чистоте, наивности, нежности и абсолютной невинности. А если они еще и вундеркинды…
Да и руководители госканалов рады предоставить им эти «островки», из коих, впрочем, образовался вполне себе приметный архипелаг гуманизма. Это: «Голос. Дети», «Лучше всех», «Ты – супер!», «Синяя птица», «МастерШеф. Дети», «Два голоса», «Битва фамилий», «Мой папа круче» и т. д.
Назовем этот архипелаг: «Шоу бэби-бум». Федеральное телевидение с одной стороны монетизирует детишек и детство, организуя нам приятную душеспасительную экскурсию на архипелаг «Бэби-бум», с другой – утилизирует то и другое на пользу пропаганде. И тогда телезрителям выкатывают картинки с трупами детей, погибшими на другой войне и на другом континенте. Или того пуще: рассказывают о распятом злобными украинцами мальчике. Вроде ярость «благородная» одних шоу должна противоречить человечности других. Но ничего, как-то они сосуществуют.
А чему тут надо удивляться, если еще сравнительно недавно, не далее, как в прошлом веке, массовые репрессии ничуть не мешали гражданам, обитавшим по другую сторону колючей проволоки, с большим душевным подъемом распевать: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек».
Тогда тоже ведь был архипелаг. Назывался он, правда, «Гулагом».
Так что и человечность со злодейством совместны. Правда, не всякий раз органично.
Что бы органично и искренне обе противоположности сплелись, надобна пара скреп: страх перед неразборчивыми посадками и идеология, обещающая рай на земле. Тогда того и другого хватало. Нынче с обеими радостями – проблемы. Потому нынче усилия в этом направлении выглядят несколько карикатурными. Хотя региональные начальники не шутят. Они стараются на свой страх и риск. В Волгограде юные кадеты поют про свою готовность умереть за дядю Вову. Поют при параде мальчики и девочки с пониманием сложного международного положения своей страны (не хуже Киселева и Соловьева) о том, что если грянет бой, то, дядя Вова, мы с тобой. Хоровое пение оснащено подобающими милитаристскими картинками.
В Волгоградской области были призваны и мобилизованы детсадовцы. Они во славу Сталинградской битвы выложили из своих фигурок юбилейные цифры – 75.
Почему-то при этом они стоят на коленях. Это так они благодарят своих покойных прадедов? Скорее всего, потому, что детишки не равновысокие. Получается разнобой, что некрасиво, не аккуратно… А когда на коленях, картинка – и патриотичнее. И, наконец, эстетичнее. На телевизионном архипелаге «Беби-бум» одних детишек обильно поливают сиропом сентиментальности: купают их в восхищении, в аплодисментах, в селфи-сессиях со знаменитостями, задаривают призами и подарками, а других детей винтят на улицах российских городов и тащат в кутузки. Говорят, есть такая мексиканская поговорка: «Они пытались похоронить нас, но они не знали, что мы семена».
Они опять этого не знают.
Возможно, Левиафан решил, что если Его Величество Дитя свергнуто со своего неформального престола, то все позволено.
Космос человечности
Не сразу понимаешь, почему эта достаточно банальная мелодраматическая история длинной в восемь серий («Частица вселенной») удерживает внимание, побуждает напряженно вглядываться в лица вымышленных героев и сосредоточенно переобдумывать свою жизнь. Скромный рейтинг «Частицы», по мнению специалистов, обусловлен скромной, по меркам Первого канала, промокампанией. И еще кажется, что сама тема героического покорения и обживания околоземной орбиты, пусть и патриотичноемкая, за последние пару лет поднадоела.
Так представляется на первый взгляд. При более пристальном отношении к сериалу обнаруживаешь другую причину холодности к нему массовой публики. Для сериального формата этот сериал непривычно, чтобы не сказать неприлично, глубок. У Лихтенберга на сей счет есть афоризм: «Если при столкновении головы с книгой раздается пустой звук, то не всегда в этом виновата книга». Этот вариант иногда надо иметь в виду категоричным зрителям. Глубина пугает и на воде, и в искусстве. В первом случае – начинающих пловцов, во втором – душевно нетрудолюбивых почитателей прекрасного.
Глубина автора предполагает глубину того индивида, что выходит на связь с произведением. Самые «трудные фильмы» (бытовало такое определение в советскую пору) – те, что просты по своей фабульной канве. Особо трудными были тогда для массового зрителя не фильмы Андрея Тарковского, а картины Отара Иоселиани «Листопад», например, или «Жил певчий дрозд», «Пастораль». Состав событий в «Частице» ничуть не притязателен на житейскую и на производственную исключительность.
И полеты космонавтов на орбитальную станцию – рутина. И семейные осложнения в бытовой повседневности покорителей космоса – дело обыкновенное. Жена одного полюбила другого и призналась ему накануне экспедиции. Они договорились соблюсти все ритуальные правила поведения на публике перед отлетом: фотосессия на аэродроме, трогательные улыбки, прощальные объятия, поцелуи…
Разумеется, по ходу последних приготовлений к старту, нелады в семье космонавта слегка выползают наружу. Прежде всего, они становятся очевидными подростку-сыну. Штатный психолог в команде тех, кто готовит экипаж к полету, туго знает свое дело – он сначала угадывает их, потом докапывается до сути. Потом тайное становится явным для всех.
Гармонии человеческого общежития, как выяснилось, нет на Земле, но нет ее и выше. Там, над облаками – авария и дерзания, здесь, на Земле, под облаками – сожаления и переживания.
Вот, говорят, зачем драматургу и режиссеру Ольге Званцовой при таком объеме осторожно распутываемых психологических клубков нужен еще необъятный Космос со всеми сопутствующими технологическими прибамбасами?
Как эффектный антураж?
Или как патриотическая государственная крыша для психологических опытов над частнособственническим житьем-бытьем?
Не стану отрицать выгоды ни того, ни другого. Но главная-то выгода, все-таки, в ином. В метафорическом представлении о просторах человеческой психики. Внутренний микромир индивида, по убеждению автора, возможно, и чисто инстинктивному, также беспределен и не изведан, как и мегамир Вселенной. Миры смотрятся друг в друга, как в зеркало. Точнее: как в увеличительное стекло. Собственно, исследованием и обустройством того и другого миров и заняты герои этого продолжительного киноповествования. Надо было Андрею Каманину (Алексей Макаров) на какие-то мгновения пересечься с Надей (Вика Исакова) в космической бездне, чтобы почувствовать, как они новы друг для друга, сколь велико по-прежнему их взаимное притяжение, коему нельзя противиться.
Все повествование – череда человеческих откровений. Нет, не так.
А вот как: череда мгновений человечности – будь то сурового Главного конструктора (Андрей Смирнов), или непреклонной Анны Кутовых, матери молодого космонавта (Елена Прудникова-Смирнова) и далее по списку действующих лиц и играющих актеров. Собранные создателями сериала вместе все эти гранулы, молекулы душевности, благородства, эмпатии и образовали ту самую частицу человечности на донышке Вселенной, которым является планета Земля.
И все-таки, зачем тут Космос?
…В этом году исполнится ровно полвека фильму «Космическая Одиссея 2001», герой которого Дэйв Боумен совершил путешествие к Юпитеру (или к Сатурну, не могу вспомнить). Фантастов Кубрика и Кларка волновала судьба внеземного Разума, который обитает в Космосе в виде некоего магического Монолита. Последний поспособствовал эволюции разума на Земле. Плодом ее стал компьютер HAL 9000 – предельно рациональный персонаж, но не вполне гуманный от рождения. Дефицит его человечности поставил под угрозу успех космической Одиссеи Дэйва Боумена, которому суждено было в финале обратиться в «звездное дитя».
Что с человеком может статься на краю нашей галактики, Кубрик и Кларк объяснили более или менее доходчиво.
Тарковский вслед за Лемом, отправив психолога Криса Кельвина на космическую станцию, летающую вокруг планеты Солярис, вглядывается в планету, звать которую – Человек. Там – океанская Бездна, в которой трепыхается Нравственность. Нынче на кону исторического прогресса – сама человеческая цивилизация.
Человеки, возможно, и останутся, а человечность может отвалиться за ненадобностью. Как последняя ступень межгалактической ракеты.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе