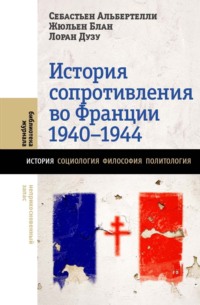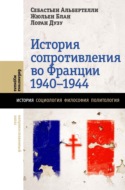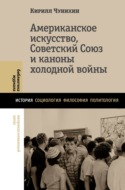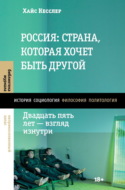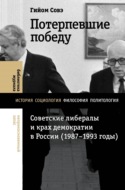Читать книгу: «История Сопротивления во Франции 1940–1944»
Sébastien Albertelli
Julien Blanc
Laurent Douzou
La Lutte clandestine en France 1940–1944
© Éditions du Seuil, 2019
© Ю. В. Гусева, перевод с французского, 2025
© И. Дик, дизайн обложки, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
* * *
Жан-Луи Кремьё-Брийяку (1917–2015),
Пьеру Лабори (1936–2017),
Жан-Пьеру Вернану (1914–2007)
Введение
Начнем наш рассказ с двух человек, выбранных среди множества других. На фотографии слева Марк Блок («Нарбонн»), арестованный 8 марта 1944 года на Излучном мосту в Лионе; он был расстрелян 16 июня, не дожив нескольких дней до 58 лет. Справа Пьер Эспель (Шарло), схваченный 28 июля 1943 года тоже в Лионе, спустя месяц после того, как ему исполнилось восемнадцать, и отправленный в Дахау; он выжил и возвратился на родину. Первый, профессор Сорбонны, историк с мировым именем, с 1943 года был одним из руководителей Движений объединенного Сопротивления региона Рона – Альпы. Второй после окончания начальной школы поступил учеником на производство, в 1942 году перебрался из Рубе1 в южную зону2 и обосновался в Лионе, где стал связным руководящего центра движения «Освобождение». Несмотря на сорокалетнюю разницу в возрасте и разделяющую их огромную социальную дистанцию, оба они, невзирая на смертельный риск, вступили в Сопротивление. Первый стал знаковой, прославленной фигурой подпольной борьбы. Второй, хотя впоследствии, во время войны в Алжире, руководил сетью поддержки отказников от военной службы и дезертиров «Молодежное сопротивление», а затем участвовал в событиях 1968 года, до самой своей смерти в 2003 году пребывал в безвестности и никогда не притязал на славу.

Марк Блок (1886–1944)

Пьер Эспель (1925–2003)
Объединить их вместе, расположив рядом их фотографии, – значит показать всю широту диапазона Сопротивления и его поразительное многообразие. Обычные показатели – возраст, происхождение, профессия, политическая принадлежность… – не позволяют понять, чем было оно для его участников и участниц. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать предисловие Жоржа Альтмана, бывшего руководителя «Франтирёра»3, к первому изданию «Странного поражения»4 1946 года, где он рассказывает, при каких обстоятельствах пришел в организацию Марк Блок:
Я словно наяву помню ту замечательную минуту, когда Морис, один из наших юных товарищей по подпольной борьбе, раскрасневшись от радости, представил мне «новобранца», господина лет пятидесяти, с орденской ленточкой, тонкими чертами лица, посеребренными сединой волосами, острым взглядом из-под очков, с портфелем в одной руке и тростью в другой; державшийся поначалу немного церемонно, он затем улыбнулся, протянул мне руку и приветливо произнес: «Да, это я – „подопечный“ Мориса…»
Значит, Марка Блока привлек к Сопротивлению 20-летний студент Морис Песси, alter ego5 Пьера Эспеля. Ученому пришлось, как и другим, показать себя в деле, чтобы занять руководящий пост в движении. Карты настолько смешались, что подопечный молодого парня мог оказаться академическим светилом, по возрасту годившимся ему в деды. Именно в таких деталях раскрывается порой особый тайный мир Сопротивления, и никогда нельзя быть уверенным, что интерпретируешь его правильно.
Осознание подобной ситуации, совершенно непривычной в мирное время, но во многом свойственной подпольной вселенной, отчасти обусловило концепцию нашей книги. Сопротивление представляет собой непростой предмет исследования, ибо постоянно ускользает от попытки постигнуть его. Как писать историю тайного и изменчивого феномена, участники которого проявляли чудеса ловкости, на ходу заметая следы своей деятельности? Чтобы обрисовать эту жизнь, которая велась в условиях величайшей секретности, нужно уметь уловить малейшие признаки ее, кроющиеся в биографиях отдельных людей.
Понимая всю сложность подобной задачи, мы, три специалиста различного профиля и опыта, решили взяться за нее вместе. Мы не стали разделять ее на части и поручать каждому написать некоторое количество глав. Нам удалось найти свой особый подход к работе над ней. Эта книга – коллективный труд, написанный в три руки, долго обсуждавшийся и неоднократно перерабатывавшийся в течение нескольких лет.
Подобный подход предполагал глубокую общность взглядов, основанную на нескольких принципах. Первый означал выбор в пользу повествования по возможности простого, без научно-справочного аппарата, хотя и на основе множества публикаций, которым мы многим обязаны. Уже более 70 лет историческая наука исследует Сопротивление, и за это время увидело свет немало превосходных трудов. Мы использовали их, чтобы попытаться создать панораму, отражающую исторические реалии и их эволюцию, однако не претендуя на всеохватность.
Второй принцип, которым мы руководствовались, – это хронологический порядок изложения. Выбор, который может показаться очевидным, позволяет учесть то обстоятельство, что время в подполье обрело небывалую насыщенность. За эти четыре года, краткие в историческом масштабе, события эволюционировали столь стремительно, что лишь отслеживание их развития шаг за шагом позволяет представить их во всей полноте. Чтобы читатель не ощущал себя щепкой, которую поток событий несет без остановки и передышки, мы время от времени решили делать паузу в повествовании, подводя промежуточные итоги через примерно равные интервалы времени. Такими этапами представляются нам лето 1941-го, осень 1942-го и лето 1943 года.
Наш третий принцип – не рассматривать Сопротивление как изолированный феномен и подробно описывать перипетии деятельности его организаций в связи с состоянием общества в то время. Мы считаем установленным, что движение весь период своего существования было делом меньшинства. Долгое время оставаясь маргинальным, это меньшинство, однако, постепенно все глубже пускало корни в обществе.
Отсюда следует четвертый принцип, послуживший нам нитью Ариадны. Если нужно выделить особенность этой истории, которая во многом походит на другие – как добровольным выбором, сделанным его участниками, так и их самоотверженным служением своему делу, солидарностью, возникавшей между ними на их опасном пути, – то состояла она именно в подпольном характере их работы. Уход в подполье подразумевает полный разрыв со всем, что было раньше. В условиях постоянной опасности тайный мир Сопротивления требовал неустанно изобретать новые способы деятельности, не имевшие прежде аналогов. Эта невидимая подземная вселенная выработала удивительно разнообразный опыт, притом что все вовлеченные в ее орбиту, в чем бы ни состояла их работа, в равной мере подвергались смертельному риску. Поэтому мы сознательно делаем упор на нелегальную практику, стремясь понять и показать, что значило жить в Сопротивлении. Вот почему мы периодически отступаем от хронологии, чтобы рассмотреть Сопротивление с антропологической точки зрения, попытаться выявить принципы работы в подполье и показать связь имеющихся представлений с деятельностью в этом тайном мире. Кроме того, каждая глава открывается иллюстративным материалом – фотографиями отдельных людей, сцен общественной или частной жизни, нелегальных публикаций, – раскрывающим одну из граней той истории, овеянной легендой, но оставившей по себе немного визуальных следов. Несмотря на все трудности, связанные с характером подпольной работы, мы попытались рассмотреть Сопротивление с разных точек зрения, чтобы понять особенности его функционирования, деятельности и образа жизни его активистов. Мы также постарались по возможности придать этой истории человеческое измерение, кратко обрисовав жизненные пути его участников, известных и неизвестных.
«Это история людей, которые делали все, что могли». Слова Паскаля Копо, одного из лидеров Сопротивления внутри страны, при всей своей скромности очень точны, но не исчерпывающи. Остаются важные вопросы, на которые мы попытались хотя бы отчасти ответить. Как зародилось Сопротивление? Как оно развивалось и постепенно приходило к осознанию того, чем является, – «актом добровольным, мятежным и опасным» (Морис Агюлон6)? Какой была повседневная жизнь в подполье? Как мало-помалу возникло настоящее подпольное государство?
Рождение Сопротивления (июнь 1940-го – лето 1941-го)
Когда разверзлась бездна
Перегруженные автомобили, вставшие у обочины, телега с убогим скарбом, ведущая за поводья впряженную в нее лошадь женщина, запруженная дорога… Эта фотография, обнаруженная в немецких архивах, запечатлела характерный образ отчаянного бегства миллионов людей, охваченных паникой перед лицом разгрома французской армии в мае – июне 1940 года. Она иллюстрирует отправную точку этой истории: сокрушительный и унизительный разгром Франции после шести недель боев. Фотография свидетельствует также, что происходившее тогда невозможно свести к одному лишь военному поражению. Нельзя понять множество личных инициатив, возникших уже на следующий день, не описав растерянности народа, буквально ошеломленного событиями. Под конец ужасающих недель Битвы за Францию – из чего маршал Петен сделал собственные выводы, запросив перемирия в ночь с 16 на 17 июня, – французское общество в целом достигло «неописуемой степени распада» (Пьер Лабори).

Беженцы. Женщина, ведущая по сельской дороге запряженную лошадью телегу со своими пожитками; слева припаркованная машина, нагруженная багажом. Франция, окрестности Жьена, 19 июня 1940 г.
Немыслимое поражение
Конечно, причиной такого краха стало поражение, последовавшее за месяцами выжидания «странной войны». Но отнюдь не только оно. Анализируя в июле – сентябре 1940 года постигшую страну катастрофу, Марк Блок пишет о «самом жестоком крушении в нашей истории». По горячим следам, и притом хладнокровно, добросовестный историк выявляет причины не только военного поражения, но и сопровождавшего и усугубившего его политического и морального замешательства. Ученый не случайно использует слово «крушение». В самом деле, здание, которое считалось прочным, оказалось совершенно прогнившим, так что быстро обрушилось под ударами танковых клиньев вермахта. Тот же вывод делался и после поражения 1870 года7, и тогда, казалось, из него извлекли уроки. Семьдесят лет спустя, после того как Республика вышла победительницей из долгого и жестокого испытания Первой мировой войны, разгром 1940 года сокрушил ее. «Странное поражение» Марка Блока – не только анализ краха, но и горестная констатация крайне бедственного положения: «Сегодня мы оказались в ужасной ситуации, когда судьба Франции больше не зависит от французов», и они отныне «лишь бессильные наблюдатели». Конечно, историк-медиевист хотел верить, что «глубинные силы нашего народа не затронуты и готовы проявиться снова». Не щадя в своем анализе никого, начиная с себя, он выражает пожелание, которое свидетельствует, что он, побежденный, не пал духом и не сложил оружия: «Во всяком случае, я желаю, чтобы нам еще пришлось пролить свою кровь: пусть даже это будет кровь тех, кто мне дорог (я не говорю о себе, ибо моя жизнь значит немного)». Но мало того: хотя историк убежден, что когда-нибудь его родина возродится, он не сомневается, что «тень страшного разгрома 1940 года исчезнет не скоро». И это возвращает нас к мысли: все, что предстояло совершить в дальнейшем, имело значение лишь при осознании изначальной ужасающей паники. Не поражение stricto sensu8 вызывало протест, а именно сопровождавшие его и последовавшие за ним растерянность и бессилие.
Такие же умонастроения мы обнаруживаем у генерала де Голля. 16 мая он во главе только что сформированной бронетанковой дивизии готовился предпринять одну из немногих успешных контратак во время Битвы за Францию в окрестностях Лана. В своих «Военных мемуарах» генерал пишет, что его одновременно возмутило и подстегнуло печальное зрелище, открывшееся перед ним:
При виде охваченных паникой людей, беспорядочно отступающей армии, слыша рассказы о возмутительной наглости врага, я почувствовал, как во мне растет безграничное негодование. О, как все это нелепо! Война начинается крайне неудачно. Что ж, нужно ее продолжать. На земле для этого достаточно места. Пока я жив, я буду сражаться там, где это потребуется, столько времени, сколько потребуется, до тех пор, пока враг не будет разгромлен и не будет смыт национальный позор. Именно в этот день я принял решение, предопределившее всю мою дальнейшую деятельность9.
Могут возразить, что мемуарист в 1954 году постарался выставить себя в благоприятном свете. И все же не подлежит сомнению, что, хотя исход битвы представлялся ему, как и многим другим информированным наблюдателям, предрешенным с самого начала, он не хотел признавать разгром свершившимся и непоправимым фактом.
На самом деле никто не мог предвидеть неодолимой мощи потока, который уносил правительство, государственные учреждения, политические партии и профсоюзы, вплоть до конечного пункта, каким стала 16 июня замена Поля Рейно10 Филиппом Петеном на посту председателя совета министров. Добравшись до Бордо накануне, после изматывающих скитаний по замкам, вдали от Парижа11, который немцы заняли без боя 14 июня12, правительство совершенно утратило контроль над ситуацией: «Оно затерялось в исходе всего народа» (Анри Мишель). Действительно, все это происходило на фоне паники, самым зримым проявлением которой стал исход гражданского населения, в неописуемом беспорядке бегущего от немецкого наступления. В своем рассказе, многозначительно озаглавленном «Первый бой» и написанном весной 1941 года, Жан Мулен поведал о том, что ему пришлось пережить 14–18 июня 1940 года в Шартре в качестве префекта департамента Эр и Луар. Он описывает город, заполненный толпами беженцев с севера страны, а затем вмиг опустевший, так что к 17 июня в нем осталось едва 800 человек по сравнению с 24 тысячами несколькими днями ранее. Эта удручающая картина настолько потрясла умы, что в своем радиообращении 17 июня маршал Петен, заявив, что «нужно прекратить борьбу», посчитал нужным выразить сочувствие «несчастным беженцам, которые в крайней нужде бредут по нашим дорогам». По оценкам историков, число французов, пустившихся в это ужасающее бегство в неизвестность, – от 8 до 10 миллионов.
Перемирие или отказ от Республики
На таком мрачном фоне с 17 июня по 10 июля происходила смена основ государственного и политического строя. Начало ей бесспорно положило важнейшее решение Филиппа Петена прекратить сопротивление захватчикам, причем он предпочел заключение перемирия капитуляции армии13, которая позволила бы властям эвакуироваться в Северную Африку и оттуда продолжить борьбу. Все более яростный спор в правительстве за закрытыми дверями на всем протяжении его крестного пути был разрешен 16 июня в Бордо, и можно утверждать, что около двухсот слов, произнесенных Петеном по радио на следующий день в 12:30, положили начало новой эпохе. Отныне события развивались стремительно, как будто единственным смыслом поражения стал отказ от значительной части исторического наследия и национальных традиций. В общем, происходило «самоубийство, сопровождавшееся подковерными интригами и отвратительным отступничеством» (Стенли Хоффман). Остатки Национального собрания съехались 9–10 июля в Виши14, ставший временной столицей, и, благодаря маневрам и давлению со стороны Пьера Лаваля, предоставили Петену всю полноту власти, в частности для пересмотра конституции15. Но не это главное. В действительности пораженцы и выжидавшие отражали настрой значительной части населения, физически и морально изнуренного теми усилиями, которые ему приходилось предпринимать начиная с 1914 года, так что теперь оно испытывало «почти биологическую» потребность (Жан-Луи Кремьё-Брийяк) поставить надежды на паузу и перевести дыхание.
Потерпевшая военное поражение и морально надломленная нация распадалась точно так же, как ее политические и военные элиты. Жестокие слова генерала де Голля в адрес президента Республики Альбера Лебрена вполне характеризуют бессилие не только отдельного человека, но и всего политического устройства: «По сути, как лидеру государства ему не хватало двух вещей: он не был лидером, а государства не существовало».
Ликвидировав Республику, утвердив новый порядок, основанный на решительном отречении от всех республиканских и демократических ценностей, приостановив работу парламента, незамедлительно устроив «охоту на ведьм», сосредоточив в своих руках все средства для установления режима личной власти, маршал Петен нанес смертельный удар режиму, все изъяны которого выявило поражение. Стенли Хоффман подчеркивает, что «травма разгрома была лишь одним из эпизодов – хотя наиболее жестоким и масштабным – в череде других травм» периода 1934–1946 годов. Но в тот момент осознать это было непросто. Петен, в своем выступлении 17 июня не жалевший похвал «героизму» и «замечательному сопротивлению» войск, положил конец бойне и «принес себя в дар Франции, чтобы смягчить ее бедствия». Победитель при Вердене16 – что олицетворяло стоическое сопротивление – являл собой в то время в глазах подавляющего большинства населения воплощение самоотверженности, мужества и решимости.
Но он очень быстро сбросил маску отеческого благодушия, написав 15 августа 1940 года черным по белому в «Обозрении Старого и Нового Света»: «Не может быть нейтралитета между истиной и ложью, добром и злом, здоровьем и болезнью, порядком и беспорядком, между Францией и анти-Францией». Эти строки, опубликованные после принятия дискриминационных мер против масонов (13 августа) и перед утверждением первой версии «статуса евреев» (3 октября)17, обосновывали идею о том, что возрождение страны невозможно без избавления от «пагубных» элементов. Перед нами один из редких текстов, в которых глава новоиспеченного Французского государства столь недвусмысленно провозгласил принципы, лежащие в основе его действий. Обыкновенно Петен предпочитал подчеркивать позитивные ценности Национальной революции18, призванной спасти страну, старательно создавая себе образ отца-заступника. В июне 1940 года и в последующие месяцы популярность маршала достигла апогея в стране, потрясенной катастрофой, подобной которой ее жители припомнить не могли.
Первые проявления несогласия
И все же уже в этот момент во Франции нашлись мужчины и женщины, не смирившиеся с тем, что сотворили с их родиной, и не согласные с решениями, принятыми Петеном. Одним из них был Шарль де Голль. Он имел возможность наблюдать за развитием событий изо дня в день, сначала на полях сражений в качестве старшего офицера, 23 мая произведенного в бригадные генералы, а затем, с 5 по 16 июня, – будучи заместителем министра национальной обороны. Подобный опыт позволил ему дать свою оценку событиям и сделать прогноз на будущее. Уже 17 июня, еще до первого выступления Петена, де Голль не сомневался, что маршал запросит перемирия и такое решение является наихудшим, ибо постыдно для страны и не принимает в расчет те козыри, которые еще остались у Франции в войне, чей исход, вопреки поражению в мае – июне, отнюдь не предрешен. Уверенный в своей позиции, утром 17 июня он вылетел в Англию на самолете генерала Спирса, которого Черчилль отправил в Бордо в надежде убедить руководителей III Республики продолжить борьбу по другую сторону Ла-Манша. Единственным спутником генерала был его адъютант, лейтенант Жоффруа де Курсель, а единственным богатством – сто тысяч франков, выданных из секретного фонда ушедшим в отставку премьер-министром Полем Рейно. Слабое утешение для Черчилля! Британский лидер мог оценить силу характера до той поры мало кому известного 49-летнего генерала, поскольку в течение последних восьми дней четыре раза встречался с ним. Но он все же надеялся, что его эмиссар Спирс поймает в свои силки более важных птиц. Получив от Черчилля разрешение выступить на волнах Би-би-си, де Голль 18 июня решительно и смело дал оценку произошедшему, откровенно заявив о своем несогласии со сказанным накануне Петеном. Причиной поражения стала ошибочная тактика; Битва за Францию не означает окончания вооруженного конфликта, мировая война только начинается; офицеры, солдаты, инженеры и рабочие оборонных предприятий, стремящиеся продолжить борьбу и находящиеся за пределами страны либо намеренные покинуть ее, должны присоединиться к нему, чтобы организовать вооруженное сопротивление. Пламенный призыв, выношенный в предшествующие трагические недели, в тот момент мало кто услышал, но он знаменует собой важную дату. Отныне события разделились на до и после 18 июня 1940 года, даже если британское правительство не собиралось в тот момент рвать все связи с правительством Петена и поддерживать де Голля – ему вновь предоставили доступ к микрофону Би-би-си лишь 22 июня, когда перемирие стало свершившимся фактом. Значение призыва станут приуменьшать и те, кто предпочел действовать во Франции своими силами, и те, кто не доверял человеку, казавшемуся законченным авантюристом.
Необходимо подчеркнуть важный факт, который заслонили собой последующие события: покинув Францию 17 июня и выступив по радио на следующий день, де Голль сжег за собой все мосты и пошел на огромный риск. У него не было ни мандата, ни войск, ни средств. И в этом – его сходство с теми мужчинами и женщинами, кто в то же время встал на нелегкий путь, который правительство маршала Петена сразу же презрительно окрестило «диссидентством».
Мысли и поступки тех, кто на территории страны проявлял несогласие подобно де Голлю, проследить гораздо труднее, ибо они канули в безвестность. Так, лишь случайное обнаружение во время обыска, проведенного вишистской полицией в марте 1941 года, записной книжки Эммануэля д’Астье де Ла-Вижери позволило нам увидеть сквозь завесу времен, какие мысли волновали его в июне сорокового:
Понедельник, 10 июня 1940 г. – 12 июня. Постыдное решение не защищать Париж. Как верить этим старикам, даже прославленным?
Понедельник, 17 июня, 12:30. Речь Петена. Просьба о перемирии. Скверное выступление.
Среда, 19 июня. Де Голль прав. Петен и Вейган19 не правы. Запросить [перемирие] – позор.
Вторник, 2 июля. Остается надежда, что история отомстит за нас и отправит во мрак, как они того заслуживают, старых вояк, которые восседают на куче развалин и имеют наглость сомневаться в деле, которое отнюдь не проиграно.
Жану Мулену зрелище паники, охватившей весь город Шартр и даже его ближайших сотрудников, также придало мужества и решимости. 17 июня, когда оккупанты предложили ему подписать лживый документ с обвинениями сенегальских солдат французской армии в расправе над гражданским населением, он отказался. Его избивали несколько часов подряд, но он не уступил. Тогда его бросили в подвал префектуры, пообещав продолжить истязания на следующий день. Из последних сил Жан Мулен попытался перерезать себе горло осколком стекла, найденным на полу. Наутро 18 июня немцы обнаружили его полумертвым, истекающим кровью. Подобный поступок одного человека много говорит о первом порыве тех, кого тогда еще не называли участниками Сопротивления, да и сами они так о себе не думали. Это было актом отчаяния, но также и утверждением, что нравственные принципы превыше всего и есть уступки, пойти на которые невозможно. Радикальный отказ. Реакция человека, который сам принимает решение о том, как ему поступить, и в этом смысле представляет собой общий знаменатель тех, кто не желает мириться с происходящим. Вступление немцев в Париж вызвало у людей такое отчаяние, что несколько человек покончило с собой, как Тьерри де Мартель, 65-летний главный хирург Американского госпиталя в Нейи. Ветеран Первой мировой, кавалер ордена Почетного легиона, награжденный военным крестом за доблесть, не смог перенести подобного унижения.
Следует уточнить, что примеры Шарля де Голля и Жана Мулена, получившие известность благодаря той важнейшей роли, которую они сыграли в нашей истории, были не единичны и множество личных инициатив, не столь громких, также имели в дальнейшем решающие последствия. Здесь действовал один и тот же принцип. Прежде всего следовало преодолеть уныние, найти в себе силы осознать, что еще не все кончено; и мысль эта, поначалу таимая в душе, открывала перспективы, требовала «делать что-нибудь».
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе