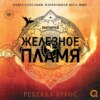Читать книгу: «История римских императоров от Августа до Константина. Том 6. Период «Пяти добрых императоров»», страница 3
Один частный случай, весьма похвальный для молодого человека, заслуживает упоминания здесь. Эгнаций Марцеллин, отправившись в провинцию (которую Плиний не называет) в качестве квестора, взял с собой писца, но тот умер до истечения срока его службы. Молодой квестор, получивший из государственной казны средства для выплаты жалования писцу, посчитал, что эти деньги не должны оставаться у него. Он обратился к императору с вопросом, как ими распорядиться, и был направлен в сенат. Там возник спор, который был рассмотрен и решён по правилам между наследниками писца и управляющими государственной казны. Сенат вынес решение в пользу последних. Но что более всего привлекло внимание в этом деле – это благородство поступка Эгнация, которое было единодушно одобрено.
Дела, которые часто вызывали бурные волнения во времена республики, теперь решались в полном спокойствии при единовластном правлении: примером тому служит вопрос о голосовании посредством баллов. Для сравнения с древними временами можно обратиться к «Истории» Роллена [45]. Вот как этот же вопрос был урегулирован при Плинии, который даёт нам весьма точное описание.
Выборы магистратов, с тех пор как они были предоставлены сенату, проводились устно, и поначалу всё происходило с большим достоинством и благопристойностью. Каждого кандидата вызывали по имени. Вызванный вставал и кратко излагал основания своих притязаний; он отчитывался о всей своей жизни; представлял свидетельства полководцев, под чьим началом служил, а если был квестором – то и высших магистратов; называл влиятельных лиц, которые его поддерживали. Эти лица выступали; серьёзным тоном, без напыщенности, без назойливых просьб, они отмечали добрые качества, которые знали за своим кандидатом, и причины, побуждавшие их поддерживать его рекомендацией. Если кандидат имел какие-либо претензии к сопернику относительно его происхождения или поведения, он излагал их скромно, без оскорблений. Сенат спокойно выслушивал всё, что каждый хотел сказать, и затем делал выбор обдуманно.
Ко временам Плиния этот прекрасный порядок изменился. Собрания сената для выборов подражали или даже превосходили своеволие народных собраний. Никто не умел ни дожидаться своей очереди говорить, ни молчать в нужный момент, ни даже оставаться на месте. Со всех сторон раздавались громкие крики: все просители выходили в центр зала со своими кандидатами, и там образовывались группы, поднимался шум, царила всеобщая неразбериха. Поражённые этими неудобствами, сенаторы единогласно потребовали – то ли в конце третьего консульства Траяна, то ли в начале следующего года – проводить выборы посредством баллов. Успех оправдал это нововведение: достойные лица были избраны, и все радовались столь удачно найденному решению.
Но, как и всё человеческое, это имело две стороны. Плиний сразу же опасался злоупотреблений тайным голосованием. «Я не ручаюсь, – писал он другу [46], – что под покровом молчания вскоре не проскользнёт бесстыдство; ибо где те, кто соблюдает законы честности в тайне так же, как на глазах у общества? Многие боятся мнения о себе, но мало кто заботится о свидетельстве своей совести». То, что он предвидел, случилось. На первых же выборах после этого обнаружилось несколько бюллетеней, заполненных шутками, насмешками и глупостями. «Такова, – говорит Плиний [47], – дерзость, которую внушает дурным умам мысль: „Кто узнает?“» Сенат выразил крайнее негодование по поводу столь непристойной и неуместной игры, но виновные остались неизвестны, и пришлось лишь сокрушаться, что зло сильнее лекарства.
Еще одним злоупотреблением была погоня за должностями. Кандидаты рассылали подарки, устраивали угощения, даже вручали денежные суммы третьим лицам, чтобы те распределили их после успеха среди тех, кто хорошо им послужил. На эти действия поступали жалобы в сенат, который поручил консулу обратиться к императору с просьбой пресечь эти беспорядки своей верховной властью. Тот так и сделал, и своим декретом о подкупах обязал кандидатов вести себя скромнее.
Тем же законом он постановил, что никто не может претендовать на должность, если по меньшей мере треть его имущества не вложена в земельные владения или дома, расположенные в Италии. Он справедливо полагал, что люди, стремящиеся занимать магистратские должности в Риме, не должны считать Италию перевалочным пунктом, где у них нет никакой оседлости.
Незадолго до этого были возобновлены старые постановления, запрещавшие адвокатам принимать от клиентов деньги или подарки. Таково было предписание закона Цинция, принятого в конце Второй Пунической войны. Этот закон был восстановлен в начале правления Нервы. Но алчность прорывала все преграды, и возродившееся злоупотребление побудило в описываемое мною время претора Лициния Непота, человека твердого и энергичного, проявить свое рвение. Плиний в трех своих письмах сообщает о действиях этого претора, но так, что для нас остаются некоторые неясности: впрочем, подробности этого дела сегодня не представляют особого интереса. Я ограничусь лишь замечанием, что в реформу, начатую Непотом, вмешались авторитет сената и принцепса: у Плиния [48] мы находим текст сенатусконсульта, который накладывал обязательства не на адвокатов, а (что кажется мне странным) на тяжущихся – необходимость принесения клятвы по этому вопросу. Тот, кто имел какое-либо дело, должен был поклясться перед допуском к суду, что ничего не дал и не обещал адвокату, которому поручал свою защиту.
Плиний, который не только всегда воздерживался от каких-либо соглашений, но и никогда не принимал от клиентов ни вознаграждений, ни даже простых дружеских подарков, был восхищен, когда его личное правило стало общим законом. Его со всех сторон поздравляли: одни в шутку говорили, что он был провидцем, другие – что новый указ положил конец его мздоимству и корыстным действиям. Таким образом, он наслаждался славой, к которой был чрезмерно чувствителен; что, однако, не умаляет достоинств его благородного поведения. Я уже отмечал, что разница во времени и обычаях смягчила среди нас в этом отношении строгость римских постановлений, но не поколебала принципы человеколюбия и великодушия, на которых они были основаны и которые столь подобают столь почтенной профессии.
В 854 году от основания Рима Траян принял пятое консульство вместе с Максимом, который сам был консулом во второй раз. Этот Максим, по-видимому, тот самый, который подавил мятеж Луция Антонина при Домициане, а затем с честью исполнял важное командование в войне Траяна против Децебала. Год пятого консульства Траяна снова был мирным, и принцепс продолжал завоевывать любовь к своему правлению проявлениями доброты и справедливости. Вот один из примеров, показывающих его рвение и проницательность в разоблачении клеветы и защите невинности, атакованной грязными интригами.
Лустрик Бруттиан, будучи наместником провинции, приблизил к себе некоего Монтана Аттициана как друга и поручал ему различные дела. Но ему пришлось в этом раскаяться. Тот, кому он доверял, оказался негодяем, повинным во всевозможных преступлениях, так что Бруттиан счел своим долгом написать об этом императору. Аттицин, взбешенный и испуганный, сам выступил обвинителем Бруттиана и, проявив чудовищное коварство, сумел тайно завладеть канцелярскими записями наместника, вырвал из них множество листов и предъявил на суде изувеченную книгу как доказательство злоупотреблений обвиняемого. Дело разбиралось перед Траяном, и Плиний был одним из судей. Стороны сами кратко изложили свои доводы по пунктам, и Бруттиан, уверенный в своей невиновности, не только отразил выдвинутые против него обвинения, но и раскрыл все преступления своего обвинителя, представив доказательства. Траян, стремившийся лишь к установлению истины, сразу ухватил суть дела. Он распорядился начать с вынесения приговора обвинителю, который был приговорен к изгнанию. Бруттиан же вышел из процесса с триумфом, с блистательным свидетельством своей честности и безупречного поведения.
Траян считал своим долгом лично вершить правосудие, и даже находясь в своих загородных резиденциях, не позволял себе пренебрегать этой важной государственной обязанностью. Плиний, проведший с ним три дня в Центумцеллах [49], описывает три дела, каждое из которых заняло свой день.
Первый [случай] касался самого знатного гражданина Эфеса, Клавдия Аристона, человека великолепных нравов, который снискал народную любовь без каких-либо преступных амбиций. Роскошь, в которой он жил, вызвала зависть, и один жалкий доносчик попытался его погубить. Аристон был оправдан и отомщен.
На следующий день разбиралось дело о прелюбодеянии. Галитта, жена военного трибуна, собиравшегося добиваться должностей, запятнала свою честь и честь мужа преступной связью с центурионом. Муж пожаловался командующему армией, в которой служил, и тот написал императору. Траян сначала разжаловал центуриона и даже сослал его. Затем предстояло судить жену, но муж, проявив недостойную слабость, не спешил преследовать её. Он даже оставил её у себя после этого скандала, словно удовлетворившись лишь устранением соперника. Его заставили довести начатое дело до конца. Галитта была осуждена, к великому сожалению её обвинителя, и подверглась наказанию по закону Августа против прелюбодеяний. Поскольку это дело само по себе не относилось к тем, которые должны рассматриваться императором, и лишь статус вовлечённых лиц побудил его заняться им, он, вынося приговор, особо отметил это обстоятельство, указав, что речь идёт о военных офицерах, дабы не создавать впечатления, будто он вмешивается в правосудие или присваивает себе все дела.
На третий день обсуждалось давнее дело, в котором был замешан вольноотпущенник императора Евритм. Суть процесса заключалась в подозрении на подложность одного кодекса, и наследники завещателя возбудили иск против Евритма и римского всадника по имени Семпроний Сенецион. Сначала все они выступили истцами, но затем некоторые, словно из уважения к вольноотпущеннику Цезаря, попросили снять обвинения. На это Траян произнёс замечательные слова: «Почему вы отказываетесь? Мой вольноотпущенник – не Поликлет, а я – не Нерон». Однако в день суда явились лишь двое наследников, и они потребовали либо обязать всех заинтересованных лиц присоединиться к их иску, либо позволить им самим отказаться от преследования. Адвокат Семпрония и Евритма возражал, заявляя, что его клиенты остаются под позорящим их подозрением. «Меня это не касается, – живо ответил Траян. – Я сам становлюсь подозрительным, будто покровительствую несправедливости». И, обратившись к судьям, добавил: «Решите, как нам поступить, ибо эти люди, кажется, жалуются, что им не дали свободы добиваться своего права». Было решено, что все наследники должны участвовать в процессе либо предъявить уважительные причины для отказа, чтобы суд мог оценить их обоснованность; в противном случае они подлежали наказанию за клевету. Такова была щепетильность Траяна в отношении своей репутации: он не желал допустить даже малейшего пятна в вопросах справедливости для всех граждан.
Так проходили дни в Центумцеллах. Вечером все собирались на ужин, куда принцепс приглашал знатных особ своего двора. Стол был накрыт скромно, без роскоши. Траян развлекал гостей музыкой и комедиями или же непринуждённая беседа приятно затягивала трапезу далеко за полночь. В последний день император раздал сопровождавшим его в этом небольшом путешествии гостинцы, согласно обычаю, принятому среди друзей.
В Центумцеллах он занимался тогда весьма полезным для общества делом: строил порт, названный его именем и известный ныне как порт Чивитавеккья, где папа держит свои галеры. Траян создал этот порт, возведя два мола, уходящих в море, а на их входе построил островоподобный волнолом, смягчавший силу волн и обеспечивавший спокойствие судов в гавани.
Позднее он также на свои средства построил порт в Анконе на Адриатическом море, желая сделать подходы к Италии удобными со всех сторон. В этом городе до сих пор стоит памятник, воздвигнутый в его честь сенатом и римским народом в знак признательности за это благодеяние. Надпись указывает девятнадцатый год правления Траяна, что соответствует 867 году от основания Рима.
Вскоре после пребывания Плиния в Центумцеллах, согласно Тильмону, он отправился в Понт и Вифинию. Траян назначил его управлять этими двумя провинциями в качестве своего легата с титулом пропретора, наделённого консульской властью. Вифиния была сенатской провинцией и потому обычно управлялась пропроконсулами, избираемыми по жребию. Но, как сам Траян пишет Плинию, там распространились злоупотребления, требовавшие исправления. Незадолго до этого вифинцы обвинили двух своих пропроконсулов, Юлия Басса и Руфа Варена, в вымогательстве. Можно предположить, что по этим причинам Траян решил временно взять провинцию под свой прямой контроль, выбрав Плиния как наиболее способного навести там порядок.
Плиний вступил в управление 17 сентября и оставался там около восемнадцати месяцев. До нас дошли письма, которые он писал за это время Траяну, и ответы императора. Из них видно, что Траян допускал, чтобы его называли «Господином» (Domine), тогда как Август всегда отвергал этот титул. Но обстоятельства изменились, и обычай возобладал.
В переписке между Плинием и Траяном следует обратить внимание, с одной стороны, на верность магистрата, который испрашивает указаний государя по всем сколько-нибудь сомнительным делам; а с другой – на достоинство, справедливость и здравый смысл, которыми проникнуты ответы Траяна, исполненные бесчисленных свидетельств доброты, которую он расточает Плинию как другу. Но ничто не интересует нас так сильно, как знаменитое Письмо Плиния относительно христиан. Хотя оно встречается повсюду, оно составляет слишком существенную часть такого сочинения, как настоящее, чтобы мне можно было его опустить. Я приведу его целиком вместе с ответом Траяна. Плиний пишет императору в следующих выражениях [50]:
«Я имею обыкновение, государь, обращаться к тебе во всех моих сомнениях. Ибо кто лучше тебя может разрешить мои затруднения или восполнить недостаток моих знаний? Мне никогда не приходилось присутствовать на следствии или суде по делам христиан, и потому я не знаю, что именно в этом случае заслуживает наказания и в каких пределах следует применять строгость кары или тщательность расследования. Поэтому я немало затруднялся в решении многих вопросов: следует ли делать различие между возрастами или же самых юных надлежит наказывать наравне со взрослыми; заслуживает ли прощения раскаяние или же тот, кто был христианином, ничего не выигрывает, перестав им быть; должно ли наказывать одно только имя, даже если за ним не стоит никакого преступления, или же преступления, связанные с этим именем. Вот как я поступал в отношении тех, кого мне доносили как христиан. Я спрашивал их, христиане ли они. Признавшихся я спрашивал во второй и третий раз, угрожая смертью. Если они упорствовали, я приказывал вести их на казнь. Ибо, не вникая в то, преступно ли их признание, я не сомневался, что по крайней мере их упрямство и непреклонное упорство заслуживают наказания. Среди тех, кто дошел в своем безумии до такой крайности, оказалось несколько римских граждан; я отделил их от прочих и отправил в Рим.
Внимание, уделяемое такого рода делам, умножило их число, как это обычно бывает, и представило мне новые случаи для решения. Мне подали анонимный донос с длинным списком имен. Но те, на кого в нем указывалось, отрицали, что они христиане или когда-либо были ими. Действительно, они вслед за мной повторили молитвы, которые мы возносим богам; воскурили фимиам и возлили вино перед твоим изображением, которое я велел принести вместе со статуями богов; наконец, они прокляли Христа, как они его называют. На этом основании я счел возможным освободить их от обвинения. Ибо говорят, что истинных христиан нельзя принудить ни к чему подобному.
Нашелись и другие, которые сначала признались, что они христиане, а затем отреклись; были и такие, которые признали, что были христианами в прошлом, но теперь, вот уже три года, давно, а некоторые даже двадцать лет, не являются ими. Все они поклонились твоему изображению и статуям богов и согласились проклясть Христа. Впрочем, они утверждали, что вся их вина или заблуждение состояли лишь в том, что они собирались в определенный день до восхода солнца, воспевали Христа как Бога и клятвенно обязывались не совершать никаких преступлений, а только не красть, не грабить, не прелюбодействовать, не нарушать данного слова и не удерживать вверенного им имущества. После этого они расходились, а затем снова собирались для вкушения безобидной пищи. Они добавляли, что прекратили эти собрания после твоего указа, которым, согласно твоему повелению, я запретил тайные сходки.
Чтобы удостовериться в истинности их показаний, я приказал подвергнуть пытке двух рабынь, но не обнаружил ничего, кроме суеверия, исполненного извращенности и безумия. По этим соображениям я приостановил следствие и решил обратиться к тебе за советом, тем более что число обвиняемых очень велико и среди них люди всякого возраста, пола и состояния. Ибо зараза этого суеверия распространилась не только по городам, но и по деревням и селам. Впрочем, зло это еще не безнадежно. Уже теперь видно, как храмы, почти опустевшие, вновь наполняются народом, а давно прекращенные торжественные жертвоприношения возобновляются. Раньше почти не находилось покупателей для жертвенных животных, теперь же их продается множество. Отсюда легко заключить, какое множество людей можно вернуть, если дать им возможность раскаяться».
Это письмо бесконечно ценно для нас как прекрасное свидетельство о чистоте нравов наших первых отцов; свидетельству этому нельзя не доверять, ибо оно исходит от того, кто осуждал их на смерть. Оно подтверждает необычайное умножение числа христиан спустя так мало времени после возникновения христианства. Оно дает нам повод сожалеть о слепоте человека столь просвещенного и разумного, как Плиний, который, не исследуя истинности или ложности учения, карает смертью всякого, кто остается ему верен. Траян, столь мудрый и добрый государь, не проявил большей справедливости, чем его наместник. Вот его ответ.
Вы поступили как должно, мой дорогой Плиний, при рассмотрении дел тех, кого обвиняли перед вами как христиан; ибо невозможно установить общее правило или единую процедуру, применимую ко всем случаям. Не следует предпринимать специальных розысков для их обнаружения. Если их приводят на ваш суд и изобличают, вы должны наказать их; с той оговоркой, однако, что если кто-то отрицает свою принадлежность к христианам и подтверждает это делами – то есть поклонением нашим богам, – то даже если в прошлом он был под подозрением, его раскаяние должно принести ему прощение. Что касается анонимных доносов, их не следует принимать во внимание ни в каком деле. Это слишком дурной пример, не соответствующий нашему времени.
Было вполне достойно Траяна запретить использование анонимных доносов: но в первой части его ответа какая непоследовательность – с одной стороны, запрещать разыскивать христиан, а с другой – приказывать наказывать их как преступников, если кто-то их обвинит!
Таково, впрочем, представление о гонениях, которые претерпевала Церковь при Траяне. Хотя этот император, движимый, возможно, суеверной ревностью к своей религии или, скорее, введенный в заблуждение ложной политикой, заставлявшей его считать любую новизну в вопросах культа опасной для государства, ненавидел христиан и санкционировал их казни, он не издал всеобщего эдикта против них. Народные волнения, произвол и жестокость провинциальных наместников, закон, который Траян установил для себя – казнить за упорство в христианстве, – вот причины, по которым в его правление появилось множество мучеников. Самые известные из этих доблестных воинов Христовых – святой Симеон Иерусалимский и святой Игнатий Антиохийский; но рассказ об их славной смерти принадлежит церковной истории: я ограничусь своим предметом.
Не похоже, чтобы Плиний прожил долго после возвращения из управления Понтом и Вифинией. История больше не упоминает о нем, а события, описанные в его письмах, не выходят далеко за эти пределы.
Невозможно читать этого автора, не полюбив его; и я бы счел своим долгом нарисовать здесь, на основании фактов, которые предоставляют его письма, картину его души и всех его прекрасных качеств, если бы это уже не было сделано рукой более ученой, чем моя. Роллен [51] с удовольствием изобразил характер, весьма схожий с его, разве что у Роллена религия возвышала и освящала добродетели, которые Плиний умалял любовью к суетной славе, бывшей его конечной целью.
Поскольку г-н Роллен не мог и не должен был сказать всего, он опустил один факт, который мне кажется весьма интересным во всех своих обстоятельствах и очень почетным для Плиния [52]. Я думаю, читателю будет приятно найти его здесь. Помпония Гратилла, которая, видимо, была вдовой Арулена Рустика и которую Домициан сослал одновременно с казнью ее мужа, имела от другого брака сына по имени Ассудий Куриан, чье поведение ее мало удовлетворяло. Она лишила его наследства в завещании, назначив наследниками Плиния вместе с Серторием Севером, бывшим претором, и несколькими римскими всадниками знатного имени и положения. Куриан, решив оспорить завещание, предложил Плинию уступить ему свою долю наследства, пообещав дать встречное письмо, которое аннулировало бы дарение. Цель Куриана состояла в том, чтобы создать предубеждение против действительности завещания, которое он хотел отменить. Плиний ответил ему, что не в его характере совершать публичный поступок, чтобы тайным актом его разрушить. «Кроме того, – добавил он, – вы богаты, у вас нет детей; дарение, которое я вам сделаю, будет выглядеть подозрительно. Наконец, в том виде, как вы просите, оно вам не принесет пользы; тогда как отказ от моего права в вашу пользу был бы вам полезен; и я готов его оформить, если буду убежден, что вас несправедливо лишили наследства». – «Хорошо, – ответил Куриан, – я беру вас самого в судьи». Плиний на мгновение заколебался, но, подумав, сказал: «Согласен; ибо почему я должен думать о себе хуже, чем вы? Но предупреждаю вас, и помните это: у меня хватит мужества, если ваше дело плохо, подтвердить решение вашей матери». – «Пусть будет по-вашему, – ответил Куриан, – ибо вы не пожелаете ничего, кроме справедливого». Плиний взял себе в советники двух самых уважаемых людей города – Корнелия и Фронтина – и в их присутствии устроил заседание в своих покоях. Куриан изложил свою позицию. Плиний ответил ему, поскольку никто другой не мог защитить честь завещательницы; затем он удалился с советниками в кабинет и, по их мнению, вынес решение в таких словах: «Куриан, у вашей матери были веские основания лишить вас наследства».
Такой приговор, в котором Плиний выступил и судьей, и адвокатом, и стороной, был уважен тем, против кого он был вынесен. Куриан вызвал других наследников по завещанию своей матери в суд центумвиров, но не привлек к делу Плиния. Уже приближался день суда, и сонаследники Плиния опасались исхода из-за неблагоприятных времен. Домициан еще был жив; и поскольку некоторые из них были друзьями Рустика и Гратиллы, они боялись, как бы гражданское дело не превратилось для них, как уже бывало, в уголовное. Они выразили Плинию свои опасения и желание договориться. Плиний взял на себя переговоры. Он предложил Куриану то, что юристы называют «фальцидиевой четвертью» – четверть наследства, гарантированную законом Фальцидия наследникам по крови, – и обязался внести свою долю. Куриан принял предложение; и что особенно показывает, какое уважение и почтение вызывает безупречная честность, – этот самый Куриан, умирая несколько лет спустя, оставил Плинию завещательный дар, который, хотя и был скромен по стоимости, в тех обстоятельствах доставил ему больше удовольствия, чем богатое наследство.
Плиний был тесно связан дружбой с Тацитом; основой этой связи стали общие чувства честности и ненависти к тирании, а также любовь к литературе и занятия красноречием, которые их объединяли [53]. Их охотно упоминали вместе как двух величайших ораторов своего времени, и Плиний с удовольствием рассказывает небольшой случай, подтверждающий это. Однажды на зрелище Тацит оказался рядом с незнакомцем, который после долгого разговора о литературных темах спросил, с кем беседует. «Вы меня знаете, – сказал Тацит, – даже через сочинения». – «Вы Тацит или Плиний?» – живо воскликнул незнакомец. Сама мысль о литературе и красноречии сразу же вызывала имена этих двух знаменитых друзей, бывших их главными представителями.
Между ними не было ни соперничества, ни зависти. Они обменивались своими трудами, чтобы получать советы друг от друга, и делали это с искренностью и прямотой. Плиний, будучи моложе Тацита, с юных лет стремился подражать ему и следовать за ним, хоть и на большом расстоянии, как он сам выражался. Он достиг желаемого, что стало для него источником радости. «Я счастлив, – пишет он Тациту [54], – что, говоря о красноречии, нас называют вместе; упоминая вас, мое имя следует за вашим. Есть ораторы, которых ставят выше нас обоих, но мне неважно, на каком месте мы связаны, ибо для меня высшая честь – быть вторым после вас. Вы, наверное, замечали, что в завещаниях, если только завещатель не близкий друг одного из нас, нас включают вместе и назначают одинаковые доли. Все это должно укреплять нашу взаимную привязанность, ведь литература, сходство нравов, слава и даже последняя воля усопших связывают нас столькими узами».
Похоже, Тацит пережил Плиния, так как последний, подробно описывая в письмах и восхваляя всех умерших друзей, ни словом не упоминает о смерти Тацита. Можно предположить, что Тацит, судя по масштабу его трудов, дожил до глубокой старости при Траяне. Действительно, он начал писать исторические сочинения именно при этом императоре. Его первая работа – «О происхождении и местоположении германцев» – датируется вторым консульством Траяна, совпавшим с первым годом его правления. Затем Тацит создал «Жизнеописание Агриколы». Успех этих шедевров вдохновил его на «Историю», охватившую 28 лет – от второго консульства Гальбы до смерти Домициана. Он упоминает [55], что планировал описать правления Нервы и Траяна, но, хотя и радовался возможности сохранить такой благодатный материал для старости и хвалил эпоху, где «можно думать, что хочешь, и говорить, что думаешь», его свободный дух, вероятно, не позволил писать историю живого правителя, пусть и достойного. Закончив «Историю», он обратился к более ранним временам и создал «Анналы» – от смерти Августа до Нерона. Он планировал также описать правление Августа, но смерть или болезни помешали этому. Из 30 книг его трудов сохранилось 17, причем четыре – в поврежденном виде.
Тацит, возможно, был сыном Корнелия Тацита, римского всадника и прокуратора Белгики, упомянутого у Плиния Старшего [56]. Карьеру начал при Веспасиане, стал претором при Домициане, консулом – при Нерве. Его исторические труды обессмертили имя. Я стремился включить их в свою работу, и через мое изложение читатели узнают его лучше, чем я смог бы описать.
Другой менее известный, но заметный литератор, Силий Италик, умер в первые годы правления Траяна [57]. Он запятнал репутацию при Нероне, но восстановил ее при Вителлии и как проконсул Азии. В старости, удалившись от дел, он писал поэму о Второй Пунической войне. Плиний отмечал, что в его стихах больше труда, чем таланта. Силий жил в почете, коллекционировал статуи великих, особенно почитая Вергилия. В 75 лет, страдая от неизлечимой болезни, он уморил себя голодом, став последним из консулов, назначенных Нероном.
Вскоре после него умер поэт Марциал [58], автор едких эпиграмм. Лишившись милостей Домициана, он покинул Рим и вернулся в испанский Бильбилис [59], получив перед отъездом подарок от Плиния. Умер около 851 года от основания Рима, прожив в изгнании три года.
Считают, что Ювенал написал большую часть своих сатир в правление Траяна. Они сильно отдают, как заметил г-н Депрео*, криками школы, в которой воспитывался автор. В них, без сомнения, встречаются великие и прекрасные максимы, благородство, энергия; но эта энергия часто доходит до циничной наглости; к тому же в целом в этих произведениях царит декламаторский тон, мало способный нравиться тем, кто сумел оценить изысканную веселость, легкую грацию и милую непринужденность сатир Горация. Я не побоюсь сказать, что Ювенал, как мне кажется, даже ниже Персия**, который, без сравнения, скромнее, содержательнее, и чей темный, но без напыленности стиль выдает писателя, убежденного в том, что он говорит.
К стольким именам, более или менее значимым в литературе, я полагаю нужным добавить одного их современника, который походил на них лишь в безобразии: плохой оратор, бесчестный человек, но знаменитый, влиятельный, пользующийся доверием и обогатившийся благодаря злоупотреблению искусством речи. Речь о Регуле, о котором я уже не раз упоминал и о котором Плиний*** сообщает несколько любопытных и интересных анекдотов.
Регул – пример того, на что способны дерзость и наглость без помощи таланта и почти вопреки природе. У него был слабый и невнятный голос [60], тяжелый язык, мало изобретательности, никакой памяти; и тем не менее он восполнял все свои недостатки неистовой горячностью, которая впечатляла толпу и заставляла тех, кто не разбирался в ораторском искусстве, считать его оратором. Это был пылкий характер, могущественный в интригах. Если ему предстояло вести дело, он требовал и получал право говорить столько, сколько считал нужным; он собирал толпу слушателей своими происками; короче, он умел использовать все средства, которые желание блистать и шуметь заменяют истинным достоинством.
К безумному честолюбию он добавлял страсть к богатству, и все пути были для него хороши, чтобы его стяжать. Мы видели, как он, еще молодой, наживался на крови невинных, которых обвинял. Он получил от Нерона семь миллионов сестерциев [61] за помощь в уничтожении дома Крассов. С не меньшим рвением он стремился попасть в завещания богачей, используя для этого одновременно хитрость и дерзость. Вот несколько примеров такого рода, собранных Плинием в одном письме.
Пизон Лициниан, брат Красса, чью гибель вызвал Регул, и сам сосланный, вероятно, по проискам этого опасного клеветника, – Пизон, позже усыновленный Гальбой и убитый вместе с ним, – оставил вдову по имени Верания, дожившую до правления Траяна. Когда эта дама тяжело заболела, Регул, зная, как он должен быть ей ненавистен, все же пришел навестить ее, сел у ее ложа и, притворяясь глубоко заинтересованным в ее здоровье, разыграл роль астролога. Он спросил, в какой день и час она родилась. Получив ответ, он принял серьезный и сосредоточенный вид, шевелил губами, считал на пальцах – все это, чтобы держать больную в напряжении и заставить ждать чего-то чудесного. «Вы в своем критическом году, – сказал он, – но вы выздоровеете. И чтобы вы в этом убедились, я посоветуюсь с гаруспиком, чьи знания не раз проверял». Он действительно принес жертву и сообщил Верании, что внутренности жертв согласуются с указаниями звезд. Охотно верят тому, чего желают: больная, обнадеженная мыслью о выздоровлении, потребовала завещание и добавила в него дар Регулу. Вскоре болезнь усилилась; она почувствовала, что умирает, и перед смертью горько жаловалась на обман. Но обманщик уже держал добычу и смеялся над этими запоздалыми и бессильными жалобами.
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе