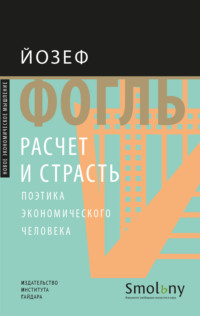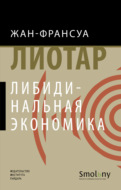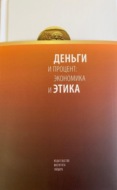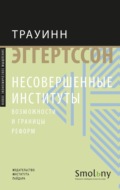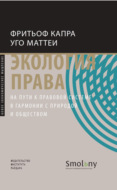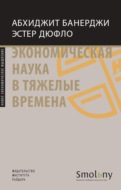Читать книгу: «Расчет и страсть. Поэтика экономического человека», страница 6
Полицейско-правовой порядок (Policey)
С этой фигурой политического знания связано и изменение целей и объектов политического правления. Ведь чем в большей мере политическая практика отныне соотносится с корреляцией различных предметных областей друг с другом, с взаимозависимостью людей и вещей, индивидов и богатства, населения и территорий, тем в большей степени правление предстает как вмешательство, которое в разных отношениях играет не только негативную и ограничительную, но и позитивную и стимулирующую роль. Государство не ограничивается одной лишь защитной функцией, созданием внутреннего и внешнего мира. Напротив, в его камералистское определение входит констатация, что оно присутствует во всех отношениях и во всех отношениях капитализируется, что его «глаз» наблюдает за всеми делами и вопросами, одновременно поддерживая их в постоянном «движении» и ежедневно изобретая новые средства и техники для удобства всех187. Таким образом, политическая анатомия элементарных и сложных отношений связывается с пасторским принципом правления, с пасторской технологией, которая, как показал Фуко, преобразует иудео-христианский принцип, утверждающий обязательную заботу «пастыря» о своем «стаде», в новый тип политической рациональности и конкретизируется в сфере поддержания «доброго порядка» (gute Policey). Как уже отмечалось, пространство знания камерализма, предметно, персонально и институционально неотделимо от полицейской науки, тем более и в целом границы между различными ответвлениями и подобластями государствоведения кажутся нечеткими и текучими188. То, что в XVII–XVIII века понимается под «Policey», столь же мало, как и камерализм, ограничено какими-либо объектными полями. Области компетенции органов полицейско-правового порядка потенциально неограниченны, и отныне они берут на себя задачи позитивного вмешательства и регулирования в рамках политического правления. После того как за пределы понятия «полиция» были выведены локальные, городские и феодальные предписания по поводу одежды и роскоши, цехов и нравов, пожарной опасности и нищих, оно распространяется на условия жизни людей, на формы совместной жизни в целом и на все области политического существа, оно намечает перспективы в этих областях с точки зрения отношений и коммуникации и перенаправляет действия, способствовавшие индивидуальному и всеобщему благосостоянию, на усиление государства вообще189. Как следствие, этот полицейско-правовой порядок включает в себя прежде всего «познание» того, каким образом данное состояние общества можно сохранить, развить и улучшить; затем в его рамках подготавливаются «средства» для сбережения и увеличения «физических и моральных сил» соответствующей страны; и наконец, он реализуется во множестве всех актуальных мероприятий, чтобы «посредством добрых внутренних установлений сохранить и преумножить все достояние государства и придать республике всю внутреннюю мощь и силу, на которую она только способна согласно своим качествам»190.
Таким образом, полицейско-правовой порядок является одновременно способом познания, инструментарием и программой вмешательства в жизнь социума, а многочисленные дефиниции того времени вращаются, по сути, вокруг двух его целей: оптимизации социального потенциала и попытки обеспечить непрерывность существования государства в конкретных условиях. Так, по всей видимости, с конца XVII столетия в теориях «Policey» формируется некое новое понимание политического управления и некая новая фигура, участвующая в значимых событиях, которые обретают контуры в перспективе заботы о будущем. Если политику можно определить как искусство «читать в будущем»191, то полиция отныне решает задачу cura advertendi futura192, а стало быть, задачу превращения будущего государства в нечто предсказуемое и «придания государству такой прочности, чтобы его существование было защищено во всех возможных случаях»193. При этом в представлениях XVIII века о полицейско-правовом порядке речь шла отнюдь не только о том, чтобы охватить все области политического тела тем способом, который вполне заслужил того, чтобы именоваться тоталитарным. Эти представления получают свое теоретическое и систематическое значение именно в силу того, что свои модели вмешательства в социальную жизнь они ориентируют на конкретные данности и на «природу вещей», впервые ставя вопрос о взаимосвязи и регуляции контингентных событий. Во всех областях, будь то медицина, ремесла, торговля, личная собственность, общественная мораль, внутренняя безопасность или демографическая политика, теперь утверждается точка зрения, в соответствии с которой государство рассматривается как институт заботы о будущем, профилактики и страховки от возможных случайностей и несчастных случаев. В этой точке сходятся различные проекты, которые под рубрикой «полицейских» обещают координацию разрозненных событий разными структурами системы: политической арифметикой или статистикой, распознающей во множестве отдельных данных закономерности, а в серии прошедших событий – вероятность событий будущих и тем самым выводящей принципы провиденциального порядка; учреждением институций и ведомств, которые наблюдают и регулируют болезни, бедность и преступность как явления, равным образом несущие социальный вред; концепцией «страховых компаний», интегрирующей отдельные несчастные случаи в экономику уравнивания и тем самым – как это было уже в предложениях Лейбница – включающей их как калькулируемый фактор в гармонию целого194; системой воспитания, которая – особенно в прусско-немецкой версии – предполагает педагогическое воздействие государства и для государства195; или, наконец, концепцией самого государства как страхователя, страхующегося как от других, так и от самого себя, и в своего рода перестраховании использующего свое имущество и в качестве имущества для обеспечения своего имущества: «Итак, во всех предприятиях, для каковых употребляются все силы государства, или каковые затрагивают имущество государства в его совокупности, правительство должно страховать каждый свой шаг»196. Экономизация государства и его ориентация на управление цепочками контингентных событий представляют собой две стороны одного и того же процесса и делают возможными определения, в которых государство сравнивается с учреждением «агентства по страхованию от огня» или же само буржуазное общество мыслится как «акционерная компания»197, в которой осуществляется всеобщее распределение и компенсируются прибыли и убытки.
В любом случае полицейско-правовой порядок в камерализме представлял собой совокупность всех модусов надзора и действия государства, в орган управления, оперирующий в рамках правовых санкций. На примере различных полей деятельности можно обнаружить, что в центре политического знания находится постижение трансформации простых опасностей в риски и систематизация событий, которые ни необходимы, ни невозможны, а стало быть, являются по своей сути контингентными. В XVIII столетии Policey именно в силу своего нечеткого предметного и институционального разграничения становится ответственным за специфическое самовосприятие общества, для которого контингентные события, их связь и координация превратились в первостепенную задачу политического правления – в надзор и вмешательство. Поэтому случайность как социальный факт в столь же малой степени представляет собой некую данность, как образование цепочки случайностей – какое-либо всеобщее и долговременное политическое требование. И то и другое скорее являются эффектом нового политического функционального знания и получают статус проблематической констелляции только в рамках этого знания. Ведь чем более запутанными становятся связи, которые «приходится принимать во внимание при рассмотрении общества», тем более неопределенным, сомнительным и косвенным оказывается воздействие самого правительственного вмешательства198. Можно выразиться еще точнее: подробные и обстоятельные описания функции полицейско-правового порядка в XVIII столетии можно в той или иной мере понять как попытки разрешить проблему, состоящую в том, что новое государствоведение конституируется не в последнюю очередь как наблюдение второго порядка и именно поэтому обращается к вопросу о регулировании массивов контингентных событий199. Поскольку интерес Policey направлен прежде всего на отношения между социальными агентами, на коммуникацию и на формы социальных связей, то он представляет собой наблюдение за наблюдением. Тем самым он не только фиксирует различия (например, в соответствии с критерием полезности или государственных целей), но и наблюдает, как различия фиксируются где-то еще; таким образом, то, что наблюдается, зависит от того, за кем наблюдают; это порождает структурную неопределенность, оставляющую нерешенным вопрос о том, следует ли приписать установленный признак наблюдаемому наблюдателю или же тому, что он наблюдает; тем самым каждое событие неизбежно связано с возможностью своего инобытия и именно в качестве такового – то есть потенциального – оказывается значимым; и наконец, вследствие этого в «полицейском» наблюдении строго систематически возникает та контингентность, которая, в свою очередь, сама систематически редуцируется «полицейским» вмешательством, как подавлением и исключением, так и профилактикой, предусмотрительностью, устранением ограничений и стимуляцией.
Итак, функция полицейско-правового порядка как регуляции до сих пор нерегулируемых и почти ненаблюдаемых областей внутреннего порядка, с одной стороны, и возникновение поддающейся систематическому учету контингентности – с другой, взаимосвязанны. Еще Гегель точно описывал эту связь: наблюдение социальной коммуникации в эффективном взаимодействии отдельных действий генерирует «случайность», избегающую произвола индивидов и одной только «возможностью нанесения вреда» подрывающую юридическое и персональное вменение. Это требует «регулирования», которое не в силах опираться на какой-либо правовой принцип, «объективную пограничную линию» или надежный критерий своей способности вмешательства, а вынуждено принимать решения от инцидента к инциденту, от случая к случаю, и потому может без особенных качественных различий принимать как тоталитарный, так и либеральный облик. Но одновременно именно отсюда для «полицейского надзора и предусмотрительности» вытекает задача «опосредования индивида всеобщей возможностью, имеющейся для достижения индивидуальных целей», а это не в последнюю очередь означает: создание условия селекции, из всех возможных событий предпочитающего те, реализация которых одновременно увеличивает силы и способности государства200. Таким образом, если камерализм конституируется как энциклопедическая система знания о возможностях государства в самом широком смысле, то Policey занимает в нем строго функциональную позицию оператора, осуществляющего вмешательство в процессе формирования социального потенциала. Он представляет собой пространство, в котором контингентность в равной мере наблюдается и редуцируется, фиксируется и регулируется, в конечном счете осуществляя продуктивный разворот самого сугубо случайного. Стало быть, самые разные политэкономические точки зрения фокусируются на том принципе правления, который отличается от неприкрытого господства, апеллирует к косвенным механизмам коррекции экономического, социального и персонального поведения201 и находит свой привилегированный предмет в редактировании и регуляции случайности. И спор, разгоревшийся в XVIII столетии, – например, между физиократами и камералистами или между различными разновидностями самого камерализма, – о «мании регулирования», «административном манипулировании» и регламентирующей роли полиции202, в конечном счете вращается главным образом вокруг этой критической точки, вокруг вопроса о том, что является более рациональным: дирижировать контингентными движениями в социальной коммуникации посредством педантичных предписаний или же с помощью неощутимых воздействий. Так, например, для внутреннего совершенства полицейско-правового порядка может потребоваться «недреманное око», а также «немало хитроумия, познаний и изрядной рассудительности, более того, множество тайных приемов, дабы соизмерять объемы продуктов питания с количеством людей и количество людей с объемами продуктов питания и в любом возникающем случае смягчать ситуацию без конфликтов и разорений или изменения и обновления их местожительства»203. Однако, как пишет Юнг-Штиллинг, политическое искусство как раз наоборот заключается в «незаметности» и нейтрализации полицейского управления: «…ибо тот, кто становится незаметным, не встречает сопротивления. Именно поэтому природа также творит свои величайшие шедевры под покровом тайны: ведь тогда ей никто не сможет противодействовать»204.
Богатство и население
В политической эпистемологии XVIII столетия экономическое, как оно формируется в немецком камерализме, принимает облик всеобщего политического функционального знания и теории сил, с помощью полицейско-правового порядка регулирующей свое вмешательство в контингентные данные и социальную коммуникацию. Вместе с тем эта новая технология правления с полным правом может быть понята как реакция на начавшийся в XVIII столетии рост народонаселения и распространение производственных машин, она вызвана необходимостью координировать аккумуляцию капитала и аккумуляцию людей, принимая во внимание увеличение государственной мощи. Как отмечал Фуко, в ней эффективно действуют властные механизмы, которые более не функционируют, подобно феодальным, как инстанции ограбления и взимания услуг и благ. Наоборот, они основываются на создании общей «добавленной стоимости», имея своей целью посредством управления массовыми феноменами гарантировать регулирование, сохранность, развитие и хозяйственное использование жизни: «Эта власть предназначена для того, чтобы порождать, выращивать и упорядочивать силы, а не для того, чтобы их сдерживать, угнетать или уничтожать»205. При этом обращает на себя внимание то обстоятельство, что объясняемое «экономией» и регулируемое «полицейско-правовым порядком» богатство еще не ограничено, как это будет начиная с XIX века, экономической системой в узком смысле, кругом производства, распределения, циркуляции и потребления благ, товаров и ценностей. Прежде чем экономическая подсистема автономизировалась, отделившись от политической или общественной, экономика, как уже указывалось, включала в себя все данности и движения материального, социального и морального обращения, и в этом – существенный момент для понимания происхождения и генеалогии экономического знания. Уже меркантилизм XVII столетия локализовал богатство не только в аккумуляции природных ресурсов и торговых доходов, но и в народонаселении, в избытке и изобилии людей, то есть рабочей силы и налогоплательщиков206, а самое позднее в XVIII веке принцип всякой политической экономии находит выражение в тезисе о том, что единственное и основополагающее богатство заключено в народонаселении: люди – «величайшее, существеннейшее богатство государства»207.
При этом следовало констатировать по крайней мере две вещи. Во-первых, население как новая реальность и предмет политического правления – это не просто скопление людей, а сеть из живых, деятельных, обменивающихся, желающих и размножающихся индивидов, требующая множества воздействий различного рода. И во-вторых, именно поэтому вытекающий отсюда экономический вопрос невозможно четко отделить от вопроса биополитического: подъем экономического знания непосредственно и неразрывно связан с возникновением нового объектного поля – массы населения, рассматриваемой в качестве базиса, конечного остатка и места производства всех сил и способностей государства. Стало быть, любые действия экономического правления прямо или косвенно нацелены на политику народонаселения: количество и распределение населения, продолжительность жизни и процент смертности, нравственные склонности и состояние здоровья, страсти, задатки и плодовитость индивидов… И хорошо известно, как в соответствии с этим в рамках камерализма и полицейской науки возникают темы и ставятся вопросы, связывающие управление индивидами с регуляцией населения и интерпретирующие политическую экономию как экономику продуктивного социального тела, будь то вопрос о функциональности страстей и аффектов, выделившийся из учений о добродетели и этики и ставший предметом политической антропологии, или забота об общественной гигиене, простирающаяся от медицинской профилактики до инфраструктурных и градостроительных мероприятий, или концентрация внимания на браке и семье, переставших быть образцом устройства власти и ставших инструментом правления, то есть социальным сегментом и узловой точкой для постановки вопросов о демографии, количестве детей, сексуальном и потребительском поведении, моделировании аффектов, или центральное место и дисциплинирование женщины, которая на свой манер вносит вклад в создание общей добавленной стоимости и сохранение сил государства208. В целом можно сказать, что экономия и камералистский полицейско-правовой порядок образуют единый узел, в котором наблюдение за индивидами и их дисциплинирование соединяется с управлением большими массами или – говоря вслед за Фуко – в котором серия «тело – организм – дисциплина – институт» и серия «население – биологические процессы – механизмы регулирования – государство», взаимодействуя, объединяются в один функциональный конгломерат. Это то место, в котором индивидам предоставляется «немного дополнительной жизни», а государству добавляется «немного дополнительной силы»: здесь осуществляется экономическое наполнение и укрепление самой жизни209. Итак, поскольку население самое позднее с середины XVIII столетия представляет собой «душу» и «жизнь», необходимые для развития той или иной страны, и источник всех «физических сил в государстве»210, постольку и принципы политической экономии теперь становятся тождественными «принципам демографии».
Как в канонических учебниках камерализма, так и в некоторых скорее апокрифических публикациях было сформулировано ядро этих принципов, а именно «экономическое использование телесных и душевных сил людей», использование, экономическая функция которого основана на «здоровье государственного тела», а это последнее, в свою очередь, – на управлении «эгоизмом», желаниями и страстями, и в равной же мере на экономической эксплуатации того «неугасимого инстинкта», который побуждает «представителей противоположных полов плотски соединяться друг с другом»211. Во всяком случае государство находится рядом как заинтересованный покровитель и рассматривает себя в качестве агентства, устраняющего различные помехи на пути к общей плодовитости. В опубликованном под псевдонимом трактате «О воспроизводстве человека и о населении стран мира» Иоганн Генрих Готлиб фон Юсти пророчески и оттого с еще более последовательной логикой выявил эту взаимосвязь экономики, демографии и биополитики. Он рассматривает восходящий ряд следующих вопросов, ставя их в зависимость друг от друга: во-первых, это анатомия и физиология репродуктивного тела и процесса размножения, то есть возникновение, обособление и смешение семенных соков, дискуссия между преформистской и эпигенетической эмбриологическими теориями; во-вторых, это рассуждения о технике половой жизни, рассмотрение вопроса о «человеческих обстоятельствах, способствующих зачатию»: способ и протекание полового сношения, обсуждение плодотворных и неплодотворных фаз и возрастов для обоих полов; в-третьих, своего рода диететика сексуального, основывающаяся на предшествующих размышлениях и сосредоточенная на вопросе о том, «каким способом люди могут размножаться максимально быстро», вопрос о влиянии нравов, образа жизни и излишеств, оценка того, «сколько стоит человек», рассмотрение пользы и вреда брака, полигамии, конкубината и борделей; все эти рассуждения сводятся к императиву, гласящему, «что репродуктивная способность людей, если требуется, чтобы они быстро размножались, должна использоваться всеми возможными способами»; и наконец, в-четвертых, «политические размышления о размножении подданных и народонаселении государств», содержащие следующие темы: источник государственных доходов, денежное обращение, человек как важнейший «капитал», вопросы государственной предусмотрительности, дискуссии о способах хозяйствования, роскоши, различных – монархических или республиканских – формах правления и их влиянии на экономику, репродуктивное поведение и народонаселение… И здесь вновь формулируется ведущий экономический принцип и догмат камералистской доктрины: «Чем многочисленнее гражданское общество, тем большей мощью обладает оно в сравнении с другими гражданскими обществами. Поскольку у каждого человека имеются определенные силы и он занят теми или иными видами деятельности, ему невозможно отказать в обладании некоторой мощью. Стало быть, чем из большего количества членов состоит объединенное общество, тем больше объединенной мощи должно в нем возникать»212. Таким образом, экономизация государственного тела вступила здесь на путь, который с полным правом можно назвать парадигматическим. Она связывает экономический потенциал с народонаселением, а богатство населения, в свою очередь, с его способностью к непрерывному и беспрепятственному самовоспроизводству, и задача правления тем самым прямо и непосредственно переориентируется от заботы о государственном теле на половую физику индивидов.
Итак, в XVIII столетии экономическое не только отвечает за глобальную формулировку функционального политико-эмпирического знания, оно на примере полицейско-правового порядка и вопроса об управлении контингентными событиями не только рассматривает и систематизирует некую новую, косвенную форму правления в рамках правовых санкций. Одновременно с появлением новых предметных областей – населения, форм коммуникации, существующих и испытывающих желания индивидов – изменилась и сама цель правления, которое отныне посредством управления желаниями и стремлениями, с помощью ориентации на создание общей добавленной стоимости добивается фокусировки и роста различных физических сил и способностей и тем самым создает возбужденное, плодотворное и саморазмножающееся государственное тело. И поэтому отныне в центр всякой политической экономии помещено то, что можно было бы назвать знанием о человеке, испытывающем влечения и желания, то есть либидозной экономикой.
Начислим
+17
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе