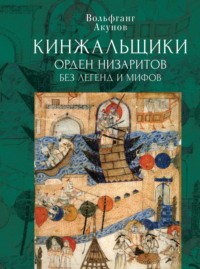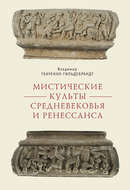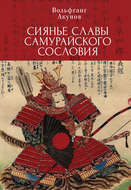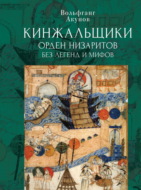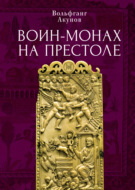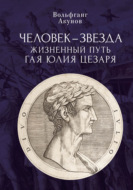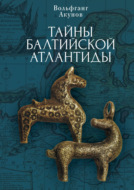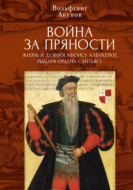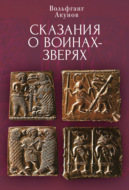Читать книгу: «Кинжальщики. Орден низаритов без легенд и мифов», страница 5
Однако цель подобных словопрений, споров и дебатов между членами общины правоверных – устранение разногласий и достижение согласия («иджма») – полностью противоречила подходу шиитов к религиозным вопросам, согласно которому всякое знание, полученное из источников, не являющихся безошибочными, бесполезно, а точное и истинное знание может быть обретено лишь в общении с безошибочным имамом, который, в силу этого убеждения, приобретал господствующее положение в шиитской религиозной общине.
С учетом наличия столь противоположных позиций двух основных исламских толков, не могло быть никаких сомнений в возникновении между ними серьезных трений. Было замечено, что концепция общины, столь решительно провозглашенная в самой ранней доктрине Корана, получила новый стимул и обрела новый контекст в ходе подъема суннизма. В то время, как Коран выделял мусульманскую общину из числа других общин, суннизм теперь выражал взгляды и обычаи большинство общины, противопоставляя его периферийным группам этой общины. Пророку Мухаммеду было приписано множество суждений, подчеркивающих, что мусульмане обязаны идти путем большинства, что меньшинства обречены на адский огонь, что Бог простирает свою спасительную длань всегда лишь над большинством общины, которое никогда не может ошибаться. «А если кто отказывается от Посланника (пророка – В. А.) после того, как стал ему ясен прямой путь, и он следует не по пути верующих, Мы обратим его к тому, к чему он сам обратился, и спалим его в геенне. Скверно это пристанище!»
Сунниты, и даже иные шииты-«двунадесятники», были яростными противниками измаилитов, ибо последние развивали неприемлемые для первых доктрины. По этой причине против измаилитов была развернута яростная пропагандистская кампания. Одним из главных возводимых на измаилитов в ходе этой разнузданной кампании тогдашними мусульманскими «конспирологами», было обвинение в том, что измаилиты, объединившись в тайное общество, изнутри исламского мира плетут нити зловещего заговора, направленного на уничтожение этого мира. Тем самым было положено начало развитию и разрастанию «черной легенды», представлявшей измаилизм в кривом зеркале враждебной, диффамационной пропаганды, искажавшей подлинный облик оппозиционного и гонимого движения порой до полной неузнаваемости.
Эти искажения реального образа измаилитов, шедшие не только от стремления очернить его, но и от незнания, усугублялись манерой, в которой измаилиты истолковывали своим адептам скрытое содержание священного Корана. Прежде чем новоявленный адепт удостаивался раскрытия ему этого тайного, скрытого, эзотерического («батин») смысла священной книги, он в обязательном порядке проходил церемонию посвящения, или инициации, в измаилитское сообщество. Лишь после прохождения целого ряда тайных посвятительных, или инициатических, обрядов, или ритуалов, его принимали в измаилитское братство и разъясняли ему скрытый смысл священной книги. Главным в посвятительных ритуалах был их тайный характер, который было бы сложно сохранить в секрете, если бы эти обряды были доверены перу и писчему материалу. Видимо, именно по этой причине измаилиты, с момента своего возникновения, как правило, мало и редко писали. Правда, из этого общего правила бывали исключения, и некоторые письменные документы были все же составлены измаилитами. Но касались они больше богословских, чем исторических тем и вопросов, вследствие чего мы имеем больше представлений об измаилитских верованиях, чем сведений о реальной, подлинной истории измаилитского движения.
Несмотря на общую скудость информации, до нас все-таки дошли отдельные отрывочные сведения о судьбе измаилитского движения во второй половине VIII и в начале IX века – в десятилетия, когда измаилизм, судя по всему, «дышал на ладан» (если выражаться христианским языком), постоянно балансируя на грани полного уничтожения. Фрагментарность этих сведений и почти полная незаметность измаилитов на поверхности общественной жизни халифата Аббасидов объяснялись тем, что измаилитское движение было загнано в подполье и лишено возможности действовать более-менее открыто. Тем не менее, в эти трудные годы подпольного существования измаилитами была раскинута целая миссионерская сеть проповедников – «даисов», «даев» или «деев» – практически по всему Ближнему и Среднему Востоку. Особенно восприимчивыми к измаилитской проповеди (или, выражаясь современным языком – религиозной пропаганде) оказались Иран и Сирия.
Прежде чем отправиться в свои смертельно опасные тайные проповеднические миссии, измаилитские даисы проходили специальную подготовку. По прибытии в область, как можно больше представителей населения которой им было поручено превратить в прозелитов, то есть новообращенных, «истинной» веры, миссионеры первым делом старались интегрироваться в местное общество, стараясь при этом возбуждать в отношении себя как можно меньше подозрений, выдавая себя чаще всего за ремесленников и торговцев, людей незаметных и скромных. Прижившись и пустив корни на новом месте, они начинали осматриваться вокруг, среди своих соседей, в поисках потенциальных кандидатов в прозелиты, пригодных к наставлению на путь истинной веры посредством тайной посвятительной церемонии. Операция была, несомненно, тайной, но ее тайный характер объяснялся не двуличием и лицемерием измаилитов, а их прагматизмом. Положение измаилитов в «дар-аль-исламе» было настолько нестабильным и угрожающим, что им приходилось все чаще прибегать к использованию, в целях обеспечения своей безопасности, упоминавшейся выше доктрины «такийи» – «благоразумия», «мысленной оговорки», «осмотрительности», «осторожности», дозволявшей измаилиту перед лицом угрозы смерти отрекаться от своих религиозных убеждений, становиться вероотступником. Естественно, подобная модель поведения казалась, по меньшей мере, странной и сомнительной «франкам», воспитанным на житиях христианских святых, многие из которых предпочитали становиться мучениками, но не отречься от веры во Христа даже перед лицом мучительных пыток и казней. Но в то же время нельзя отрицать, что тактика такийи оказалась необычайно эффективным и успешным средством выживания и продления существования измаилитов на протяжении веков в неизменно враждебном окружении…
Сердцевиной и основой тайной доктрины измаилитов была вера в существование «скрытого имама», потомка Мухаммеда ибн Измаила, остающегося религиозным лидером измаилитского движения вплоть до дня явления упомянутого выше «спасителя мира» Махди – провозвестника наступления на земле долгожданной эры справедливости и праведности. Личность этого «скрытого имама» была так надежно укрыта под покровом тайны, что мало кому из адептов измаилизма было известно, кто является им в данный момент. Хотя, в краткосрочной перспективе, эта скрытость, несомненно, предохраняла имама от убийства врагами измаилитской веры (а сохранение его жизни имело важнейшее значение для измаилитов, поскольку их вероучение требовало, чтобы их имамом непременно был тот, в чьих жилах течет кровь потомка Измаила), в более долгосрочной перспективе столь надежное сохранение в тайне личности имама означало, что, после превращении имама в публичную фигуру, как это произошло в начале X века, после появления измаилитской халифской династии Фатимидов, врагам измаилизма было нетрудно обвинять имама, внезапно переставшего быть скрытым от мира и вставшего во главе новой династии в качестве халифа, в самозванстве. Ему же было практически невозможно эти обвинения в самозванстве опровергнуть и подтвердить свое законное происхождение от Измаила. Ведь его прошлая жизнь была окутана тайной, и никто из «непосвященных» (составлявших подавляющее большинство мусульман, включая его новых подданных) не знал толком, кто он и откуда. И далеко не все были готовы верить своему владыке на слово. «Сказывают, халиф – не настоящий!»…
Только во второй половине IX века измаилиты начали выходить из мрака своих надежно скрытых от «непосвященных» секретных убежищ на свет Божий. Они настолько осмелели вследствие все большего обострения социальной обстановки в Аббасидском халифате. В его городах росло недовольство непривилегированных сословий общества. Ухудшение жизненных условий побуждало некоторых представителей этих обездоленных слоев склоняться на сторону наиболее радикальных элементов измаилитского движения. Самое яркое проявление социального недовольства произошло в районе иракского города Басры.
Предприимчивые мусульманские купцы проложили торговые пути в малоизвестные арабам ранее области внутренней Африки, да и в иные далекие земли «земного круга». Причем торговали они не только неодушевленными, но и одушевленными товарами. Работорговля играла в их бизнесе немалую роль. Значительную часть рабов составляли чернокожие из Восточной Африки (так называемые «зинджи»). Большинство использовавшихся в Арабском халифате рабов было занято в домашнем хозяйстве и сфере обслуживании, и потому было разъединено. В классической же форме массовый рабский труд применялся лишь в низовьях Тигра и Евфрата, где были сконцентрированы большие группы рабов (в основном – чернокожих), содержавшихся в казарменных условиях. В районе Басры имелись обильные залежи нитратов, а попросту говоря – солончаки. Необходимо было удалить с земной поверхности соль, чтобы расчистить путь к залегающей под соляным покровом плодородной почве, с целью ее сельскохозяйственного использования. Работа по расчистке солончаков была невероятно изнурительной и крайне вредной для здоровья. Условия труда занятых на расчистке солончаков чернокожих рабов-африканцев были, видимо, совершенно невыносимыми. Доведенные до крайности, как тяжестью труда, так и жестокостью надсмотрщиков, рабы решили искать спасения в восстании. И такое восстание действительно вспыхнуло в 869 году в районе Басры. Примечательно, что вождь восставших «зинджей» по имени Али ибн Мухаммед, не будучи сам ни чернокожим, ни вообще рабом, выдал себя за потомка «Меча ислама» Али и объявил себя спасителем-Махди. Он обещал рабам свободу, богатство и… собственных рабов, что привело в его стан тысячи готовых на все приверженцев.
Восстание «зинджей» нанесло удар в самое ближневосточное «сердце» Аббасидского халифата, застав врасплох багдадского владыку правоверных. Восстания против власти Аббасидов случались и раньше, однако на этот раз ошеломленное багдадское правительство полностью утратило контроль над ситуацией. Взбунтовавшиеся «зинджи» сумели создать на территории южного Ирака нечто вроде своего собственного «государства в государстве», просуществовавшего четырнадцать лет. Важность этого восстания для нашего правдивого повествования заключается в том, что оно стало одним из многочисленных примеров участившихся вспышек социального недовольства, воодушевивших измаилитов выйти из своего защитного «кокона». Не случайно именно в Ираке произошли первые заметные проявления активности вышедших из подполья измаилитских радикалов.
В годы «скрытого существования» измаилизма руководство миссионерами, распространявшими измаилитское вероучение – «дават», и контроль над их деятельностью осуществлялись с территории Сирии, где центром измаилизма стал город Саламия. На протяжении всего IX века измаилитское движение переживало почти непрерывный подъем. Однако его успех в конце этого века инициировал события, в конечном итоге приведшие к утрате измаилитским центром в Сирии контроля над миссионерской деятельностью «даисов».
Был среди измаилитских «даисов» человек по имени аль Хусейн аль-Ахвази. Он проповедовал в районе города Куфы, где наставил на путь истинной веры, среди многих других новообращенных, некоего Хамдана по прозвищу Кармат (возможно – человека иранского происхождения, чье прозвище означало то ли «Красноглазый», то ли «Коротконогий»). Этот Хамдан Кармат, со всем пылом неофита, принялся, в свою очередь, проповедовать, и очень скоро обрел множество сторонников. Его проповедям сопутствовал такой успех, что обращенные им неофиты очень скоро начали именоваться, в честь него, карматами. Основой их успеха было умелое разжигание воинственных настроений и использование социального недовольства в регионе, чему в немалой степени способствовало восстание «зинджей» (около 880 года карматы даже предприняли попытку вступить с «зинджами» в союз). В описываемое время многие представители угнетенных слоев населения Арабского халифата были недовольны пассивным отношением к их нуждам и правлением господствующей верхушки, манеру поведения которой переняли и многие из лидеров умеренных шиитов. Идея коренного, радикального социального переворота, к которой призывали и стремились карматы, помогла им обрести множество сторонников среди этих недовольных. Карматы воспользовались недовольством угнетенных масс и овладели рядом областей, население которых обложили высоким налогом (составлявшим пятую часть всех доходов каждого налогоплательщика), используя налоговые поступления в целях финансирование своей борьбы за власть (или, если угодно, религиозно-социальной революции). Шансам карматов на успех в немалой степени способствовало ослабление власти Аббасидов на юге Ирака в результате восстания «зинджей» и иных социальных неурядиц, буквально сотрясавших Аббасидский халифат. Карматское движение просуществовало несколько десятилетий, прежде чем Аббасиды осознали угрозу, исходящую их власти от карматов – настолько ослабла коммуникация между центром и периферией в распадавшемся на части Аббасидском халифате. И потому Аббасиды предприняли первые активные шаги к подавлению карматского восстания не ранее начала первого десятилетия IX века, когда загнать вырвавшегося из бутылки карматского «джинна» обратно в бутылку было уже невозможно…
Впрочем, измаилитским проповедникам-«даисам» сопутствовал успех не только на территории Ирака. Измаилитская «благая весть» не менее активно распространялась ими также в южном Иране и Йемене. Йемен стал особенно щедрым поставщиком измаилитских неофитов. «Дайс» Али ибн Фадль добился в Йеменском регионе прямо-таки выдающихся успехов. Сам он обратился в измаилитскую веру в ходе своего паломничества в священный город Кербелу. Вместе со своими сторонниками и коллегами он укрывался в труднодоступных горных твердынях, расположенных в дикой и непроходимой местности, откуда распространял свою «благую весть» по всей округе. Пребывая в почти полной безопасности на своих базах в Йеменских горах, они могли не опасаться нападений местных недругов (примечательная модель поведения и тактика, впоследствии перенятая низаритами).
Около 906 года измаилиты, при активной поддержке местных арабских племен, недовольных властью «неправедных» Аббасидов, сумели взять под свой контроль фактически весь Йемен. Хотя впоследствии часть Йемена вышла из-под их контроля, основная территория Йемена по-прежнему оставалась важной базой измаилизма (измаилиты выжили и существуют в Йемене по сей день). С этой йеменской базы экспедиции измаилитских миссионеров отправлялись в еще более отдаленные места. На Восток – вплоть до полуострова Индостан, через Синд. И на Запад – вплоть до Магриба (Северо-Западной Африки), где в результате произошло величайшее событие в истории измаилизма – возникновение измаилитской халифской династии Фатимидов. Но деятельность измаилитских проповедников была не менее активной и успешной и в других частях Аравийского полуострова – Омане и Бахрейне (в Восточной Аравии). «Даисы» несли свою «благую весть» также на Север – в Хорасан (Восточный Иран) и Мавераннахр (среднеазиатскую область между реками Амударья и Сырдарья), а наиболее удачливые «деи» добирались даже до далеких земель Центральной Азии, вплоть до Памира. Впоследствии преемником Фадля на стезе проповеди измаилизма стал «даис» Абу Хатим ибн аль-Рази, донесший «благую весть» до Адербагана (современного Азербайджана). В общем, в описываемый период измаилиты весьма энергично и успешно расширяли сферу своей деятельности во имя своей «истинной» и «спасительной» веры.
Но неожиданный выход измаилитов из подполья после столетнего периода их скрытого существования повлек за собой непредсказуемые последствия. С одной стороны, «даисы», даже весьма успешный и удачливый во всем Хамдан Кармат – были вынуждены смириться с ослаблением влияния измаилитского «центра контроля и влияния» в Сирии на другие территории. С другой стороны, немало проблем было связано с самим тайным, эзотерическим характером измаилитской доктрины и концепцией «скрытого имама». Тайна, окутывавшая развитие измаилизма, вызывала массу неясностей, неопределенностей, недопонимания, противоречивых мнений и точек зрения. От этих неясностей, сомнений и неопределенностей был всего только шаг до разногласий и недоразумений даже среди самих членов измаилитского движения. Таким образом, процесс дробления ислама как бы возобновлялся, уже на новом уровне.
Как уже мог убедиться уважаемый читатель, ислам к описываемому времени успел разделиться на два главных толка – составлявших большинство суннитов и составлявших меньшинство шиитов (взаимно считавших своих оппонентов еретиками и нечестивцами, неправильно понимающими заветы пророка Мухаммеда), но в середине VIII века сами шииты разделились на «двунадесятников», измаилитов и третью группировку, или толк, не упоминавшуюся ранее – зейдитов (или зейдидов). Эта третья группировка была обязана своим названием основавшему ее пятому по счету шиитскому имаму Зейду ибн Али, внуку претерпевшего мученическую смерть имама Хусейна, поднявшему в 740 году восстание против «незаконной», «неправедной» халифской династии Омейядов, окончившееся поражением повстанцев и гибелью самого Зейда в бою (в которую, однако, последователи сложившегося вокруг него культа не верили, считая, что Зейд в действительности не погиб, а «скрылся»). Поскольку зейдиты верили, что будущим спасителем, которому надлежит явиться в мир в конце времен, будет именно пятый имам Зейд ибн Али, они получили название «пятеричников». Действия этой третьей группировки представляются во многом противоречивыми. С одной стороны, зейдиты-пятеричники снискали себе среди шиитов репутацию умеренной в религиозном плане группировки, поскольку они не отвергали законность и «праведность» первых халифов, правивших после пророка Мухаммеда и до Али, и менее жестко, чем измаилиты, критиковали мусульман, не признававших права потомков Али на его преемство. С другой стороны, зейдиты были по сути дела политическими революционерами, нередко оправдывавшими вооруженные восстания против правящего слоя аббасидского режима9. С течением времени зейдиды, в свою очередь, разделились на три течения, признававших право имамата за теми или иными потомками Зейда ибн Али. Вследствие указанных различий, эти расходящиеся во взглядах сегменты, или группировки, шиизма в последующие века не раз вступали между собой в ожесточенные конфликты и вооруженные столкновения.
Теперь же и сами измаилиты оказались на грани разделения. К концу IX века исламский мир стал свидетелем очередного раскола, произошедшего на этот раз в самом сердце измаилитского движения. По иронии судьбы, эти разделения послужили катализаторами, ускорителями цепной реакции событий, приведшими к значительным изменениям к лучшему в судьбе измаилитов. Этим событиям предшествовало столкновение между карматами, с одной стороны, и прочими мусульманами шиитского толка, с другой. Хамдан Кармат потерял контроль над основанным им же движением, названным в его честь. Радикальные тенденции, свойственные этому движению, настолько усилились, что карматский предводитель оказался не в силах их обуздать, вследствие чего реальное руководство воинствующим крылом карматов перешло к человеку по имени Закаравайх ибн Михравайх (судя по имени, иранцу по происхождению; Михр – имя маздаяснийского божества, древнеарийского Митры). Под командованием Закаравайха вооруженные отряды карматов предприняли целую серию опустошительных набегов на Ирак и Сирию.
Войско, высланное аббасидским халифом против карматских «уравнителей», было разгромлено вооруженными силами карматов, состоявшими, в большинстве своем, из фанатично настроенных бедуинских воинов, сыгравших главную роль в одержанной карматами над Аббасидами победе. В 903 году карматы обратились острия своих мечей и копий против измаилитов, захватив и разграбив Саламию – штаб-квартиру измаилитского движения. Этот набег однозначно свидетельствовал о назревшем к описываемому времени серьезном конфликте между карматами и измаилитским руководством. Но, если карматы, согласно утверждениям некоторых источников, ставили главной целью своего набега на Саламию физическую ликвидацию самого руководителя измаилитской группировки, то цели своей они не достигли. Ибо, уведомленный о том, что предназначен стать целью карматского нападения, тогдашний глава измаилитского движения – одиннадцатый имам Абу Мухаммед Абдуллах ибн аль-Хусейн (вошедший в историю ислама под принятым им позднее именем Убайдаллах аль-Махди) успел спастись бегством, прежде чем карматы добрались до Саламии. Аббасиды, своевременно уведомленные о бегстве измаилитского имама из Саламии от карматов, предприняли попытку перехватить и пленить главу измаилитов, но потерпели неудачу. Имам бежал дальше на запад, через Миер, в Магриб (где и укрылся, предположительно на территории современного Туниса).
Магриб даже после арабского завоевания развивался, в общем, вполне самостоятельно. Уже его отдаленное географическое положение и слабая связь с центром халифата служили причиной довольно слабой реальной власти халифа на западе Северной Африки. Поэтому Магриб нередко служил убежищем сектантам, да и вообще недовольным порядками, царившими в центральных частых халифата. Не случайно единственный Омейяд, избегнувший аббасидского меча, бежал из Сирии в Магриб, на Запад, чтобы уже оттуда завладеть Испанией. Ярко выраженное стремление берберских племен, обитавших в Магрибе, к политической и религиозной независимости нередко проявлялся в мятежах, ибо берберы, даже после обращения в ислам, так и не влились окончательно в арабскую «мировую» державу. Берберским эмирам Магриба не раз удавалось добиться политической независимости. Однако все эти магрибские государственные образования были очень недолговечными, эфемерными, неизменно сменяясь анархией, царившей до их образования. Но довольно об этом…
Укрывшийся в Магрибе от длинных рук карматов и Аббасидов, Абу Мухаммед Абдуллах был человеком незаурядным. Он отнюдь не относился к числу религиозных фанатиков-зилотов. Совсем напротив! Этот имам измаилитов (которому его религиозно-политические противники ставили в вину, наряду с проповедуемой им «ересью», также его якобы иудейское происхождение), судя по всему, обладал ярко выраженным талантом действовать с поразительной политической сообразительностью и умением договариваться с разнившимися между собой во всех отношениях силами о союзе и совместных действиях. Магрибские власти предержащие – наместники Ифрикии из вассальной по отношению к Аббасидам династии Аглабидов, признававшие над собой суверенитет багдадского халифа – само собой, отнюдь не расположенные к измаилитскому имаму – очень скоро почувствовали, что умение Убайдаллаха договариваться и находить себе потенциальных союзников из самых разных лагерей делает его центром притяжения и консолидации для всех недовольных Магриба, и потому поспешили бросить непредсказуемого пришельца в темницу. Однако имам ко времени своего ареста уже успел обзавестись влиятельными союзниками и сторонниками. Самым могущественным из них был измаилитский «даис» по имени Абу Абдаллах. Этот проповедник успешно распространял учение измаилитов в землях Магриба, начиная с 893 года, и к моменту прибытия туда Абу Мухаммеда Абдуллаха в первом десятилетии IX века уже обрел немало сторонников, готовых поддержать измаилизм не только словом, но и делом. Возможно, он предварительно на протяжении некоторого времени вел с Абу Мухаммедом Абдуллахом переговоры, и не исключено, что имам бежал в Магриб именно по совету и приглашению ожидавшего его там Абу Абдаллаха, готовившего почву для прибытия измаилитского лидера.
При известии о заключении Абу Мухаммеда Абдуллаха в тюрьму, Абу Абдаллах счел арест измаилитского имама подходящим моментом для вооруженного восстания против магрибских вассалов аббасидского халифа – Аглабидов. Собрав своих вооруженных сторонников, он объявил томящегося в темнице Абу Мухаммеда Абдуллаха тем самым имамом, прихода которого так долго ждали все измаилиты. В ответ на это широковещательное заявление под знамена Абу Абдаллаха стало стекаться великое множество приверженцев, охваченных волной эсхатологического (хилиастического, или выоажаясь языком западноевропейских «франков»-«латинян», милленаристского) энтузиазма. Вспыхнул вооруженный конфликт с магрибскими властями предержащими, режим которых был, в итоге, свергнут, а Абу Мухаммед Абдуллах – освобожден из тюрьмы и объявлен халифом измаилитов под «тронным» именем Убайдаллаха аль-Махди (под которым и вошел в историю). Таким образом, в 909 году измаилитский имамат, просуществовавший в подпольных условиях на протяжении ста лет «с гаком», со времен исчезновения имама Мухаммеда ибн Измаила, вышел из подполья на свет Божий в Магрибе, подчинившемся его власти, и стал измаилитским халифатом.
Это был великий момент и подлинный триумф как для имама Убайдаллаха аль-Махди, так и для Абу Абдаллаха. Впрочем, судьба последнего оказалась весьма незавидной. Всего через год измаилитский имам, обязанный свободой и властью Абу Абдаллаху, недовольный поведением и отношением последнего к своей особе, повелел его казнить. До сих пор не совсем ясно, почему это произошло, хотя одно из самых убедительных и логичных объяснений заключается в следующем. Абу Абдаллах, принадлежавший к числу приверженцев жесткого, непримиримого измаилитского курса, или, выражаясь современным «новорусским» языком, «хардлайнеров», был для более осторожного, умеренного и осмотрительного имама чрезмерно радикальным. Ибо имам, строя отношения со многими из своих новых подданных старался действовать дипломатически, путем хитроумных уловок, поскольку эти подданные были, в большинстве своем, обращенными арабами в ислам только в результате долгой вооруженной борьбы берберами, известными своим гордым характером, любовью к свободе и независимым духом. Подобная гибкость в поведении и философии впоследствии стали характерными чертами многих вождей позднейших низаритов.
Хотя Убайдаллах аль-Махди (или аль-Махди биллах) успешно утвердился у власти в Магрибе, и со временем основал в Северной Африке новую могущественную халифскую династию, успех достался ему недешево. Ибо он оказался перед дилеммой, из которой, казалось, не было выхода. С одной стороны, ему необходимо было увериться в преданности ему народов Магриба. А это было делом далеко не простым. В Магрибе обитало два берберских племенных союза, а именно: 1) зената – проживавшие в древности на территориях от западного Египта до Марокко, и 2) санхаджи, или муласамины, проживавшие в Сахаре и в горных хребтах Телль-Атлас. Как зената, так и санхаджи пользовались вполне заслуженной ими репутацией свободолюбивых людей и в то же время – неуживчивых соседей, поскольку постоянно были готовы вцепиться друг другу в глотки по любому поводу. Их непрекращающиеся конфликты сильно дестабилизировали обстановку в регионе. С учетом того, что сам аль-Махди смог прийти к власти лишь в результате переворота, свергнувшего власть местного аглабидского истеблишмента, не представляется удивительной проявленная им крайняя осторожность и осмотрительность в отношениях со своими подданными, которые вполне могли уготовать ему участь, аналогичную участи прежних магрибских правителей. Кроме того, аль-Махди был окружен внешними врагами: у власти в расположенном по соседству с Магрибом Миере пребывал режим, откровенно враждебный измаилитскому имаму. По-прежнему враждебны Убайдаллаху аль-Махди были и багдадские халифы-Абба-сиды. А неподалеку от Магриба, на другом берегу Средиземного моря (которое арабы называли по-разному – Белым, Румийским, Сирийским, Срединным и Западным), в Испании – стране аль-Андалус, стояла у кормила власти также враждебная измаилитам уцелевшая ветвь династии Омейядов.
С другой стороны, власти фатимидского халифа аль-Махди угрожали и многочисленные среди самих измаилитов радикалы, а то и прямо-таки экстремисты. Эти религиозные фанатики были, несомненно, глубоко разочарованы и крайне недовольны тем, что основанная их имамом и продолженная его преемниками измаилитская, казалось бы, династия Фатимидов отнюдь не торопилась осуществить те преобразования, которые эти радикальные представители измаилизма считали совершенно необходимыми для установления чаемого ими исламского варианта «царства Божия на земле». Долгое время считалось, что измаилиты-Фатимиды взаимодействовали и сотрудничали с карматами, но современные исследования показали, что в действительности это было не так. Прежнее представление об их тесном сотрудничестве основывалось на том историческом факте, как Фатимиды, так и карматы в равной степени не пользовались доверием и были под подозрением у многих других влиятельных исламских группировок, часто ошибочно отождествлявших карматов с измаилитским движением вообще и употреблявших слова «карматы» и «измаилиты» как синонимы. И, поскольку династия Аббасидов была, вне всякого сомнения, общим врагом как карматов, так и Фатимидов, делался чересчур поспешный вывод, что карматы и Фатимиды якобы всегда действовали рука об руку.
В действительности же подобный взгляд на тогдашнюю ситуацию представляется сильно упрощенным. Силы карматов были, в конце концов, сломлены, но, когда они потерпели окончательное поражение в Сирии, этот разгром лишь придал их действиям особенно ожесточенный характер. Карматы повергли весь исламский мир в страх, ужас и негодование своими нападениями на караваны благочестивых паломников, направлявшихся в священный город Мекку. В ходе наиболее кровавого из этих нападений число убитых достигло двадцати тысяч человек. Сильно страдали от карматских набегов и многие крупные торговые города, расположенные за пределами Аравийского полуострова, включая Куфу и Басру. И, наконец, в 930 году произошло самое страшное и кощунственное событие, которое мог себе представить правоверный мусульманин. В этот году карматы неожиданно напали на сам священный город Мекку, переполненную на тот момент паломниками, совершавшими хадж. Мекка, совершенно не готовая к нападению, была захвачена карматами в мгновение ока безо всякого сопротивления. С налету овладевшие священным мусульманским городом карматы учинили в Мекке поголовную резню. Кровь убитых захватчиками жителей святого города и прибывших в него паломников буквально текла по улицам священного города. Беспощадно перебив паломников, карматы завершили свой набег чудовищным святотатством. Они кощунственно выломали из стены Каабы вделанный в нее, почитаемый арабами еще с доисламских времен, священный черный камень (упавший с неба в незапамятные времена метеорит) и увезли его (либо целиком, либо – частично, отколов от святыни половину) в качестве военной добычи, в свой восточноаравийский анклав под названием Аль-Ахса (откуда черный камень был возвращен в Мекку из Куфы, куда ее доставили карматы из своего «государства, именуемого порой «коммунистическим», поскольку там якобы была отменена частная собственность, и все было общее, включая рабов и даже жен! – только в 951 году).
Начислим
+48
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе