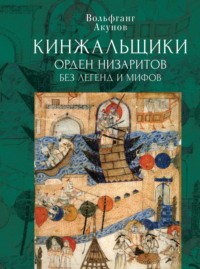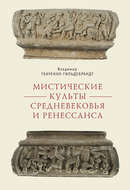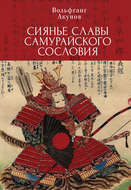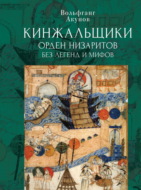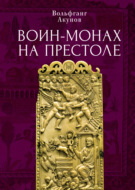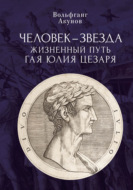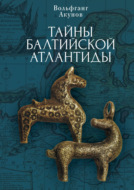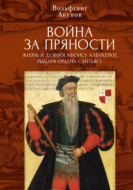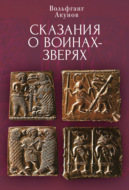Читать книгу: «Кинжальщики. Орден низаритов без легенд и мифов», страница 4
Поначалу казалось, что убийство Хусейна «со товарищи» надежно гарантировало Язиду и его преемникам в звании халифа безраздельное руководство и господство над миром ислама. Под их властью начала быстро формироваться новая исламская цивилизация с центром в древнем сирийском Дамаске. Арабские завоеватели, всего лишь веком ранее в большинстве своем кочевавшие по пустыне (хотя существование на Аравийском полуострове древних городов вроде Мекки или Медины свидетельствовало о том, что городская жизнь была арабам не вполне чужда и незнакома), удивительно быстро и успешно приспособились к существованию в условиях развитой городской цивилизации. Не следует думать, что процессы преобразований на завоеванных арабами-мусульманами территориях происходили молниеносно и повсюду равномерно. Многие из существовавших на завоеванных мусульманами территориях до арабского вторжения порядки продолжали существовать и после исламского завоевания. На первых порах мусульманские завоеватели сохранили прежнюю, ромейскую и иранскую, систему налогообложения, хотя со временем, естественно, в нее стали вноситься изменения. Был введен поземельный налог, так называемый «харадж». Чтобы избежать его уплаты, сельское население начало переселяться в города, что способствовало все большей урбанизации мусульманской цивилизации.
Невзирая на эти впечатляющие достижения, совершенно очевидными становились все большие расхождения между разными толками в исламе. Даже в самом начале VIII века, когда ислам еще казался многим монолитной, непреодолимой и неудержимо распространяющейся силой, религиозные разногласия внутри него шли по линии все большего обострения. Споры между различными толками ставили исламское единство под вопрос. Трения, существовавшие между этими различными исламскими толками, и их последователями, становились все более интенсивными. «Неправедная» халифская династия Омейядов, основанная Муавийей и Язидом «со товарищи», с центром в Дамаске, некоторое время занимала неоспоримо господствующее, самовластное и полновластное положение в исламском мире. Тем не менее, в противовес Омейядской гегемонии, возникла новая исламская династия, происходившая не от Али, а от другой ветви рода Хашимитов и избравшая для себя новую резиденцию к востоку от Дамаска. О родоначальнике этой новой династии, по имени Аббас, известно лишь, что он был дядей пророка Мухаммеда. Его потомки вели подрывную антиомейядскую пропаганду в иранских областях Арабского халифата, стремясь использовать себе на потребу не только религиозное и социальное, но и национальное недовольство иранского элемента арабской гегемонией. В 762 году эта «альтернативная» по отношению к Омейядам династия, вошедшая в историю под названием Аббасидской, основала поселение, разросшееся со временем до размеров огромного города под персидским названием Багдад («Богом данный»). Хотя долгое время никто не сомневался в конечной победе династии Язида и его преемников, реальность оказалась совсем иной. Оппозиция власти потомков Муавийи постоянно возрастала и усиливалась. Оспаривавшее легитимность власти Омейядов, альтернативное ответвление ислама – упоминавшиеся выше шииты – также становилось все сильнее. В 685 году, всего через пять лет после мученической гибели имама Хусейна, в Куфе произошло восстание во главе с Мухтаром ас-Сакафи (аль-Такафи), выступившим в защиту притязаний сводного брата Хусейна – Мухаммеда (третьего сына халифа Али). Это восстание весьма способствовало росту агрессивности шиитов, открыто бросавших вызов омейядской гегемонии. Примечательно, что Мухтар аль-Такафи объявил поддержанного им Мухаммеда «избранником божьим» – «Махди». Этот термин, означающий буквально «ведомый (верным, или праведным, путем Аллаха)», в процессе дальнейшего развития ислама, приобрел поистине огромное значение в шиитском богословии (хотя Махди не упоминается ни в священном Коране, ни в наиболее авторитетных сборниках хадисов-речений пророка Мухаммеда).
Согласно убеждениям шиитов, вождю ислама для того, чтобы быть законным преемником пророка Мухаммеда, необходимо было доказать свое прямое происхождение от Али, зятя и племянника провозвестника мусульманской религии. Как уже упоминалось выше, название «шииты» происходит от слов «шийят Али», что означает «партия (секта) Али». Немаловажным элементом шиитской религиозной доктрины (или, выражаясь современным языком, «идеологии») было представление, согласно которому великий пророк, известный как «Махди», однажды объявится на земле, дабы своим приходом возвестить о конце света и уничтожении всего зла на земле. «Идеологические» противники шиитов, всегда составлявшие большинство исповедников ислама, не признавали этого учения. Однако шииты верили в то, что узурпировавшая власть над «уммой» халифская династия Омейядов была повинна в пролитии священной крови невинно убиенного ее клевретами Хусейна «и иже с ним».
В знак своей великой, неизбывной, вечной скорби по злодейски умерщвленному Хусейну шииты облачались в траурные черные одежды и выступали под траурными черными знаменами, тем самым демонстрируя свою печаль по поводу узурпации халифской власти нечестивыми Омейядами. Не удивительно, что, когда Аббасиды, представлявшие, как уже говорилось выше, соперничавшую с потомками Муавийи ветвь семьи пророка Мухаммеда, выступили против Омейядов, часть шиитов поспешила оказать поддержку этим врагам своих врагов. Число мятежей против власти Омейядов, постоянно возрастало. Чаще всего они вспыхивали на территории покоренного арабами Ирана – месте возникновения низаризма. Когда Аббасиды начали свое генеральное наступление на Омейядов в середине VIII века, пребывавшее под управлением наследников Муавийи мусульманское общество переживало серьезные трудности – как социальные, так и экономические. Халифат Омейядов, распространившийся до границ «недвижного Китая», стал попросту чрезмерно велик для эффективного управления им из сирийского Дамаска. Притязания Омейядов на светскую и духовную власть над «уммой» представлялись незаконными все большему числу их подданных. Все больше воинствующих ревнителей веры выступали против «неправедных» Омейядов по религиозным соображениям. В итоге Омейяды оказались не способными на продолжительное действенное сопротивление всем этим негативным факторам. Поэтому Омейядская династия была низвергнута, хотя одному из ее руководителей удалось бежать из Сирии на крайний запад мусульманского мира – в покоренную арабами почти полностью Испанию (или, по-арабски, аль-Андалус), где беглец-Омейяд сумел создать свой собственный халифат со столицей в Кордове, процветавший на протяжении еще многих веков.
Однако тех шиитов, которые надеялись, что смена правящего режима с омейядского на аббасидский пойдет им на пользу, ждало большое разочарование. При детальном знакомстве со структурой шиитского течения и учения в исламе можно получить ясный и четкий ответ на вопрос, почему все произошло так, а не иначе. Хотя все шииты были согласны в том, что единственный законный вождь ислама должен быть потомком ветви семьи пророка Мухаммеда, идущей от «хазрата» Али, они никак не могли договориться между собой о том, какой именно из потомков Али достоин звания халифа. И потому, хотя шииты были едины в своей ненависти ко всем соперничающим с ними толкам ислама, сами они были весьма рыхлой и раздробленной группировкой. Те из шиитов, которые поддерживали Аббасидов, верили, что один из членов семейства «хазрата» Али, Абу Хашим ибн Абдаллах, завещал свое право на звание халифа представителю дома Аббасидов – Ибрагиму ибн аль-Махди —, что и побудило данную группу шиитов к поддержке мятежа Аббасидов, направленного на изменения в свою пользу существующего положения… Однако приход к власти первого халифа из династии Аббасидов по имени Абуль Аббас, отнюдь не ознаменовал собой наступление нового периода в истории исламского мира, в который шииты надеялись стать господствующим толком. Шиитские ожидания, связанные с переменой власти в халифате, оказались чересчур оптимистичными. Это глубокое разочарование привело к усилению все более воинственных тенденций в шиитском движении и в то же время – к появлению все новых трещин и расколов в шиитской религиозно-идеологической среде.
С течением времени шиизм дробился на все большее число «подгрупп». Эти «подгруппы» сходились в одних представлениях и верованиях и рознились – в других. Все шиитские «подгруппы» признавали, что законный глава мусульманского государства – имам – должен быть непременно потомком «хазрата» Али. Этот имам мыслился как безошибочный толкователь воли Аллаха, и в этм представлении сходились все шииты. Но в вопросе определения его статуса и природы различные толки шиизма расходились, причем некоторые даже признавали за имамом божественный статус. Кроме того, между шиитами постоянно шли нескончаемые споры о личности имама. Некоторые шииты считали, что легитимность первых двенадцати имамов восходит к самому пророку Мухаммеду, основателю мусульманской религии. Они верили в то, что последний из этих двенадцати имамов бесследно исчез – или, используя терминологию шиитских богословов, «скрылся из вида» – однако снова явит себя миру в предназначенный час. Вернувшись в мир, погрязший во зле и грехах, этот «скрытый имам» восстановит попранную справедливость, утешит праведников и покарает грешников. Однако далеко не все шииты разделяли эту веру в существование «скрытого имама», что давало повод для постоянных ожесточенных внутришиитских конфликтов.
Мнения разделились в вопросе о легитимности Измаила ибн Джафара, сына упоминавшегося выше шестого имама Джафара ас-Садика. Джафар умер в 765 году, и его смерть послужила причиной дебатов о легитимной линии, или цепи, его преемства, приведших к серьезному расколу (или, если использовать христианскую терминологию – к «схизме») внутри шиитского движения. Первоначально Измаил был назначен преемником Джафара, однако часть шиитов утверждала, что затем это назначение было отменено. Утверждавшие это так называемые шииты-двунадесятники (дюжинники, дюженники, двенадцатеричники, или имамиты, по-арабски – «имамийя») не признавали притязания Измаила на звание имама, и вели линию преемства имамата вплоть до своего последнего, двенадцатого имама, игнорируя Измаила.
Однако сторонники Измаил ибн Джафара упорно отказывались признать законность отмены его назначения имамом. Сыновья Измаила бежали из Медины, где больше не чувствовали себя в безопасности. Что случилось с самим Измаилом, было точно не известно. Согласно некоторым источникам, он умер и был похоронен Джафаром ас-Садиком, предварительно показавшим правителю Медины труп своего сына, чтобы удостоверить смерть последнего. Однако некоторые из приверженцев Измаила отрицали достоверность этой версии, утверждая, что Измаил вовсе не умер. В своем благочестивом рвении они дошли даже до утверждения, что через пять лет после смерти Джафара его сына Измаила видели живым и невредимым в иракском городе Басре, где он демонстрировал свои чудодейственные силы и способности, возвращая слепым зрение, а расслабленным – способность передвигаться. Шииты, поддерживавшие притязания Измаила и его потомков на имамат, получили прозвание «измаилитов». С учетом важности роли имама в шиитских верованиях, споры о том, кто является законным имамом, не могли не приводить и неизбежно приводили ко все более резким разделениям и междоусобицам среди шиитов.
В общем и целом, все эти нестроения наглядно демонстрировали, что по прошествии всего ста с небольшим лет после смерти пророка Мухаммеда в 632 году, основанная им религия уже успела дать очень серьезные трещины. Расколы и распри между «муслимами» тех или иных течений принимали весьма кровопролитные формы. Следующее столетие не стало веком ослабления внутриисламской конфронтации и связанных с нею кровавых эксцессов. Наоборот, эта конфронтация стала еще более острой, а эксцессы – еще более кровавыми. Развитие и обострение религиозно-политических конфликтов внутри «уммы» шло по нарастающей. Ислам (а с ним – исламский мир) фактически начал распадаться, приверженцы его враждующих между собою толков наносили друг другу все более тяжелые и глубокие раны, что окрашивало перспективы основанной пророком Мухаммедом «уммы» во все более трагические тона. Эти расколы служили своего рода катализаторами целой цепи драматических событий, приведших напрямую к формированию движения, известного как назариты.
* * *
2. Восход звезды измаилитов
Несмотря на то, что халифы из династии Аббасидов, хотя и будучи суннитами, смогли прийти к власти над исламской «уммой» не без действенной поддержки значительной части шиитов, их стремление возглавить весь мусульманский мир предполагало опору на суннитское большинство, а не на шиитское меньшинство «народа ислама». И потому Аббасиды недвусмысленно и ясно дали понять способствовавшим их приходу к власти шиитам, что не согласны с шиитской интерпретацией исламской доктрины. Мало того, по приказу аббасидских владык Багдада (дважды за время правления своей династии переносивших резиденцию из Багдада в город Самарру) был принят целый ряд суровых мер по обузданию шиитов, возомнивших себя «делателями халифов». Наиболее вопиющей из этих карательных мер было разорение в 851 году, по повелению аббасидского халифа Мутаваккиля Алаллаха аль-Хусейна аль Ахвази, гробницы святого мученика Хусейна в городе Кербела, что не могло не привести (и действительно привело) к взрыву возмущения шиитского меньшинства исламской «уммы», чье официально провозглашаемое и восхваляемое единство давно уже трещало по всем швам….
Сами Аббасиды серьезно интересовались религиозными вопросами. Халифы из этой династии стремились продемонстрировать свое религиозное рвение и благочестие, принимая, при вступлении во власть, дополнительные религиозные имена, или прозвища. Так, например, самый знаменитый из ранних аббасидских халифов, Харун (или Гарун), принял «тронное» имя «аль-(ар-) Рашид»7, что значит: «Идущий правильным (праведным) путем». Впрочем, не было недостатка в проявлениях недовольства различных групп «муслимов» властью багдадских халифов. Периодически происходили мятежи под религиозными лозунгами, направленные против режима Аббасидов (например, мятеж в Медине в 762 и в Мекке в 786 году). Тем не менее, отсутствие единства между различными группами противников Аббасидов и отсутствие координации их действий не позволяли им добиться свержения ненавистной династии, по крайней мере, в обозримом будущем.
Было бы неверным полагать, что угроза гегемонии Аббасидов исходила главным образом от шиитских кругов. Целый ряд восстаний против аббасидского режима был поднят другими исламскими группировками. Борьба велась не только мечом, но и пером, не только на поле брани, но и в интеллектуальной сфере, между лучшими умами духовных академий исламского мира, причем в ходе этих религиозных споров использовалась все более сложная богословская аргументация. Комбинированный эффект военных мятежей против аббасидской власти и все более изощренных интеллектуальных словопрений по тем или иным вопросам исламского вероучения становился все более опасным для правящей династии «наместников пророка». При этом не происходило массового вооруженного восстания, способного свергнуть власть Аббасидов одним махом. Вместо этого шла каждодневная, кропотливая подрывная работа по разложению и разъеданию внутренних связей и структур созданного Аббасидами общества. Несмотря на неприметность этой подрывной деятельности, она неминуемо вела к тому же результату, к которому привело бы не состоявшееся массовое вооруженное восстание, хотя и требовала более долгого времени для достижения поставленной цели. В конце концов, оба указанных выше фактора обрекали династию Аббасидов на неминуемый крах.
Внешне все казалось в полном порядке. Тишь да гладь да Божья благодать. «Спите, жители Багдада, в Багдаде все спокойно!». Под щедрым покровительством аббасидских меценатов процветали науки и искусства. Однако Аббасиды постоянно сталкивались со все новыми социально-политическими проблемами. Представители этой суннитской династии не обладали выдающимися способностями и качествами руководителей, необходимыми государственным деятелям для успешного правления своими подданными. И, хотя «умма», в большинстве своем, признавала их верховную духовную и светскую власть, Аббасидам во все меньшей степени удавалось осуществлять постоянный и эффективный контроль над громадной, но становящейся все более рыхлой исламской державой, в которой собственно арабы – «титульная нация», «народ-завоеватель» – составляли всего лишь меньшинство. Территория исламского мира, которым Аббасиды якобы управляли, была поистине необозримой. Этот мир состоял из великого множества различных культурных элементов, внутренние трения между которыми создавали «эффект кипящего котла». Аббасидские халифы, образно выражаясь, тщетно пытались усидеть на крышке этого котла, но нарастающее давление пара внутри неминуемо должно было сорвать с котла эту крышку…вместе с сидящими на ней сверху Аббасидами…Так что хваленое единство Аббасидского халифата (а вместе с ним – и единство исламского мира) обещало быть не слишком долгим…
Успехи, сопутствующие воинам Аллаха (главным образом – бедуинам) на раннем этапе истории ислама, положили начало процессу арабизации в землях, покоренных мусульманскими войсками. Но, в отличие от процесса военного завоевания, процесс завоевания культурного не был окончательным и полным. В границах исламского мира продолжал существовать целый ряд сильных, стойких и способных противостоять ассимиляции, местных высокоразвитых культур (являвшихся, по отношению к арабской, «контркультурами»), чьи носители воздвигли непреодолимый барьер на пути, казалось бы, неминуемого установления на всей покоренной арабами-мусульманами территории арабского культурного господства. Пожалуй, сильнейшей и наиболее стойкой из этих «контркультур» была культура персидская (или, в более широком смысле – иранская), опиравшаяся на доисламские, маздаяснийские традиции. Что и не удивительно, учитывая великое, великолепное во всех отношениях наследие древних Персидских держав. Оказавшиеся не в состоянии подчинить персидскую культуру своей собственной (гораздо менее развитой), арабы-завоеватели сами подпали под ее влияние и в итоге оказались покоренными в культурном отношении персами, которых победили на поле брани8. Как в свое время – древние римляне оказались покоренными в культурном отношении побежденными ими на поле брани греками-эллинами. И потому можно было бы сказать о подчинившихся обаянию персидской культуры арабах времен Омейядов и Аббасидов, перефразируя римского поэта Квинта Горация Флакка:
«Персия, взятая в плен, победителей диких пленила».
Процесс неуклонной иранизации культурной жизни аббасидского халифата шел во все убыстряющемся темпе. К началу IX века при дворе Аббасидов (не случайно избравших своей резиденцией город Багдад, расположенный на земле древней Персии, недалеко от развалин бывшей столицы Персидской державы – Ктесифона-Тизбона) вовсю задавали тон персидские советники, и даже одеяния придворных, включая самих халифов, были уже не арабскими, но персидскими. Не случайно франкский историк Эгинхард, описывая жизнь и правление короля франков Карла Великого, дружившего с Харуном аль-Рашидом, называл последнего «Аарон, царь ПЕРСОВ (а не арабов – В. А.), который владел, за исключением Индии, почти всем Востоком». Титул главы халифского правительства, или, выражаясь современным языком, премьер-министра – «визирь» («везир») – происходил напрямую от аналогичного персидского титула «вазирг» эпохи правления Сасанидов. Высокопоставленные государственные деятели иранского происхождения занимали самые ответственные посты и управляли халифатом в духе великих царей Эраншахра. Именно в период правления Аббасидов арабский государственный порядок окончательно слился с многообразным наследием Древнего Востока в нечто новое – исламскую цивилизацию. Арабский правящий слой на равноправной основе с новообращенными в ислам народами вошел в великую мусульманскую общину верующих – «умму».
Непреходящим вкладом арабов в эту исламскую цивилизацию стали арабский язык, как общий язык народов новой мировой державы, и фундамент единого, исламского права. Беспрекословное следование Священному Корану и неприкосновенность его текста стали важнейшей причиной того, что литературный арабский язык на протяжении более чем четырнадцати веков сохранился почти в своем первозданном виде – уникальный случай среди живых языков в истории мировой культуры. Хотя лишь каждый пятый мусульманин в мире считает арабский своим родным языком, знание языка Корана по сей день имеет широкое распространение в исламском мире. Подавляющее большинство мусульманских народов – от Судана до Малайзии – пользуется арабской письменностью. Хотя в кодификации исламского шариатского права принимали участие не только этнические арабы, этот шедевр юридической науки, не уступающий ни в чем достижениям величайших римских правоведов, носит неизгладимый арабский отпечаток. Впрочем довольно об этом…
Тотальная иранизация всех сторон жизни халифата при Аббасидах не обошла стороной и халифское войско, чей состав заметно изменился. Роль в войске повелителя правоверных арабов пустыни – бедуинов – все больше сходила на нет. Бедуинов заменяли наемные войска, преимущественно иранского, а затем – и тюркского происхождения (которые со временем стали превращать аббасидских халифов в своих марионеток, а порой – даже устранять их физически, заменяя своими более послушными ставленниками). Все эти обстоятельства, не всегда в полной мере осознаваемые современниками событий, служили наглядными свидетельствами прогрессирующего ослабления единства и взаимосвязей внутри исламского мира.
С течением времени держава Аббасидов становилась все менее централизованной. В ней усиливались центробежные тенденции. В результате постоянно ускоряющейся децентрализации правители на местах начали становиться все более самостоятельными и независимыми от своего все более призрачного и гипотетического верховного владыки, утопающего в расслабляющей роскоши в далеком Багдаде, в то время как основная масса его подданных погружалась во все большую нищету. Какая уж там «асабийя», какая социальная справедливость и социальная солидарность!.
Перефразируя нашего знаменитого поэта Александра Сергеевича Пушкина, можно было бы сказать:
«Багдад остыл от пота битвы
И пьет вино в часы молитвы»…
Это все более ярко выражаемое стремление к независимости на местах создавало для Аббасидов все больше проблем. Вследствие постоянных социальных волнений и беспорядков возрастала воинственность групп недовольных на разных уровнях исламского общества, что таило в себе угрозу мощных общественных потрясений. Династия Аббасидов жила в условиях все нарастающего страха перед множащимися день ото дня заговорами, направленными на свержение ее гегемонии. Страх Аббасидов утратить власть над «уммой» довел их до того, что они предпочли опираться не на собственных подданных (которым боялись доверить оружие), а на иноземные наемные отряды, служившие халифам за деньги. В довершение всех бед и невзгод Аббасидов, осложнилось и их экономическое положение. Утрата багдадскими халифами эффективного контроля надо все большим числом областей халифата неизбежно приводила к уменьшению налоговых поступлений, остававшихся на местах в распоряжении местных бюджетов, а не стекавшихся, как прежде, отовсюду в «богоданный» Багдад. Династия Аббасидов, с ее непомерно разросшейся и обирающей налогоплательщиков до нитки, выжимая из податного населения как можно больше для пополнения казны халифа, но не забывавшей и о собственной мошне, чиновной бюрократией (как правило, иранского происхождения), сталкивалась со все возрастающими трудностями в деле обеспечения необходимых потребностей своего современного и развитого (для описываемого времени) государства. Что подтверждалось, в частности, постоянным обесцениванием денег (то есть девальвацией – последним средством спасения утрачивающих платежеспособность и впадающих вследствие этого в кризисное состояние суверенных государств), что усиливало недовольство подданных и крайне осложняло финансовую жизнь державы правоверных.
Наименее опасным для Аббасидов шиитским течением были шииты-«двунадесятники», верившие, что двенадцатый имам в цепи преемства от пророка Мухаммеда (через линию потомков Али – Алидов) исчез, скрылся, но вернется в некий предназначенный, но неизвестный людям срок, чтобы восстановить в исламском мире власть законной, «праведной» династии отпрысков «хазрата» Али. «Двунадесятники» также верили в грядущий приход «спасителя» – Махди – аналога иудейского Машиаха, христианского Мессии и маздаяснийского Саошьянта, и разработали целую мартирологию вокруг фигур имамов, претерпевших мученическую смерть за свою веру в прошлом. Однако подход «двунадесятников» к концепции Махди фактически предписывал им пассивную модель поведения. По воззрениям двенадцатиричников, спасителю-Махди надлежало явиться, чтобы исправить мир и править миром, когда для этого придет время, вне зависимости от поведения ожидающих его прихода правоверных, не способных ускорить его приход, что бы они ни делали. Поэтому двунадесятники, в общем и целом, были готовы мириться с существующим положением дел, включая правление «неправедных» Аббасидов, и сосуществовать с их режимом, хотя и ничего не предпринимавшим для улучшения положения шиитов, упрочения и распространения шиитского течения в исламе.
В отличие от этих характерных для «двенадцатиричников» пассивного отношения к существующим порядкам и покорности судьбе, другая ветвь шиитов – измаилиты, известные также как «семиричники», «семеричники» или «сабеи» (от арабского «сабийя» – «семь»), по той причине, что ранние измаилиты признавали законными только семерых имамов, кончая Мухаммедом ибн Измаилом, взяли на себя гораздо более активную и проповедническую роль, чем куда более ортодоксальные и умеренные конформисты-«двенадцатиричники». «Семиричники»-измаилиты верили, что обязаны готовиться к приходу грядущего Махди и готовить его приход своими действиями, активно вмешиваясь в происходящее, а не предаваясь созерцательной бездеятельности. Поэтому группировка измаилитов-семеричников, не склонных мириться с властью «неправедных», «неправильных», «ненастоящих» халифов из дома Аббасидов, очень скоро превратилась в центр сопротивления аббасидскому режиму и фермент социального недовольства (усердно ими же самими разжигаемого, раздуваемого и поддерживаемого) во многих частях исламского мира, например – в Иране-Персии, Магрибе (Северо-Западной Африке) и особенно – в Йемене, на самом Юге Аравийского полуострова. Их пламенная «ревность об истинной вере» и радикализм, резко контрастировавшие с пассивным конформизмом двунадесятников, стимулировали рост фракционности в недрах исламского мира. Все более ожесточенная фракционная борьба, в свою очередь, способствовала росту влияния воинствующих групп зилотов-фанатиков, чьей кульминационной точкой стало, в конце концов, возникновение группировки низаритов.
Притязания измаилитов наталкивались на ожесточенное сопротивление их противников. По мере обострения конфликта, опасность, исходившая от мусульманских сил, не желавших признавать претензии Измаила и его потомства на халифскую власть, настолько возросла, что Мухаммед ибн Измаил, седьмой имам измаилитов, был вынужден уйти в подполье, скрыться. По этой причине он вошел в историю ислама как «аль-Махтум», что означает «Скрытый (имам – В. А.)». Так имамат оказался скрытым от внешнего мира на протяжении следующего века, считаясь «непосвященными», «профанами», более не существующим. Но сами измаилиты верили, что имамат, передаваемый по линии наследования Мухаммеда его преемникам, продолжает свое существование, хотя и ставшее, в силу неблагоприятных внешних обстоятельств, до поры – до времени, из явного тайным.
Гонения, воздвигнутые иноверцами на измаилитов, вынуждали их продолжать свою деятельность, практиковать свои верования и распространять свое вероучение в обстановке строжайшей конспирации. Вынужденные, из соображений безопасности, исповедовать внешне, для видимости, ортодоксальную форму ислама и практиковать ортодоксальную исламскую обрядность, они хранили свою подлинную доктрину в глубокой тайне от «непосвященных». Согласно их «сокровенной» доктрине, как Коран, исламское Священное писание, в целом, так и каждая содержащаяся в нем буква, наряду со своим внешним, буквальным содержанием и смыслом, предназначенным для «непосвященных», имеет и глубоко завуалированный, символический, тайный, скрытый, эзотерический смысл, раскрывающийся лишь «посвященным», нуждающимся, для его правильного истолкования, в правильной интерпретации, в руководстве боговдохновенного наставника. Для большинства (если не всех) правоверных мусульман – суннитов, подобный кощунственный, с суннитской точки зрения, подход к священному Корану был достоин всяческого осуждения и вечного проклятия. Уже одного этого подхода было достаточно, в глазах суннитов, для воздвижения гонений на измаилитов.
Все шииты считали суннитов представителями исламского толка, уклонившегося от истины в ересь и поддерживающего незаконную власть. Как уже упоминалось выше, шииты верили, что лишь потомок «хазрата» Али может считаться законным духовным (и светским) лидером исламского мира. Поэтому, в глазах шиитов, все халифы, не принадлежащие к потомству пророка Мухаммеда по линии Али, в том числе первые халифы, принявшие бразды правления после смерти основателя ислама, и уж тем более «неправедные» халифы из династий Омейядов и Аббасидов, были не законными владыками правоверными, а не более чем узурпаторами, нарушившими законное преемство власти над исламским миром. Столь вопиющее расхождение во взглядах на законность и незаконность халифской власти неминуемо приводило к яростной конфронтации между суннитами и шиитами (в первую очередь – с измаилитами, как наиболее радикальной фракцией шиизма).
Особую остроту этой суннитско-шиитской конфронтации придавало фундаментальное доктринальное различие межу суннизмом и шиизмом. Согласно суннитским воззрениям, законность или незаконность власти основывается на том, отвечает ли она пожеланиям и представлениям большинства общины правоверных. Следствием подобного подхода могли быть (и были) долгие дебаты с целью достижения согласия по тем или иным ключевым вопросам. Утверждали, что сам пророк Мухаммед в свое время всячески поощрял своих последователей к подобным умственным, или интеллектуальным, упражнениям. Широчайшей популярностью в исламской «умме» пользовалось приписываемое пророку изречение-хадис: «Разногласия внутри моей общины – милость» (варианты: «Разногласия между моими сподвижниками – милость», «Разногласия между моими сподвижниками – милость для моих последователей»).
Начислим
+48
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе