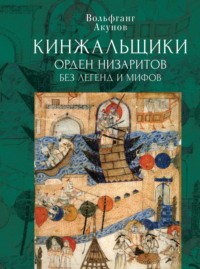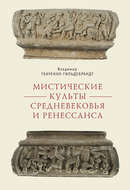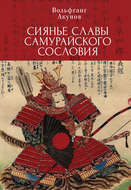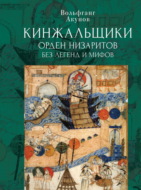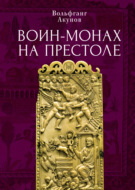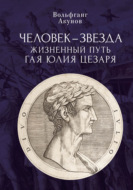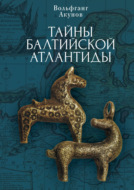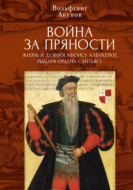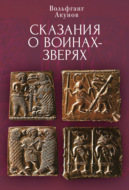Читать книгу: «Кинжальщики. Орден низаритов без легенд и мифов», страница 7
нисколько не утратили присущих им, еще со времен их «язычества», качеств, и в первую очередь – воинственности). Приняв ислам в его суннитской разновидности, сельджуки, силою вещей, сделались яростными противниками шиитов-Фатимидов. Тюрки-сунниты впервые захватили Багдад в 1055 году, еще до его подчинения в 1058 году измаилитами, но дальнейшие действия сельджуков отвратили от них значительную часть местного населения, что способствовало утрате сельджуками гордой столицы халифов. И вот теперь, в 1060 году, они взяли реванш, вновь овладев Багдадом. Предводитель сельджуков Тугрул (Тогрул, Тогрил, Тугрил) – бек (бей), провозгласил себя султаном – светским правителем Багдадского региона, при аббасидском халифе-сунните, как его духовном правителе. Хотя формально Аббасидский халифат был восстановлен сельджуками, он был бессилен, как еще никогда в своей истории (считая даже период его пребывания под «опекой» шиитов-Буидов), ибо полностью зависел от милости тюрских султанов – «царей Востока и Запада», вертевших халифом, как своей послушной куклой.
Разумеется, дальнейшие столкновения между тюрками-сельджуками и Фатимидами стали абсолютно неизбежными. Однако у тюркского экспансионизма имелись и другие цели. Самой богатой, но и самой подверженной внешним угрозам частью Ромейской Василии издавна была Малая Азия, обладавшая огромными продовольственными запасами и служившая казавшимся неиссякаемым источником живой силы, необходимыми для поддержания вооруженных сил «Византии» на должном уровне. И тюрки приступили к завоеванию этого благодатного ромейского региона. «Византийский» император-василевс Роман IV Диоген (или Дигенис) решил дать сельджукам решительный отпор, раз и навсегда отбив у них охоту покушаться на земли империи. Он собрал огромное войско и лично возглавил его, выступив из Константинополя-Царьграда против тюркских «варваров». Василеве ромеев сошелся с сельджуками (которым помогали курды и воины Аббасидского халифата) в 1071 году в битве при Манцикерте (или Маназкерте, современном турецком Малазгирте) – городе, расположенном на крайнем востоке Малой Азии. Битва закончилась полным поражением ромеев и пленением самого василевса сельджуками султана Альп-Арслана, что имело поистине роковые последствия для дальнейших судеб Ромейской Василии. Вся ромейская Малая Азия, или Анатолия, как и Армения, оказалась беззащитной и открытой для тюркского вторжения. Чем сельджуки и не преминули воспользоваться. Со временем на землях отнятой тюрками у «урумов» (ромеев-греков) Анатолии возник сельджукский Иконийский, или Конийскмй, султанат, именуемый самыми победоносными тюрками, в память о прежних владельцах этих земель, «Рум» (то есть «Рим»).
Однако тюрки-победители не смогли в полной мере воспользоваться плодами своей победы. Они не были единым народом, не составляли единого целого. Между ними вскоре начались распри. Сельджукская знать была лояльна к центральной, султанской, власти до тех пор, пока султаны вели успешные завоевательные войны. В ходе этих победоносных войн сельджукский правящий слой получал богатую добычу, новые земли, воинскую славу. Как только процесс покорения чужих территорий остановился, в среде сельджуков – «воинов по жизни» – начались брожения. Тюркская знать начала добиваться все больших привилегий, а затем и вовсе захотела независимости. В общем, Сельджукский султанат пошёл по пути Арабского халифата – захватив за короткий срок огромные земли, тюркское государство рухнуло в пропасть раздробленности. Как только у какого-то семейства появлялось чуть больше власти и сил, оно сразу же стремилось обрести независимость. Первым центральной власти фактически перестал подчиняться занимавший территории юго-восточного Ирана и Омана Керманский султанат (хотя и остававшийся формально частью государства сельджуков). В семидесятые годы XI века произошло обособление Сирийского и Румского султанатов. Огромное число различных тюркских вождей-суннитов создало множество локальных государственных образований, враждовавших между собой не менее яростно, чем с христианской «Византией» и с измаилитскими Фатимидами. В результате отнятая тюрками у «Византии» большая часть малоазиатского региона раздробился на мелкие и мельчайшие осколки. Малая Азия, Сирия и побережье Срединного моря попали под власть тюркских региональных правителей, во многих случаях номинально зависевших друг от друга, и столь же номинально признававших верховную власть сельджукского султана, однако практически бывших совершенно независимыми, вследствие хаотического состояния, в котором пребывал весь регион. Дальше на восток располагались очаги сопротивления экспансии тюрок, рассматриваемых многими тамошними измаилитами (особенно – обосновавшимися на территории Ирана) как незваные гости и нежелательные элементы.
Измаилитская династия Фатимидов оказалась неспособной дать тюркам эффективный отпор. Частым театром военных действий между фатимидскими и сельджукскими армиями становилась Палестина, столица которой – аль-Кудс-Иерусалим, некоторое время входившая в Фатимидский халифат, несколько раз переходила из рук в руки, от египтян к сельджукам и обратно. Однако при египетском халифе Мааде аль-Мустансире Биллахе, чье правление длилось шестьдесят (!) лет, Фатимиды стали утрачивать свою энергию и целеустремленность, отступая и сдавая одну позицию за другой, на протяжении периода с конца XI по начало XII века. Многие радикально настроенные группы измаилитов пришли к печальному для них выводу, что Фатимидская династия не в состоянии решить терзавшие ислам проблемы и уж никак не предназначена Всевышним для священной миссии установления на грешной земле «царства праведности».
Главной особенностью изменившихся условий существования раздробившегося в XI веке малоазиатско-ближневосточного региона была прогрессирующая децентрализация. Прежняя система централизованного контроля приходила во все больший упадок. Ослабление централизованных властных структур использовалось внешними врагами всего «дар-аль-ислама». В западной части региона, на средиземноморском побережье, римско-католические христианские «вооруженные паломники» из Западной Европы, действуя при поддержке православных христиан-ромеев, в итоге I Крестового похода (это выражение не употреблялось современниками, называвшими походы западноевропейцев-«франков» в Землю Воплощения «вооруженными паломничествами» или просто «паломничествами», по-латыни – «перегринацио») овладели в 1099 году его главной целью – Святым Городом Иерусалимом – и основали в Сирии и Палестине ряд своих, «франкских», государств. Захват «франками» аль-Кудса стало настоящим шоком для всех мусульман, для которых Иерусалим был такой же святыней и таким же местом поклонения, как для христиан («многобожников», с точки зрения «муслимов») и иудеев.
Дальше на восток, заметно оживились и другие враждебные прежнему порядку внешние силы, также стремившиеся, по-своему, воспользоваться последствиями разделения и раздробления мира ислама. Радикально настроенные измаилиты были разочарованы совершенно очевидным и безнадежным ослаблением и упадком власти Фатимидов, их явным стремлением как-то договориться и примириться с врагами того, что эти измаилитские радикалы считали «истинным исламом». Все это создало нечто вроде вакуума, заполнить который поспешили иные измаилитские группировки. Радикальные элементы присутствовали в измаилитском движении с самого начала и на протяжении всей его истории, карматы и друзы были не более чем двумя из примеров, которых можно было бы привести гораздо больше (достаточно указать хотя бы на сирийских алеитов-алавитов). И вот, наконец, появилась очередная такая группировка, произведшая наибольшее, поистине неизгладимое, впечатление на всех современных ей и позднейших историков (в том числе и европейских, «франкских»), не только заинтересовав их, но и дав обильную пищу их живому воображению.
* * *
З. Прозорливец
Сегодня мы невольно поражаемся тому, насколько мобильными и легкими на подъем (по сравнению с жителями тогдашнего христианского Запада – правда, до начала эпохи «вооруженных паломничества» на Ближний Восток, известных как Крестовые походы) были обитатели «дар-аль-ислама». Дошедшие до нас жизнеописания большинства из них представляют собой, по сути дела, нескончаемую череду сменяющих друг друга, как в калейдоскопе, селений, стран и городов, в которых они побывали, то ли по делу, то ли торгуя, то ли путешествуя от двора одного владыки ко двору другого. Через весь мусульманский мир тянулись вереницы паломников, совершающих паломничество-«хадж», стремясь достичь священного города Мекки, чтобы поклониться черному камню-метеориту Каабы (тому самому, от которого нечестивые карматы святотатственно откололи половину). Через весь «дар-аль-ислам» (а если быть точнее – от Испании – «страны Аль-Андалус», исламизированной почти целиком, до Турфана, граничащего с «недвижным Китаем» Туркестана) ехали по своим делам мудрецы и поэты, купцы и искатели приключений (а проще говоря – авантюристы, любители половить рыбку в мутной воде). И для каждого была важна принадлежность к той или иной исламской подсистеме, к тому или иному направлению, той или иной секте. В каждом городе у каждого находились союзники и помощники среди единоверцев. За высоким, глухим глинобитным забором-ду
валом всякий, кто нуждался в крове и защите, мог укрыться у единомышленников от враждебных властей и недругов. А также от агрессивных инаковерующих. Живший в описываемое время иранский историк Абу Бекр Наджм ад-Дин Мухаммед Равенди, придворный каллиграф сельджукского султана Торгула II, горестно повествовал о печальной судьбе древнего персидского города Нишапура, раздираемого религиозными распрями. В городе, и без того разграбленном тюркскими кочевниками-огузами, «по причине различия в религиозных толках еще со старинных времен кипела взаимная вражда. Каждую ночь какая-нибудь партия созывала из какого-нибудь квартала ополчение, поджигала кварталы противников и все, что еще оставалось после огузов, уничтожалось…».
В середине XI века (точная дата никому не известна) в иранском городе Кум родился мальчик. Кум был одним из первых городов Ирана, в котором стали селиться (или, точнее, были поселены халифами, чтобы «разбавить» местное иранское население и способствовать его ускоренной исламизации) арабы, после того, как они вырвались, подобно вихрю, из своей пустыни, несколькими столетиями ранее. К моменту рождения ребенка, получившего имя Хасан ибн (ас-) Саббах, Кум превратился в главный центр иранской общины шиитов-«двунадесятников». Семья Хасана ибн Саббаха была родом с далекого юга. Хотя его отец, Али ибн Мухаммед ибн Саббах аль Химьянхад, родился в Куфе (том самом городе, куда, как, вероятно, помнит уважаемый читатель, направлялся злополучный имам Хусейн, в преддверии своей мученической смерти), его семейство, как утверждало семейное предание, переселилась в Куфу из Йемена, и, следовательно, имело изначально арабские корни. Впрочем, таково была фамильная легенда. По другим сведениям, Хасан ибн Саббах был иранского или даже иудейского происхождения (впрочем, последний «грех» ставили в вину и многим другим исламским бунтарям и реформаторам – например Хамдану Кармату, основателю измаилитского халифата Фатимидов имаму Убайдаллаху альМахди и даже – страшно сказать! – самому пророку и посланнику Бога Мухаммеду). Если наши сведения о раннем периоде жизни Хасана соответствуют действительности, он был ребенком необычным. Его биограф утверждал, что уже в семилетием возрасте высокоодаренный мальчик был твердо уверен в том, что станет не кем-нибудь, а ученым богословом, но в то же время живо интересовался, наряду с теологией, и другими отраслями знания.
Впрочем, ранний период его духовного обучения проходил обычным для его семейства образом. Он признавал правоту учения шиитов-двенадцатиричников, как единственных, по его убеждению, правоверных мусульман, и жил согласно их законам и установлениям. Однако впоследствии, в юношеском возрасте, Хасан сошелся с группой других, более радикально настроенных, студентов-богословов – талибов. Хасана ввели в кружок «батинитского» проповедника-вербовщика по имени Амира Зарраб, – измаилитского «даиса», присланного в Иран из Миера. Распознав в молодом, впечатлительном талибе потенциального адепта измаилизма, Зарраб (как и другие измаилиты из его окружения) стал заводить с Хасаном религиозные диспуты, пытаясь убедить того в ложности учения двунадесятников.
Поначалу молодой человек и слышать не хотел об этом. Воспитанный как пламенный и преданный приверженец учения шиитов-«двунадесятников», Хасан потребовал от Зарраба прекратить свои кощунства, ибо он не желает их слышать и никогда с ними не согласится. Тем не менее, несмотря на его возмущенные протесты, Амира Зарраб, судя по всему, сумел своими доводами посеять в душе Хасана семена сомнения, ибо тот впоследствии сообщил своему биографу, что, обдумав в одиночестве сказанное ему Амирой, усомнился в правильности своих верований, хотя и не признавался в этом человеку, пытавшемуся склонить его к переходу в измаилизм. Между ними шли споры и дебаты, в ходе которых батинитский проповедник ставил под сомнение и разрушал веру Хасана. Тот не признавался в этом батиниту, но его слова глубоко запали в сердце юноши. Амира Зарраб сказал ему: «Размышляя по ночам в своей постели, ты осознаешь, что сказанное мной убедило тебя».
Впрочем, скорее всего, дело так и закончилось бы одними разговорами, если бы Хасану не пришлось пережить глубокий душевный и телесный кризис. Как уже не раз случалось в истории со многими людьми, мысль о грозящей смерти привела Хасана к радикальной перемене его религиозных воззрений. Хасан заболел, как все полагали – безо всякой надежды на выздоровление. В преддверии неминуемой кончины, Хасан осознал, что обречен окончить жизнь в состоянии греховности, или, как писал о нем биограф, «умереть, так и не постигнув истины». Но случилось чудо, и смертельно больной не умер, а выздоровел. Оправившись от последствий тяжелой, едва не сведшей его в могилу, болезни, юноша стал пламенным приверженцем дела измаилитов. Он принес измаилитскую присягу и был посвящен батинитом Мумином – порученцем Абд аль-Малика ибн Атташа, являвшегогся в описываемое время «даисом» в Ираке. В своей религиозной аффектации, принявший посвящение Хасан возомнил себя человеком, родившимся заново, переродившимся, возродившимся к новой жизни ради выполнения вверенной ему свыше священной миссии. Эта миссия заключалась в основании на территории входящего в Сельджукский султанат Ирана тайного измаилитского ордена и «праведного» измаилитского государства, оказавшего огромное влияние на региональную политику и глубокое впечатление – на воображение грядущих поколений.
Изложенной выше историей личного перерождения Хасана фактически исчерпываются все наши сведения о ранних годах будущего вождя иранских измаилитов (называть его «Горным старцем» или «Старцем горы» у нас нет веских оснований, поскольку никто из современников его так не именовал), если не считать еще одного исторического анекдота. Последний тоже стоит привести, хотя бы потому, что он служит наглядной иллюстрацией того, как истории о Хасане и о руководимой им группировке буквально очаровывали воображение многих людей, склонных к романтическому восприятию мира и происходящих в этом мире событий. Если верить этому историческому анекдоту, Хасан ибн Саббах учился в медресе (или, по-нашему – религиозной школе) вместе с двумя учениками, которым также была предназначена великая судьба. Одним из них был юноша по имени Абу Али аль-Хасан, впоследствии снискавший себе известность под именем Низам аль-Мульк (по-арабски – «Порядок царства», в смысле – «Устроитель государства»), заняв пост визиря при властителе Сельджукского султаната. Другим – знаменитый впоследствии астроном и стихотворец по имени Гияс ад-Диин Абуль-Фатх Омар ибн Ибрагим Хайям Нишапури (более известный как Омар Хайям). Эти три отрока-талиба якобы стали закадычными друзьями и, будучи уверенными в том, что хотя бы один из них троих когда-нибудь добьется выдающегося положения, заключили между собой тайный договор. Согласно его условиям, тот из троих связанных клятвой верности друзей, кто первым «выбьется в люди», клялся сделать все от него зависящее для поддержки карьерного роста двух других. Случилось так, что первым добился успеха и «вышел в люди» Абу Али, ставший на службе у сельджукского султана визирем Низам аль-Мульком. Не забыв о своей юношеской клятве, всемогущий визирь предложил двум своим бывшим однокашникам должности областных правителей (именовавшихся в Сельджукском султанате по-тюркски «субаши», а по-арабски – «вали»). Омар Хайям отказался от должности правителя области, как слишком хлопотной, скромно приняв взамен нее от Низама аль-Мулька «стипендию» или «пенсию» – пожизненное денежное содержание. Хасан же, строивший в отношении себя гораздо более амбициозные планы, счел предложенный ему пост правителя области слишком низким для него, и тоже отказался. В ответ нисколько не обидевшийся на старого друга, Низам предложил ему более важную должность на султанской службе.
Вступив в новую должность, Хасан ибн Саббах проявил себя чрезвычайно одаренным и ловким политиком и скоро стал, по утверждениям завистников, якобы представлять угрозу для облагодетельствовавшего его Низама. Поверив порочащим ибн Саббаха слухам, осторожный визирь, чтоб избежать опасности, приказал взять Хасана под стражу, вынудив старого школьного друга спасаться бегством под угрозой смерти. С трудом ускользнув от рук преследователей, Хасан поклялся отомстить Низаму. Став создателем и руководителем секретной низаритской группировки, известной «франкам» как «ассасины», он вспомнил о былой обиде, нанесенной ему соучеником по медресе. Визирь Низам аль-Мульк стал одной из первых высокопоставленных жертв низаритских «кинжальщиков».
История, что и говорить, весьма впечатляющая. Причем создающая у ее слушателя или же читателя впечатление, что уже в ранние годы своей жизни Хасан был человеком крайне честолюбивым и мстительным. Однако эта впечатляющая история – увы – недостоверна. Исторические факты неопровержимо свидетельствуют о том, что в молодости ее герои никогда не встречались, вместе не учились, да и жили в разных частях Ирана. Мало того! Эти трое «верных друзей-однокашников» вовсе не были сверстниками. Когда Омар Хайям появился на свет, Низам аль Мульк был уже вполне зрелым, тридцатилетним мужчиной. Хасан же, хотя и прожил более ста лет (нам точно известно, что он умер в 1124 году), тоже не был сверстником Низама. Таким образом, они наверняка не посещали одновременно одно медресе. Однако очевидная, казалось бы, недостоверность этой увлекательной и драматической истории впоследствии не помешала ей кочевать из книги в книгу…
После своего чудесного обращения в измаилизм, Хасан направился в город Рей (расположенный на окраине современной иранской столицы Тегерана) – традиционный центр измаилитских радикалов (бывший в глубокой древности, под названием Раги – местом рождения древнего иранского пророка Заратустры-Зороастра, основателя маздаяснийской веры, названной в честь него на Западе «зороастризмом»). Прибыв в Рей в 1072 году, аль-Саббах встретил там мужа святой жизни по имени Абд аль-Малик ибн Атташ. Египетские Фатимиды продолжали рассылать своих миссионеров-«даисов» с целью вербовки как можно большего числа сторонников для поддержки своего дела (как правило, измаилиты не принуждали никого принимать их веру, стараясь действовать проповедью, а не силой). Даже пресловутый «безумный халиф» аль-Хаким – и тот учредил в Миере нескольких особых школ для обучения «даисов». На тот момент ибн Атташ был главой измаилитских «даисов» в Иране. Он оказался достаточно прозорливым человеком, чтобы распознать кроющиеся в новом адепте выдающиеся задатки проповедника. И потому посоветовал молодому Хасану, уже достигшему к описываемому времени степени помощника «даиса», отправиться в Миер, продолжавший оставаться центром и, так сказать, «Меккой» измаилитского мира, чтобы завершить свое духовное образование, пройдя обучение в одной из тамошних миссионерских школ.
Хотя предложение ибн Атташа могло показаться весьма заманчивым, Хасан принял его не сразу, но лишь через несколько лет. Прежде, чем отправиться в Миер, он прожил некоторое время в расположенном в Центральном Иране городе Исфагане – столице Сельджукского султаната. Примечательно, что именно Исфаган был центром измаилитской миссии в Иране. Тем не менее, вопрос «учебной стажировки» Хасана в Миере был решен, и примерно в 1076–1077 годах молодой человек, при поддержке своего благодетеля ибн Атташа, отправился в странствие, причем не напрямик, а кружным путем, через Азербайджан и Сирию, где он остановился на некоторое время в городе Майяфарикине. По пути Хасан вступал в религиозные прения со сторонниками суннитского течения ислама и однажды был за это насильно изгнан за пределы города, избранного им в качестве временного пристанища. Затем он продолжил свое странствие через города Мосул и Дамаск. Убедившись в невозможности продолжить свой путь через Палестину из-за постоянных военных столкновений между войсками Фатимидов и Сельджуков, он повернул к средиземноморскому побережью и сел в приморском городе Кайсарии (Кесарии, или Цезарее) на корабль, шедший в Миер.
Хасан ибн Саббах провел в столице измаилитского Миера – аль-Кахире – несколько лет, поднаторев в риторике (искусстве говорить) и в диалектике (искусстве спорить, находя противоречия в аргументации оппонентов). Он научился у египетских измаилитов и искусству вербовать сторонников. Словом – приобрел необходимые ему знания и навыки «даиса». Тем не менее, об этих нескольких годах обучения Хасана в фатимидском Миере нам известно очень мало. Он, несомненно, встретил радушный прием у своих тамошних единоверцев, включая власти предержащие, с уважением относившихся к его влиятельному благодетелю ибн Атташу – главному измаилитскому «даису» на территории Ирана, однако, ни разу не удостоился приема у тогдашнего фатимидского халифа-долгожителя аль-Мустансира (или аль-Мустазхира), правившего с 1032 по 1094 год.
На основании дошедших до нас весьма скудных данных, трудно узнать что-либо еще о «стажировке» ибн Саббаха в Миере. Тем не менее, можно предположить, что от столь проницательного и умного, невзирая на свою молодость, человека, не укрылся очевидный закат звезды Фатимидов, подтверждаемый все новыми успехами сельджуков в борьбе с египтянами. Высоко в духовной иерархии Фатимидского халифата Хасан не поднялся.
Молодому, но честолюбивому не по годам начинающему религиозному деятелю стало совершенно ясно, что Фатимидский халифат измаилитов, переживший пик своего развития, дряхлеет и слабеет. Фатимиды уже утратили свои владения в Северной Африке (в частности, Тунис), уступили остров Сицилию воинственным «франкам»-норманнам, а многие свои владения в Сирии – сельджукам. Провести жизнь, ратуя за египетского халифа, означало согласиться на горькую судьбу безвестного мученика. Хасану необходимо был идти своим путем. Для достижения успеха молодой зилот-измаилит готов был использовать фатимидского халифа, но не наоборот.
О пребывании Хасана в Миере сохранился исторический анекдот, согласно которому Хасан рассорился с халифским визирем до имени Бадр аль-Джамали, бывшим, судя по всему, своего рода «серым кардиналом» и реальным носителям верховной власти в Фатимидском халифате. Достоверность этого исторического анекдота представляется весьма сомнительной. Скорее всего, он был сочинен задним числом, в попытке объяснить позднейший, произошедший несколько лет спустя, разрыв между Египтом и Хасаном. Тем более, что, если верить Джувейни, Хасана невзлюбил совсем другой египетский вельможа – эмир (амир) аль-Джуюш. Как бы то ни было, Хасану пришлось, спасая свою жизнь, бежать из Миера на «франкском» корабле, который буря понесла к берегам Сирии, где, по воспоминаниям Хасана, с ним случилось чудо. Видимо, он стал жертвой кораблекрушения, но благополучно добрался до берега, Хасану, вероятно, пришлось продолжать свой путь домой по суше, через Сирию. В 1081 году он, наконец, добрался до Исфагана.
Годы, проведенные на «стажировке» в Миере, несомненно, убедило ибн Саббаха в бесперспективности упований на помощь иранским измаилитам со стороны измаилитов египетских, явно не способных справиться со своими собственными трудностями и проблемами. Иранским измаилитам надлежало самим позаботиться о себе, не надеясь на помощь извне, от иноземных собратьев по вере.
Звездный час Хасана ибн-Саббаха еще не наступил. По возвращении из Миера в Иран, он провел почти десять лет в странствиях по родной стране, страстно, убедительно и с большим успехом проповедуя измаилитское учение. В ходе своих странствий молодой «даис» мог убедиться в могуществе сельджуков. Эти завладевшие Ираном воинственные тюрки были весьма многочисленны, обладали превосходными военными навыками и бойцовскими качествами. Вдобавок ко всему, сельджуки, как уже говорилось выше, были ярыми приверженцами суннитского течения в исламе. В сочетании эти качества сельджуков представляли собой огромную угрозу для измаилитского дела. Однако тюрки были слишком могущественны для того, чтобы измаилиты могли осмелиться помериться с ними силами в открытом бою. В случае открытого вооруженного столкновения победа, при подобном неравенстве сил, несомненно, осталась бы за сельджуками. Это прекрасно понимал Хасан ибн Саббах, остававшийся, несмотря на всю грандиозность своих планов, человеком сугубо практичным и трезвым, никогда не испытывавшим «головокружения от успехов». Странствуя по закабаленному сельджуками Ирану с проповедями и вербуя новых адептов измаилизма, он не прекращал размышлять о возможных путях к победе над сельджуками, к устранению сельджукской угрозы проповедуемому им «единственно верному учению».
Не приходится сомневаться в том, что, наряду с другими выдающимися качествами, Хасан обладал талантом прирожденного стратега и тактика. Понимая, что в неизбежной грядущей схватке с суннитами-сельджуками сила будет на их, а не на его стороне, Хасан обдумывал, какие средства, кроме военной силы, могли бы ему помочь уравнять шансы и исправить положение. Разъезжая с проповедями по Ирану, он попутно расширял свои познания о географии этой страны. Иран богат обширными равнинами, как бы самой природой предназначенными для действий многочисленной сельджукской конницы. Биться с сельджуками в равнинной местности, да еще при их подавляющем численном превосходстве, было бы для измаилитов равнозначным коллективному самоубийству.
Но было в Иране и много гористых областей. Построенные там в стратегически важных пунктах крепости и селения могли стать неприступными и недосягаемыми для сельджукских нападений. Трудность доступа к этим областям и трудности проникновения в них стала бы непреодолимым препятствием даже для многократно превосходящих сил сельджуков. В подобной природной среде численное превосходство не только оказалось бы сведенным на нет, но даже создало бы дополнительные трудности. Ибо необходимость кормить многочисленные войска вызывала бы огромные проблемы в области обеспечения бесперебойного продовольственного снабжения. С учетом всех этих обстоятельств, Хасан принял решение поднять восстание против династии Сельджуков. У него были основания для оптимизма и надежда обрести немало сторонников. Как уже говорилось, тюрки были суннитами, в то время как значительная часть населения Персии-Ирана придерживалась шиитской версии ислама. Однако оппозиционные настроения иранцев по отношению к сельджукам объяснялись не только и не столько религиозными разногласиями. Персия по праву могла гордиться своим великим во всех отношениях прошлым. Память о нем жила среди коренного, иранского, населения этой части Сельджукского султаната (формально продолжавшего считаться «арабским Багдадским халифатом»), вследствие чего это население всегда исповедовала ярко выраженный персидский, или иранский, «национализм», «религиозным оформлением» которого, собственно говоря, и стал распространенный в Иране шиизм. Поставив себе на потребу этот иранский «национализм», Хасан, поощряя и дополнительно подогревая и без того распространенные среди его паствы антитюркские настроения, учил внимающих ему иранцев, что «тюрки не из детей Адамовых происходят, а некоторые называют их джиннами (нечистыми духами, или по-нашему, по-русски – бесами – В. А.)». Кроме того, в иранских землях было сильно недовольство сложившимся экономическим и социальным положением, и персидские измаилиты, превратившиеся под руководством Хасана ибн-Саббаха в своеобразное «бесклассовое общество», без особого труда смогли добиться поддержки своего дела многими персами, причем не только исповедовавшими измаилизм.
Хасан решил избрать центром намеченного им «национал – революционного» восстания против ненавистной иранцам сельджукской власти район в сердце иранских гор, до которого сельджукам было бы трудно добраться, чтобы нанести повстанцам эффективный ответный удар. Он понимал, что в сложившейся обстановке, при вопиющем неравенстве сил, не мог рассчитывать на освобождение от тюркского господства всего Ирана (во всяком случае – сразу), и потому решил удовольствоваться – по крайней мере, на первых порах, установлением контроля хотя бы над труднодоступной частью Персии. Как еще убедится уважаемый читатель, это не означало, что Хасан не уделял в своих далеко идущих планах внимания иранским городам. Но он отдавал себе отчет в том, что главным источником силы возглавляемого им движения станут именно труднодоступные районы. Ибн Атташ был все еще жив и оставался главой всех измаилитских «даисов» Ирана. Нам неизвестно, одобрял ли он планы Хасана поднять восстание против господства Сельджукидов. Однако Хасан продолжал осуществлять задуманное, с одобрения главного «даиса», или без него. Первоочередное решение, которое ему предстояло принять, касалось места начала восстания. Затем надлежало решить, как именно осуществить задуманное. То, как он это сделал, не оставляет никаких сомнений в том, что Хасан обладал выдающимися организаторскими дарованиями, логическим мышлением, способностью использовать как сильные, так и слабые стороны своего положения. Избранный им способ и образ действия позволил ему в полной мере использовать первые и минимизировать вторые.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+48
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе