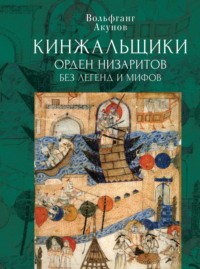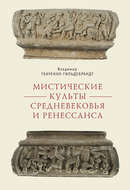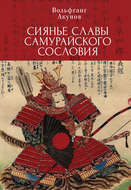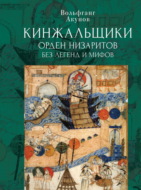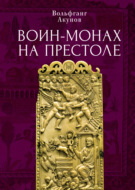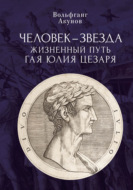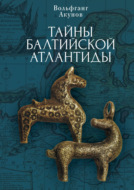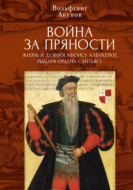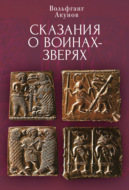Читать книгу: «Кинжальщики. Орден низаритов без легенд и мифов», страница 6
Данный вопиющий факт служит наглядным свидетельством существования к тому времени глубоких теологических конфликтов между разными течениями ислама. Не подлежит сомнению наличие определенных элементов, не удовлетворенных положением дел в исламском мире, и стремившихся, к восстановлению его прежней чистоты, или, выражаясь современным языком, к его «перезагрузке». Вне всякого сомнения, резня паломников и жителей, учиненная карматами в Мекке – месте зарождения ислама, потрясла многих других мусульман до глубины души. Чудовишная мекканская бойня дала анти-измаилитским пропагандистам очередной желанный повод к обвинению не только подлинных преступников и святотатцев – карматов, но и всех измаилитов в целом в заговоре с целью разрушения ислама. Подобные комментаторы происшедшего, возводя на всех измаилитов обвинения в убийствах, святотатствах и немыслимых кощунствах (вплоть до публичного мочеиспускания на похищенный ими священный черный камень), сознательно (скорее всего) игнорировали то обстоятельство, что карматы давно уже отделились от других измаилитских группировок. Между тем, самое вопиющее кощунство карматов (с точки зрения их противников) было еще впереди.
В 931 году возглавлявший карматов человек по имени Абу Тахир аль-Джаннаби, несший всю полноту ответственности за набег на Мекку, объявил, что якобы узнал «подлинного Махди» в некоем молодом иранце, незадолго перед тем прибывшем в Бахрейн (представлявший собой главную опорную базу карматов в описываемое время). Уже сам факт подобного утверждения красноречиво свидетельствует о том, что на тот момент карматы отнюдь не действовали рука об руку с магрибскими измаилитами из дома Фатимидов. Ибо Фатимиды утверждали, что их имамы ведут свое происхождение напрямую от Мухаммеда, и были вынуждены вести скрытое существование на протяжении длившихся долгие десятилетия гонений на измаилитов. И что в силу данного обстоятельства только Фатимиды являются истинными вождями ислама. Выдвинутое же карматами утверждение, будто они распознали «истинного Махди» в некоем никому не известном иранце, невозможно было расценивать никак иначе, чем открытый вызов притязаниям и авторитету Фатимидов.
Впрочем, провозглашение карматским лидером Абу Тахиром молодого иранца «истинным Махди» оказалось для карматов роковым. Очень скоро выяснилось, что они допустили серьезный просчет, сделав ставку явно не на того человека. Во-первых, якобы «опознанный» Абу Тахиром «истинный Махди» имел крайне необычные для мусульманина религиозные наклонности. В этом он, впрочем, не был одинок – к примеру, многие карматы увлекались астрологией и, узнав о конъюнкции, или соединении, планет Мустари (Юпитера) и Зухал (Сатурна), восприняли это небесное явление как предзнаменование грядущего великого события. Сохранились сведения о том, что новоявленный «Махди» – милостью Абу Тахира – проявлял большую склонность к почитанию огня, и что, следовательно, его мировоззрение уходило корнями в иранскую маздаяснийскую веру – зороастризм. Избранный по воле Абу Тахира «истинный Махди» проявлял все больше религиозных пристрастий, никак не могущих быть свойственными мусульманскому «спасителю-мессии». Сложившееся положение дополнительно осложнялась тем, что новый Махди либо страдал чрезмерной самоуверенностью, либо был напрочь лишен необходимых политическому деятелю талантов. В скором времени «истинный Махди» начал все активнее утверждать свое господство в той самой группировке, которая вручила ему власть. Ведущие деятели карматского руководства обвинялись им в совершении разного рода преступлений и подвергаться казни. Даже ближайшие родственники Абу Тахира лишились своей былой неприкосновенности. Осознав допущенную им роковую ошибку в выборе «ведомого праведным путем Аллаха», Абу Тахир решил покончить со своей оказавшейся столь непредсказуемой и вышедшей из-под его контроля марионеткой, отрешив ее от власти всего через восемьдесят дней после провозглашения «истинным Махди», а затем – и вовсе ликвидировав.
Все эти явно аномальные явления ясно показали, что движение измаилитов еще было способно порождать все новые ультрарадикальные группировки, невзирая на то, что лучшие дни карматов остались в прошлом. Хотя карматы продолжали контролировать Бахрейн и в новом веке, они оказывались во все большей изоляции и неуклонно теряли влияние в «дар-аль-исламе». При этом воинственность карматов невероятно возрастала. Путешественники XI века, посещавшие контролируемый карматами Бахрейн, замечали, что там практически не сохранилось мечетей, (в которых не постящиеся и не молящиеся Богу еретики-карматы якобы не видели никакого прока). Противники и критики «безбожных» карматов обвиняли их в том, что те якобы обмениваются не только своими вещами (у этих «уравнителей» все было общее), но и собственными женщинами, как неодушевленными предметами, осуществляя, таким образом, на практике пресловутый прицип «общности жен». В данной связи представляется необходимым подчеркнуть, что речь идет об XI веке, нравы которого были настолько суровы, что за прелюбодеяние могли просто-напросто забить камнями. А «горькая правда земли» (выражаясь словами нашего замечательного поэта поэта Сергея Александровича Есенина) заключалась в том, что для многих малоимущих мусульман, ввиду невозможности заплатить калым за невесту, женщины (или даже одна-единственная женщина) были прямо-таки недоступной роскошью (в отличие от визирей, эмиров, султанов, улемов и прочих счастливых обладателей золотых динаров, серебряных дирхемов и многочисленных гаремов). Кстати сказать, аналогичная ситуация существовала еще в доисламском Иране – Эраншахре, «Арийской державе» – при Сасанидах, вследствие чего тогдашний персидский революционер, маг-мобед (зоро-астрийский жрец) Маздак – первый засвидетельствованный в истории проповедник уравнительного коммунизма – требовал введения «общности жен» (то есть обобществления, или, выражаясь более современным языком, социализации женщин). Но это так, к слову… Вернемся к нашим карматам.
Ходили слухи о том, что карматские «безбожники», в ходе своих бесчисленных набегов, награбили за пределами зоны своего влияния столько богатств, что даже перестали взимать налоги с собственного населения – им и так всего хватало. Карматам приписывали экстремизм, как в религиозных верованиях, так и в половой жизни (носившей, якобы, совершенно беспорядочный характер, вплоть до промискуитета). Отголоски этих слухов о карматских «беззаконниках» повторялись позднее в обвинениях, выдвигаемых уже против низаритов.
По мере того, как звезда карматов клонилась к закату, шло возвышение магрибских Фатимидов. Их возвышению способствовал прогрессирующий упадок династии Аббасидов. К середине X века положение режима Аббасидов стало хуже некуда. Халифатом управляла целая череда правителей один слабей и ничтожней другого. Его все больше расшатывали социальные конфликты и экономические потрясения. Утрачивавшая реальную власть, династия Аббасидов доживала свои последние дни. В Багдаде в качестве носителя реальной власти, при сохранении номинального главенства аббасидского халифа, утвердилась династия Бундов (или Бувайхидов) – шиитов иранского происхождения, присвоивших себе наследственное звание верховных военачальников вооруженных сил Арабского халифата и иранский светский титул «шаханшах (шааншах) аль-азам» (по-арабски: «малик аль-мулук»), то есть «царь царей» («император»). Возвышение шиитов-Буидов ознаменовало собой конец реального правления, хотя и сильно иранизированных, но все-таки придерживавшихся суннитских верований, Аббасидов. По-прежнему считаясь, формально, верховным духовным и светским правителем, аббасидский халиф-суннит представлял собой в действительности всего лишь лишенную реальной власти марионетку, за ниточки которой дергали подлинные правители – Буиды-Бувайхиды. К тому же он был низведен до уровня креатуры шиитов, поддерживаемой только шиитской группировкой, а не большинством своих суннитских подданных-единоверцев. Так что положение последних халифов из дома Аббасидов было, прямо скажем, незавидным. Можно себе представить, насколько они были раздосадованы и разочарованы необходимостью влачить столь жалкое существование под зорким надзором иранцев-дейлемитов из династии Бундов…
Не в меньшей степени разочарованы и недовольны происходящим были и шиитские экстремисты. Для тех, кто стремился к торжеству воинствующего шиизма, большим ударом стало то обстоятельство, что Бунды поддержали багдадского халифа-суннита, даже лишенного реальных властных функций. Для этих шиитских радикалов, которые считали свой путь единственно истинным и воплощающим их духовные искания, главной мечтой было установление священного чистого шиитского режима; тем более к этому стремились и те, кто был неудовлетворен своей судьбой в силу социальных причин, и кто не собирался мириться с насквозь прогнившим режимом халифата. Единственной альтернативой суннизму стал радикальный измаилизм. Фактическое полновластие Бундов при их бессильной марионетке-Аббасиде еще более дискредитировало и без того уже пребывавший в состоянии глубокого упадка суннитский халифат. В то же время оттеснившая повелителя правоверных на задворки политической жизни, Буидская «шаханшахская» династия, в конце концов, расправилась с умеренными шиитами, усмотрев в них серьезных соперников, в том числе и в плане влияния на аббасидского халифа.
Тем временем в Ифрикии набирал силу режим измаилитов-Фатимидов. На протяжении первых десятилетий X века они несколько раз совершали вооруженные вторжения в Египет-Миср, но всякий раз терпели поражения. Однако магрибские халифы-Фатимиды не только мерились с Египтом силами в открытую, на поле боя, но и усердно плели в Миере свою агентурную сеть. Тайные агенты Фатимидов раздували среди египетского населения чувство недовольства, одновременно снабжая свое фатимидское руководство в Магрибе ценными сведениями о положении дел в соседней стране. Таким образом, в сфере подобной подпольной пропагандистской и агентурной деятельности пальма первенства отнюдь не принадлежала низаритам, которых в описываемое время еще попросту не существовало. Очередное возводимое на низаритов обвинение оказывается, при ближайшем рассмотрении, таким же ложным и несправедливым, как и предыдущие.
Окончательного триумфа Фатимиды добились после прихода к власти четвертого измаилитского халифа по имени Абу Тамим Мадд аль-Муизз Лидиниллах. Величайшим из его военачальников был человек иноземного происхождения по имени Джавхар аль-Руми (то есть «румиец», «ромей», «византиец»), или ас-Сикилли (что значит «сицилиец»). В 969 году Джавхар, (привезенный в свое время в Ифрикию с отнятой мусульманами у ромеев Сицилии в качестве раба, обратившийся в ислам и сделавший у «агарян» блестящую военную карьеру), преодолев пустыню, вторгся в Миер во главе стотысячного войска. Войска тюркской династии, правившей Миером, но чуждой по происхождению местному населению, были разгромлены близ древнего города Фустата, и скоро весь Египет оказался завоеванным экспедиционным корпусом лучшего полководца Фатимидов. Джавхар ас-Сикилли привез с собою в покоренный Миер план нового города, который был заложен им неподалеку от Фустата на Ниле. Этот новый город, возведенный посреди песчаного плоскогорья и получивший название «аль-Кахира», то есть «Победоносный», снискал себе известность во «франкском» мире под искаженным названием «Каир» (или «Вавилон»).
Триумф измаилитов-Фатимидов над Миером был окончательно завершен и закреплен в 973 году, когда халиф аль-Муизз вступил в новый город аль-Кахиру, дабы в нем воцариться. С собой халиф привез не только колоссальные богатства для подкупа своих новых, египетских подданных, но и гробы своих предков, которых намеревался перезахоронить в «стране пирамид». Он учредил немало учебных заведений, включая высшее религиозное училище под названием аль-Азхар, претендующее на звание первого в мире университета и существующее в Египте по сей день. Казалось, что претворяются в жизнь давние притязания Фатимидов на гегемонию над всем «дар-аль-исламом». Похоже, не было в мире силы, достаточно мощной, чтобы воспрепятствовать измаилитским халифам Магриба и Миера идти поистине семимильными шагами к этой заветной цели…
Но так только казалось со стороны. В действительности их гегемонистские расчеты во многих отношениях не оправдались. Немало представителей шиитской правящей касты Магриба перебралось, вслед за фатимидскими халифами, в Миер. Многие из магрибских подданных Фатимидов по-прежнему сохраняли дух независимости и готовность, при удобном случае, доказать свое свободолюбие на деле. Переселившись из Магриба, закрепившись в Миере и начав уделять основное внимание восточным делам, Фатимиды стали довольно быстро утрачивать контроль над подвластными им западными, магрибскими областями. Но и осуществление планов задуманного Фатимидами подчинения их власти отдаленных от Миера областей Востока сталкивалось со все большими трудностями. Карматы-«уравнители» (хотя апогей их могущества остался в прошлом) по-прежнему были влиятельной силой, имевшей мало общего с Фатимидами и с интересами последних (что лишний раз доказывает неверность утверждений об их идентичности и взаимной поддержке). Вследствие ожесточенных боестолкновений с карматскими радикалами, Фатимиды решили воздержаться от проникновения в центральные области Ирака и Ирана.
Вполне естественно, буидские «шаханшахи» также не были намерены отказаться без сопротивления от своих завоеванных в ходу упорной борьбы позиций в Ираке. Буиды-Бувайхиды были шиитами умеренного, «двенадцатеричного» толка, и потому – «естественными» противниками измаилитов-Фатимидов. Бунды были, несомненно, могущественными и амбициозными властителями, не мыслившими об отказе от подчиненных им областей в пользу соперничавшей с ними, да еще измаилитской, династии Фатимидов. На севере оправившаяся от поражений православная Ромейская Василия, переживавшая период очередного возрождения своего военно-политического могущества, наступивший после предыдущего многолетнего периода упадка, энергично противилась попыткам Фатимидов расширить зону своего влияния в северном направлении. И потому Фатимиды, чьи «даисы», высланные во все концы земли проповедовать «благую весть», проникали даже далеко на восток, добиваясь определенных успехов в создании во многих районах этих отдаленных земель отдельных «очагов измаилизма» (впрочем, достаточно изолированных), ощущали себя зажатыми, как в железные тиски, между «безбожными» карматами, «двунадесятниками»-Бундами и «многобожниками»-ромеями. Дальнейшему расширению фатимидекой державы препятствовал целый ряд реальных и потенциальных противников, обладавших, как по отдельности, так и вместе взятые, внушительной военно-политической мощью.
Апогея своего военно-политического могущества измаилитский халифат Фатимидов достиг в конце X века, при халифе аль-Азизе Биллахе. В годы своего правления этот халиф проявлял большую религиозную терпимость по отношению к проживавшим в его владениях христианам. Возможно, эта терпимость к христианам объяснялась тем, что аль-Азиз был женат на христианке. Под его властью христиане могли делать успешную служебную карьеру, достигая самых высоких должностей. Что наверняка вызывало недовольство некоторых подданных религиозно терпимого халифа, исповедовавших мусульманскую веру. Но, с другой стороны, Миер под фатимидской властью превратился в процветающую и богатую страну с высоким уровнем благосостояния, невиданного египтянами со времен Античности. Александрия (или, по-арабски, аль-Искандария) снова превратилась в один из величайших портовых городов Средиземноморья. К тому же к описываемому времени наметилась тенденция перемещения основных торговых путей с прежнего, сухопутного направления, через Ирак, к Красному морю и Миеру, что шло на пользу Фатимидам, а не суннитским правителям, упускавшим торговую выгоду, получаемую ими прежде. Росту благосостояния фатимидского Миера, в решающей степени, способствовало создание им мощного и многочисленного флота, являвшееся одной из главных целей династии Фатимидов, начиная с самых ранних лет ее правления. Наличие такого флота позволило Фатимидам завладеть островом Сицилией, отнятым египетскими измаилитами у Ромейской Василии. Базируясь на Сицилии и в других изолированных анклавах – например, на части средиземноморского побережья, принадлежащей ныне Франции – мусульманские морские разбойники на протяжении длительного времени беспокоили своих христианских соседей, постоянно становившихся жертвами грабительских набегов египетских пиратов.
В силу всех этих факторов, в руках Фатимидов скапливалось все больше богатств. Однако некоторые особенности, или аспекты, правления халифа аль-Азиза создали, вместе взятые, после его смерти, немалые сложности и трудности его наследникам. Подобно аббасидским халифам-суннитам Багдада, аль-Азиз стал набирать в свое войско тюрок – прирожденных воинов, воинственных, строптивых и свободолюбивых, в скором времени начавших конфликтовать с берберами, отличавшимися аналогичными качествами и составлявшими до тех пор основное ядро вооруженных сил фатимидских халифов. Вскоре между находившимися на службе у Фатимидов тюркскими и берберскими воинами стали вспыхивать вооруженные конфликты, положившие начало процессу разложения вооруженных сил измаилитского халифа Миера. В то же время религиозная терпимость аль-Азиза, хоть и сблизила его со своими христианскими подданными, вызывала все возрастающее недовольство подданных мусульманских. Сын аль-Азиза, принявший, после смерти своего отца-«либерала», бразды правления и «тронное» имя аль-Хаким (под которым он и вошел в историю), став халифом, внес немалое смятение в фатимидский мир. Если верить сохранившимся источникам, этот «безумный халиф» Абу Али Мансур ибн аль-Азиз аль-Хаким би-Амр Аллах (таково было его полное имя) как будто старался свести на нет итоги предыдущего правления и уничтожить все плоды либерального и толерантного курса своего отца.
На момент смерти фатимидского халифа аль-Азиза в 996 году, его сыну было всего одиннадцать лет. В столь юном возрасте мальчик, естественно, не в состоянии был исполнять обязанности халифа. И потому визирь – глава правительства – скопец (кастрат, каженник, евнух) Барджаван (родом, подобно Джавхару аль-Руми – христианский раб с Сицилии, принявший ислам в его шиитской форме) взял на себя все тяготы правления вплоть до момента достижения мальчиком возраста, позволявшего ему править самостоятельно. Визирь Барджаван был жестоким, властным и высокомерным человеком, с нескрываемым презрением относившимся как к малолетнему халифу, так и к подданным последнего. Он прилюдно называл аль-Хакима «ящерицей» и пользовался любым предоставлявшимся ему поводом унизить юного халифа. Подобными действиями всемогущий евнух, сам того не зная, готовил себе незавидную участь, фактически заранее подписывая себе смертный приговор, ибо халиф помнил все нанесенные ему с детства обиды и со временем превратился в человека, весьма опасного для всех своих обидчиков и недоброжелателей.
Достигнув подросткового возраста, аль-Хаким организовал дворцовый переворот, давший ему реальную власть, и покарал всех, кто «мыслил о нем злое». Одной из первых жертв переворота стал зловредный визирь Барджаван, заколотый кинжалом в халифском саду. Дошедшие до нас сведения о дальнейших годах правления аль-Хакима кажутся во многом сомнительными и недостоверными, хотя известно, что он стал фигурой, сыгравшей важную роль в развития измаилизма. Новый фатимидский халиф представлялся современникам мрачной и зловещей личностью. Он нажил себе множество врагов и фактически предрешил своей судьбой и своим поведением грядущее неизбежное падение Фатимидской династии. После ее свержения, многие успехи и достижения Фатимидов стали сознательно замалчиваться, история их правления – переписываться. Большинство дошедших до нас сведений о Фатимидах были сообщены потомству историками, откровенно враждебными Фатимидам и вообще измаилитам. В особенности это относится к фигуре аль-Хакима, ошельмованного своими недоброжелателями как «безумец на престоле». Большинство из того, что нам известно об аль-Хакиме, вышло из-под пера представителей религиозных кругов, негативно, а то и с откровенной, неприкрытой ненавистью относившихся к нему и ко всему, что он делал и во что верил. Поэтому необходимо с крайней осторожностью относиться к тому, что было написано о «безумном халифе» представителями этих непримиримых в своей ненависти к нему и к его памяти кругов.
С учетом всех этих оговорок, аль-Хаким, невзирая на возведенные на него ненавистниками наветы, представляется, несомненно, неординарной личностью с сильным характером. Стремясь компенсировать ущерб, причиненный, по мнению молодого халифа, истинной вере и единству «уммы» его чрезмерно «либеральным» отцом, аль-Хаким явно «перегнул палку» своей религиозной политики в противоположном направлении. Христиане и другие «гяуры»-иноверцы были подвергнуты унизительным ограничениям (хотя одной из характерных особенностей «безумного халифа» стало периодическое чередование периодов гонений на инаковерующих с периодами проявления к «кафирам» относительной терпимости). Желая повсеместно внедрить принципы строгой исламской морали, Хаким, если верить некоторым источникам, якобы, переодевшись нищим, бродил ночами по улицам столицы Миера, подслушивая разговоры своих подданных, чтобы уличить их в несогласии с данными им установками и в нарушении таковых (впрочем, подобное поведение приписывали еще аббасидскому халифу Харуну ар-Рашиду – другу правителя франков Карла Великого, а до него – древним римским императорам Гаю Калигуле и Клавдию Нерону). Уличенных в нарушении установленных халифом правил праведной и благочестивой жизни (особенно женщин нескромного поведения) ожидали суровые кары. Запрещалось пить вино, уничтожались виноградники. Все чаще заключались под стражу и предавались жестоким казням признанные виновными в «неблагочестии» представители высшего сословия. Постепенно весь Миер погрузился во мрак государственного террора.
Наведя, по его мнению, порядок среди своих подданных-мусульман, аль-Хаким в 1009 году взялся за христиан. И совершил нечто, воспринятое всеми христианами как крайняя степень кощунства и нечестия, обрушив свой гнев на главную святыню Иерусалима – Храм Святого Живоносного Гроба Господня, возведенный на месте упокоения Иисуса Христа и потому почитаемый всем Христианским миром. Стремясь продемонстрировать всему свету неоспоримое превосходство ислама над верой «назареев», аль-Хаким повелел снести церковь Гроба Господня до основания. Христианский мир был вне себя от возмущения и праведного гнева. В предшествующие годы Ромейской Василии удалось установить с Фатимидским халифатом хорошие отношения, но с осквернением Гроба Господня аль-Хакимом ситуация резко ухудшилась. Отношения между двумя державами стали более чем прохладными. В результате аль-Хаким оказался вынужденным умерить свой религиозный пыл. Однако в период его правления произошли и иные события, приведшие на этот раз к очередному разделению измаилитского движения. В 1017 году группа неких старцев-шейхов – людей святой жизни – прибыла в Миер из Ливана. В своих проповедях эти люди заявляли, что аль-Хаким – не просто святой человек, как они, но и поистине божественная личность. Подобные заявления представлялись многим подданным аль-Хакима кощунственными. И, хотя «безумный халиф» никогда не выражал публично свое согласие с проповедуемым пришельцами в Миер из Ливана явно еретическим учением, включая утверждение о его, халифа, божественности, сам факт подобной проповеди, вероятно, не мог не возмутить, по крайней мере, часть подданных аль-Хакима.
На улицах Каира вспыхнули направленные против нового учения беспорядки. Главный проповедник кощунственной ереси – Мухаммед ибн Исмаил Наштакина ад-Дарази – был вынужден, спасая свою жизнь от возмущенных египтян, бежать обратно в свой родной Ливан. Тем не менее, аль-Хаким был обречен на гибель. Как-то он по своей давней привычке решил прогуляться в полном одиночестве по улицам ночного аль-Кахиры (или выехал за город) и пропал без вести. Больше никто его никогда не видел и ничего о нем не слышал. Исчезновение «безумного халифа» произошло в 1021 году. Вероятнее всего, он был убит (как утверждал, в частности, Джувейни), но труп его так и не был найден, что дало почву для появления и распространения самых невероятных слухов. Между тем еретик Дарази, спасшийся бегством из Египта, укрылся со своими последователями в Ливанских горах. Его последователи, названные в честь него «друзами» верили и утверждали, что аль-Хаким «скрылся из вида», ушел из мира сего в мир иной, мир оккультный, скрытый, мир потусторонний. Что он вовсе не умер, но непременно вновь явит себя меру сему, когда настанет предназначенный для этого день, став провозвестником конца света. Короче, что аль-Хаким стал из «открытого» имама вновь имамом «скрытым», со всеми вытекающими из этой трансформации последствиями. Основанная Дарази секта «друзов» (именовавших себя «мувахиддун» – «единобожники», или «ахль ат-таухид»– «люди единобожия», широко практиковавших такийю и веривших, в частности, в переселение душ) была крайне засекреченным сообществом (весьма сходным, в плане этой своей крайней засекреченности, с будущим братством низаритов), чьи учение и верования хранились ее членами в строжайшей тайне от «внешнего» мира. Но важность феномена друзов заключается еще и в том, что их возникновение стало очередным примером схизмы, расколовшей как исламский мир вообще, так и мир измаилитский – в частности, в большей степени, чем схизмы, разделявшие «умму» в ранние годы ислама.
А также внесли путаницу в представления историков, как современников «друзского раскола», так и живших позднее, многие из которых даже путали и смешивали друзов с низаритами.
Однако одними только друзами дело не кончилось. В правление аль-Хакима продолжали возникать все новые «неправильные» измаилитские течения. Измаилитское движение все больше утрачивало единство и сплоченность. Споры между его толками шли, например, вокруг явного противоречия. Как можно было примирить эзотерическую, скрытую («батин») природу измаилитской веры, ее доктрину о скрытом для «непосвященных» содержании священного Корана, и факт «скрытого» существования измаилитского имамата, с сохранением цепи имамской преемственности, на протяжении столь продолжительного времени – последних десятилетий VIII и всего IX века, безо всяких доказательств, должного восприниматься исключительно на веру – ставил под сомнение возможность подтвердить его истинность посредством разума, а не подобной слепой и нерассуждающей веры. Многие измаилиты отказывались признавать истинность происхождения Фатимидов от Али ибн Абу Талиба и, соответственно, законность их халифской власти. Ситуация усугублялась тем, что Фатимиды никогда не пользовались широким признанием в землях, составлявших самое «сердце», самое «ядро» мусульманского мира – например, в Ираке и Иране – причем, даже признанием существовавших в этих землях полулегально или нелегально измаилитских общин. В силу всех этих причин власть Фатимидов, несмотря на все их притязания, никогда не была верховной, общепризнанной и абсолютной.
Тем не менее, в годы правления непосредственных преемников «безумного халифа» аль-Хакима казалось, что великая мечта Фатимидов близка к осуществлению, как никогда. В 1058 году сам Багдад – гордая столица Аббасидов – оказался во власти тюркского военачальника, симпатизировавшего измаилитскому делу, и большую часть указанного года город – по крайней мере, номинально – принадлежал измаилитам. Однако этот успех оказался временным. Багдад всегда был, прежде всего, суннитским (проживавшей в его стенах шиитской общине, временами удавалось жить в относительной гармонии с суннитским большинством жителей столицы Аббасидов, однако такие периоды мирного существования часто прерывались периодами гонений на шиитов), и факт принятия узким правящим слоем шиитского вероисповедания не имел особого значения для основной массы жителей Багдада.
Между тем, в жизнь исламского мира властно вступила новая, могущественная сила. Точнее говоря, могущественная сила, присутствовавшая в «дар-аль-исламе» уже на протяжении столетий, приобрела в исламском мире столь большое значение, которого до тех пор не имела. Это были уже упоминавшиеся нами ранее тюрки. Первые исторические свидетельства о тюрках датируются VI веком (китайские историки упоминали их и ранее, но тюркско-китайские отношения выходят за рамки нашего правдивого повествования). Было бы слишком упрощенно говорить о тюрках как о едином народе. Они состояли из множества отдельных племен, обладавших как некоторыми общими чертами, так и различиями. Однако эти общие всем тюркским племенам черты представляются достойными особого упоминания. Все тюркские племена были коневодческими и кочевыми. Кроме того, все тюрки были, как правило, гордыми, упрямыми, своевольными и свободолюбивыми людьми, отличавшимися независимым образом мышления, с детства привыкшими к коню и оружию, любившими и умевшими воевать. Многие тюрки охотно нанимались на военную службу к чужеземным правителям, втягиваясь, вследствие этого, в политическую жизнь мусульманского мира. Еще в 866 году тюркские наемники, взяв Багдад, сменили бывшего им не по нраву аббасидского халифа на другого Аббасида, своего ставленника. Этот совершенный служилыми тюрками переворот даже дал некоторым авторам основание датировать 866 годом конец господства собственно арабов над «Арабским» халифатом. Автор настоящего правдивого повествования уже кратко упоминал присутствие тюрок в Миере, но они активно втягивались и в события, происходившие в иных частях «дар-аль-ислама», включая Ирак и Иран. Мало того, тюркское влияние распространилось и гораздо дальше – вплоть до границ полусказочной Индии. Одним из тюркских племен, или племенных союзов, занявшим наиболее выдающееся положение, были сельджуки (известные также под неточным названием «турок-сельджуков»). В середине X века многие из сельджуков, традиционно исповедовавшие шаманизм (или, иными словами, поклонявшиеся силам природы) приняли ислам. Подобно всем неофитам, независимо от племенной принадлежности, сельджуки стали рьяными и истовыми приверженцами своей новой веры (хотя
Начислим
+48
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе