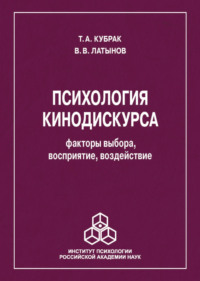Читать книгу: «Психология кинодискурса: факторы выбора, восприятие, воздействие», страница 2
По мнению С. Болл-Рокич и М. ДеФлюер, можно говорить о когнитивных, эмоциональных и поведенческих результатах воздействия массмедийного дискурса. В частности, к когнитивным результатам воздействия относятся:
– снижение неопределенности; в данном случае СМИ выступают источником дополнительной информации, что позволяет добиться лучшего понимания новых и неоднозначных явлений;
– формирование установок, т. е. системы когнитивных, эмоциональных и поведенческих реакций в отношении объектов внешней среды (социальных, политических и др.);
– задание спектра обсуждаемых людьми тем;
– распространение новых систем мнений (идеологических, политических, религиозных, экономических и др.);
– уточнение ценностных ориентаций населения. Этот эффект возникает следующим образом. Допустим, телевидение сообщает о наличии в обществе конфликта некоторых систем ценностей, например, в области гражданских прав. В подобной ситуации зрителям приходится занять по данному вопросу определенную позицию и, следовательно, уточнить собственные взгляды.
Воздействие массовой коммуникации на эмоциональную сферу приводит к появлению у людей страха, тревоги, отчуждения. Влияние на поведение людей осуществляется по линии как провоцирования тех или иных действий, так и торможения, прекращения некоторых действий.
Говоря о теориях сильного эффекта, нельзя не упомянуть о культивационной теории массовой коммуникации (Gerbner et al., 1986). В рамках этой теории массмедийный дискурс рассматривается не с точки зрения его воздействия на конкретные формы поведения и установки людей, но скорее в отношении того, какой образ социальной реальности он у них формирует. По мнению Дж. Гербнера, СМИ, прежде всего телевидение, способствуя усвоению общепринятых ценностей, норм и форм поведения, выступают в качестве средства сохранения сложившихся общественных отношений. Создаваемая массмедиа условная, вымышленная реальность, начиная воздействовать на человека почти с самого рождения, сопровождает его на протяжении всей жизни. Ее воздействие на психику современных людей глубоко и всесторонне.
Основная гипотеза культивационной теории состоит в следующем: чем больше человек смотрит телевизор, тем ближе его представления о социальной реальности транслируемому телевидением образу мира. Как правило, в ходе эмпирических исследований, направленных на обоснование культивационной теории, сравнивались три показателя: частота упоминания некоторого события в СМИ (например, преступления, при котором жертва не знакома с преступником), реальная частота встречаемости подобного события в жизни людей и мнения массмедийной аудитории по поводу встречаемости этого события.
Было установлено, что заядлые «телеманы» более недоверчивы и подозрительны, а также считают мир плохим и полным опасностей (Gerbner et al., 1986). Кроме того, активные телезрители преувеличивают как масштабы преступности в обществе, так и вероятность того, что они сами могут стать жертвами преступления. Эти результаты, изначально полученные на американской выборке, в дальнейшем были подтверждены в работах ученых других стран (Западной Европы, Азии, Латинской Америки) (Signorelli, Morgan, 1990; Yang et al., 2008).
Исследования, выполненные в русле культивационной теории, свидетельствуют о том, что массовая коммуникация оказывает определенное, хотя и не очень выраженное, воздействие на восприятие человеком социальной реальности. Так, Р. Хавкинс и С. Пингри, проанализировав результаты 41 исследования, приходят к выводу, что существует определенная взаимосвязь между транслируемым СМИ образом реальности и представлениями о ней людей (Hawkins, Pingree, 1981). Еще один метаанализ, проведенный М. Морганом и Дж. Шанаханом, привел к сходным выводам: имеет место постоянный и статистически значимый культивационный эффект от просмотра телевидения (Morgan, Shanahan, 1997). Хотя этот эффект и не велик, однако его нельзя считать социально незначимым.
К одному из существеннейших эффектов воздействия массовой коммуникации Дж. Гербнер относит индуцирование страха перед силой власти и общественного порядка. По мнению Дж. Гербнера, это достигается посредством частого показа по телевидению сцен насилия и агрессии. По мнению большинства ученых, такие широкие масштабы телеагрессии выступают в качестве провоцирующего фактора агрессивного поведения в реальной жизни (Anderson et al., 2003; Huesmann et al., 2003). В отличие от них Дж. Гербнер утверждал, не отрицая и индуцирующего влияния телеагрессии на агрессивность, что она вызывает у людей еще и чувство страха. Страх, как считает Дж. Гербнер, неразрывно связан с пассивностью и конформизмом в отношении существующей социальной системы. Чувство страха возникает чаще всего у тех телезрителей, которые проводят у экрана более четырех часов в день. Способствуют его появлению также недостаток образования, психическая неуравновешенность, малоподвижный образ жизни.
Теория культивации Дж. Гербнера с момента своего появления вызывала оживленную полемику в научных кругах. Наряду с позитивными оценками теории высказывались и многочисленные критические замечания. Можно выделить четыре основные претензии к этой теории со стороны критиков:
– Нефальсифицируемость. П. Хирш (1980) указывал на то, что теория культивации может объяснять как появление некоторого феномена, так и его отсутствие, значит, является неопровержимой (Hirsh, 1980).
– Ошибочность представлений о причинно-следственных связях изучаемых переменных. Данные о значимых корреляциях между вовлеченностью человека в массмедийный дискурс и его установками не обязательно свидетельствуют о наличии воздействия массовой коммуникации на психику. Следует принимать в расчет и другие возможные варианты объяснения: действие некоторой третьей переменной, влияние установок на выбор сообщений СМИ.
– Неточность измерения содержания сообщений СМИ. В силу того что содержание массовой коммуникации очень разнообразно, недостаточно просто фиксировать время, которое человек тратит на просмотр телевизора или чтение газет. Как известно, именно этот методический прием часто использовался при изучении культивационных эффектов. Необходимо более дифференцированно подходить к анализу содержания коммуникации, используя, в частности, такой метод, как контент-анализ (Potter, Chang, 1990).
– Игнорирование различий в длительности просмотра телепередач, частоте чтения газет и т. п. Критики данной теории считают, что необходимо исследовать культивационные эффекты не для всей аудитории в целом, а для отдельных групп зрителей, различающихся по тем или иным параметрам (времени просмотра, социальным и психологическим характеристикам) (Cohen, Weimann, 2000).
Вышеуказанные критические замечания признаются справедливыми большинством сторонников культивационной теории. При этом речь идет не просто о формальном признании, а об учете высказанных замечаний при планировании эмпирических исследований. Так, А. Хетстрони и Р. Тукачински, совершенствуя обсуждаемую теорию, предложили оригинальную типологию культивационных эффектов, а также выделили факторы, благоприятствующие возникновению того или иного вида эффектов (Hetstroni, Tukachinski, 2006).
В настоящее время культивационная теория продолжает активно развиваться (Morgan, 2009; Shrum et al., 2011; Yang et al., 2015). Исследуются культивационные эффекты в отношении таких аспектов социальной реальности, как образ врага (Quick, 2009), установки по отношению к косметической хирургии (Nabi, 2009), отношение к психическому здоровью (Diefenbach, West, 2007). Было выявлено, что культивационные эффекты могут порождаться не только СМИ, но и компьютерными играми. Д. Вильямс показал, что после одного месяца постоянных занятий игрой агрессивного содержания испытуемые существенно изменили свои оценки частоты встречаемости определенных типов преступлений в реальном мире (Williams, 2006). Следует отметить, что оценки изменились только в отношении тех преступных проявлений, которые имели место в виртуальном мире.
Ученые – сторонники культивационной теории – стремятся не просто зафиксировать факт психологического воздействия массмедийного дискурса, но и выявить переменные, влияющие на выраженность культивационных эффектов. Перечень такого рода промежуточных переменных оказался весьма широк: наличие личного опыта, связанного с преступностью; степень субъективной реалистичности телевизионного содержания; глубина идентификации с телевизионными героями; уровень интеллекта и др. (Nabi, Riddle, 2008; Russell, Russell, 2018). Так, например, оказалось, что более важную роль в плане результативности воздействия массовой коммуникации играет время, затрачиваемое на просмотр программ определенного жанра, а не общее время просмотра телевизионных программ (Potter, Chang, 1990). Для человека, который смотрит телевизор 20 часов в неделю (все это время детективные сериалы), культивационный эффект (например, появление неадекватных оценок уровня преступности) будет более выражен по сравнению с человеком, посвящающим телевидению 80 часов в неделю (в том числе детективным сериалам те же 20 часов).
Определенную роль в порождении культивационных эффектов играют и личностные особенности человека. Р. Наби и К. Риддл, исследуя влияние на выраженность культивационных эффектов таких черт личности, как тревожность, психотизм и поиск стимуляции, обнаружили, что наиболее подвержены воздействию массовой коммуникации нетревожные и ориентированные на поиск стимуляции люди (Nabi, Riddle, 2008).
При измерении величины культивационного эффекта значение имеет даже такая, на первый взгляд несущественная переменная, как когнитивная установка человека – участника исследования (Shrum, 2001). В ситуации ответа на вопросы анкеты он может быть ориентирован либо на использование эвристик (т. е. простых правил, сокращающих время, однако порождающих далеко не оптимальные решения задачи), либо на систематический и вдумчивый подход к поставленной задаче. Как оказалось, если исследования по выявлению культивационных эффектов проводились в форме телефонного опроса (а значит, действовал фактор дефицита времени, побуждающий человека к использованию эвристик), то величина эффекта оказывалась выше по сравнению с исследованиями, основанными на полученных по почте данных (в этом случае дефицит времени отсутствовал, что позволяло респондентам проводить систематический анализ релевантной информации).
Ученые стремятся выявить психологические механизмы, вызывающие культивационные эффекты (Morgan, Shanahan, 2010; Shrum, 2009). Согласно предложенной Ю. Ван Евра (2004) многофакторной модели культивации, в качестве важных факторов, влияющих на выраженность культивационных эффектов, выступают мотивация выбора человеком конкретного СМИ, субъективная реальность массмедийного содержания, количество альтернативных источников информации, длительность обращения к СМИ (Van Evra, 2004).
По мнению этого автора, максимальный культивационный эффект достигается в том случае, когда обращение к СМИ побуждается потребностью в информации, отсутствуют альтернативные источники информации, а человек верит в реальность массмедийной «картинки» и много времени уделяет СМИ.
Говоря о работах, ориентированных на анализ механизмов психологического воздействия массовой коммуникации, следует упомянуть и теорию транспортации (Green, Brock, 2000; Green, Clark, 2013). Эта теория была разработана именно с целью объяснения воздействия на психику человека нарративов – художественных произведений в печатной и аудиовизуальной форме. Существительное «транспортация» является «калькой» английского слова «transportation» (от глагола «transport» – увлекать, приводить в состояние восторга, ужаса и пр.). Транспортация представляет собой особое состояние погруженности в мир художественного произведения, характеризующееся сдвигом фокуса внимания от реального мира к миру нарратива, появлением образов и эмоциональных реакций, связанных с изображенной в произведении реальностью.
Для выяснения того, в какой степени человек оказывается погруженным в мир нарратива, разработаны специальные методики (Busselle, Bilandzic, 2009; Green, Brock, 2000). Активно изучаются различные детерминанты и корреляты состояния транспортации (Bezdek, Gerrig, 2017; Green, 2004; Hall, Zwarun, 2012). Так, М. Грин с соавт. исследовали роль такой личностной характеристики, как потребность в познании (need for cognition) в качестве коррелята состояния транспортации (Green et al., 2008). Потребность в познании – это стабильная индивидуальная особенность, проявляющаяся в ориентации человека на тщательный и подробный анализ поступающей к нему информации (Cacioppo, Petty, 1982). Было обнаружено, что люди с высокой потребностью в познании оказались более погруженными в мир художественного произведения при его чтении, а люди с низкой потребностью в познании – при просмотре его экранизации.
Как показали исследования, художественные произведения не только способны вызывать кратковременные изменения установок и представлений людей (Green et al., 2008; Van Laer et al., 2014), но и приводить к более устойчивым психологическим трансформациям (Appel, 2008). В ряде случаев при изучении эффектов воздействия такого рода произведений имеет место «эффект спящего», при котором эффект от психологического воздействия с течением времени не ослабевает, а напротив, становится более выраженным (Appel, Richter, 2007).
Как мы видим, в последние три десятилетия в рамках парадигмы сильного эффекта воздействия СМИ появилось значительное количество теорий и эмпирических исследований (Латынов, 2013; Матвеева и др., 2004). Был накоплен большой массив данных, касающихся эффектов воздействия массовой коммуникации, их механизмов и закономерностей.
В заключение кратко сформулируем нашу позицию по проблеме результативности воздействия массовой коммуникации. Прежде всего отметим, что наши представления по данному вопросу в значительной степени базируется на данных эмпирических исследований. Подобная эмпирическая ориентация в данном случае позволяет шире и уверенней смотреть на проблему, не боясь оказаться в плену эффектной, но недостаточно обоснованной теории.
По нашему мнению, создание одной-единственной теории, объясняющей психологическое воздействие массмедийного дискурса, вряд ли возможно. Дело в том, что человек, живя в обществе, наряду с воздействием сообщений СМИ подвергается и массе других (также социальных по сути) воздействий. Так, на развитие агрессивности у детей влияют, кроме просмотра актов агрессии по телевидению, многие другие факторы (характер отношений в семье, статус ребенка в классе и др.). На формирование его политических представлений, помимо СМИ, влияют мнения сверстников, родных, знакомых, разнообразные слухи и даже особенности личности самого подростка. Взаимовлияние и взаимодействие всех этих факторов крайне сложно, выявить единый механизм их воздействия на чувства, мысли и поступки человека практически невозможно.
Именно поэтому современные теории в лучшем случае могут объяснить лишь ограниченный круг феноменов. Как правило, это феномены, на основании анализа которых и была создана та или иная теория, прежде чем превратиться (по воле самого автора или его сторонников) в подход, ориентированный на понимание механизмов воздействия массовой коммуникации в целом. В качестве примера можно назвать теории Э. Ноэль-Нойман и П. Лазарсфельда, созданные посредством обобщения закономерностей влияния массовой коммуникации на поведение людей в условиях предвыборных кампаний, а также теорию задания спектра обсуждаемых тем, основанную на сравнении результатов опросов по поводу значимости общенациональных проблем и массированности их освещения в СМИ.
Существенную роль с точки зрения оценки эффективности психологического воздействия массовой коммуникации играет глубина погруженности человека в информационный поток. Эмпирически установлена следующая закономерность: при низкой и средней степени включенности людей (измеряемой количеством времени, затрачиваемого на просмотр, чтение, прослушивание материалов СМИ) в массмедийный дискурс его воздействие на их мнения, оценки и действия, как правило, незначительно (Morgan, 2009; Shrum, 2009; Wimmer, Dominick, 2009). Однако в отношении тех людей, которых трудно оторвать от телевизора, газет или радио, наблюдается скачкообразное возрастание эффективности воздействия массовой коммуникации.
Следует отметить, что результативность воздействия массмедийного дискурса во многом определяется тем, на какую область человеческой психики оно направлено. Когнитивные, эмоциональные и поведенческие структуры индивида обладают различной «податливостью» воздействию дискурса СМИ. Как правило, труднее изменить поведение человека, нежели его мнения и оценки. Однако в отношении агрессивного поведения имеются достоверные свидетельства влияния показа насилия на проявление реальной агрессивности. Этот феномен связан в основном с наличием значительного потока агрессивных по содержанию телепередач, обрушивающихся на аудиторию. В отношении же просоциального, «помогающего» поведения свидетельств воздействия «гуманистических» материалов СМИ гораздо меньше – слишком низок их удельный вес в структуре вещания.
2. Психологические эффекты воздействия дискурса массмедиа
Выше проблема эффективности воздействия массмедийного дискурса рассматривалась преимущественно в теоретическом аспекте: анализу подвергались основные подходы к ее решению. Настоящая же глава будет посвящена изложению результатов конкретных эмпирических исследований по данной теме. Количество подобных работ в современной науке огромно. Поэтому, не пытаясь объять необъятное, мы сконцентрируемся главным образом на тех из них, социальная значимость которых наиболее высока.
Массмедийный дискурс и политическое сознание
Дискурс массмедиа – феномен, буквально пронизывающий все стороны жизни современного общества и воздействующий на психику человека самыми разнообразными способами. Поскольку значительную часть сообщений СМИ составляют материалы о политике, а личного опыта в этих областях у большинства людей мало, то обнаруживается сильная зависимость их мнений от политической коммуникации (Dimitrova et al., 2014; Meffert et al., 2006). В настоящее время потенциал воздействия массмедийного дискурса возрастает не только в силу интенсивного освещения этой проблематики в СМИ, но и по причине трансформации самой политической сферы.
Ученые все чаще говорят о «медиатиазации политики», имея в виду подчинение политики внутренним законам средств массовой информации (Couldry, Hepp, 2013; Stromback, 2011). Признаками подобного процесса является: а) превращение политики в игру на публику (зрелищность, персонификация), ее стилизация в соответствии с требованиями драматургии (поддержание постоянного внимания, упрощение, сокращение); б) оперативность высказывания политиками своей точки зрения, диктуемая требованиями средств массовой информации («а то нас не успеют показать в сегодняшних новостях»); в) рассогласование между деятельностью политиков и их выступлениями в СМИ.
Яркие примеры воздействия массовой коммуникации на политическое сознание людей дают предвыборные кампании. В ходе их проведения достигается ощутимое изменение политических представлений и установок людей (Elenbaas, de Vreese, 2008; Hansen, Pedersen, 2014; Van Spanje, de Vreese, 2014). Наиболее выраженное воздействие кампаний зафиксировано в случае изменения мнений людей по конкретным вопросам предвыборной программы. В меньшей степени они влияли на общую оценку кандидата и намерение избирателей голосовать.
Очевидно, что воздействие массовой коммуникации на психику людей не ограничивается только периодом избирательных кампаний, но осуществляется постоянно. Одним из направлений такого воздействия является формирование оценочных представлений о том или ином событии (Rivenburgh, 2010; Seeck, Rantanen, 2015).
Заметный вклад вносит массовая коммуникация в формирование оценок и представлений людей, касающихся деятельности политических лидеров и институтов. СМИ, управляя информационными потоками, активно «препарируют» политическую реальность, по своему усмотрению высвечивая одни ее стороны и оставляя в тени другие (Lipshultz, 2007; Shahin et al., 2016). Подобное обращение с информацией отнюдь не безобидно: происходит навязывание аудитории чуждых и необдуманных мнений и представлений. В результате оценки и мнения людей в отношении политики определяются тем, что они извлекают из сообщений СМИ. Так, показано, что на оценку населением США того, какие национальные проблемы важны, а какие нет, сильно влияли телевизионные новости (Iyengar, Kinder, 2010).
Массовая коммуникация влияет не только на мнения и суждения людей, касающиеся важности политических проблем, но и на их отношение к конкретным политикам и политическим институтам. Установлено, что телевизионные новостные программы, привлекая внимание к определенным национальным проблемам, помогают людям сформировать стандарты, посредством которых оценивается президент. Этот эффект более выражен при оценке общей эффективности деятельности президента, чем при оценке его компетентности и честности, а также в отношении неискушенных участников (по сравнению с экспертами) (Iyengar, Kinder, 2010). Средства массовой информации оказывают воздействие не только на политические представления и установки людей, но и на их политическое поведение (Ostman, 2012; Xenos et al., 2014).
Массовая коммуникация является важным источником политической социализации – процесса овладения политическими знаниями, установками, ценностями и формами политического участия (Skoric, Poor, 2013; Political socialization, 2009). Именно средства массовой информации (прежде всего программы новостей и аналитические передачи) поставляют населению наибольшее количество информации, касающейся политики, воздействуя при этом на конкретные оценки и действия в этой сфере.
Массмедийный дискурс и представления о социальной реальности
Массовая коммуникация во многом определяет наше видение социальной реальности. В частности, она оказывает формирующее и закрепляющее воздействие на социальные стереотипы – одни из важных «кирпичиков» восприятия мира. Социальные стереотипы, представляющие собой широко распространенные схематичные и упрощенные представления о социальных объектах, могут касаться других национальностей, классов, групп и т. п. Восприятие чужой группы через стереотипы имеет две стороны: позитивную (стереотип, относя конкретный объект к более широкому классу явлений, позволяет быстро составить о нем определенное впечатление) и негативную (наполнение стереотипа негативными характеристиками приводит к формированию межгрупповой враждебности).
Массмедийный дискурс и гендерные стереотипы – тема, привлекающая внимание исследователей уже много десятилетий. Ее активное изучение началось в 1970-е годы. Исследования, проводимые в то время (1970—1980-е годы), обнаружили заметные различия в изображении мужчин и женщин со стороны средств массовой информации (Courtney, Whipple, 1983; Furnham, Bitar, 1993). Анализ фотографий, помещенных в журналах, показал, что женщины, как правило, занимали в пространстве фотоснимка положение ниже, чем мужчины. Женщины часто изображались в ролях, которые подчеркивали их красоту, зависимость от мужчин, сексуальную привлекательность. На фото у мужчин главным образом были зафиксированы лицо и голова, женщины же чаще изображались во весь рост и более открыто. Мужчины представали в СМИ более властными, доминантными, агрессивными, твердыми, настойчивыми, рациональными и умными, чем женщины. Женщины – более привлекательными, альтруистическими, общительными, моложавыми. В целом женщины часто изображались в стандартных и стереотипных статусах и ролях.
Подобная манера изображения приводила к культивированию у зрителей, особенно у детей, стереотипных представлений о стиле жизни мужчин и женщин. Так, дети, часто смотрящие телевизор, в качестве предпочтительных для себя называли типично мужские (мальчики) и типично женские (девочки) направленности карьеры (Greenberg, 1982).
Начиная с 1990-х годов, ученые начали отмечать, что образ женщины в СМИ стал более многосторонним и отражающим ее реальное положение в обществе, т. е. массмедийная стереотипизация женщин стала сокращаться (Eisend, 2010; Furnham, Mak, 1999; Wolin 2003). Вместе с тем в ряде областей (например, в видеоиграх, рекламе, музыкальных видеоклипах) выраженные гендерные стереотипы продолжают сохраняться (Downs, Smith, 2010; Scharrer, 2014; Turner, 2011). Женщины в подобных областях подчеркнуто красивы и сексапильны. Исследования показали, что подобный характер изображения женщин влияет на гендерные аттитюды зрителей, особенно подростков (Begue et al., 2017; Driesmans et al., 2015).
Следует отметить, что в настоящее время гендерная стереотипизация в массмедиа имеет кросс-культурную специфику: в странах Азии и Австралии она выражена более сильно, чем в США и Западной Европе. Так, исследования, проведенные в Японии, показали, что телевидение стремится замедлять социальные изменения, пропагандируя наиболее распространенные в обществе, традиционные гендерные ролевые аттитюды (Saito, 2007; Yamamoto, Ran, 2014). Особенно ярко проявляется эта тенденция в отношении женщин. Вместе с тем применительно к наиболее консервативным зрителям наблюдается «освобождающее» действие массовой коммуникации, проявляющееся в сдвиге их установок в либеральном направлении (Saito, 2007). Л. М. Милнер и Б. Хиггз, сравнив характер изображения женщин на австралийском телевидении в начале 2000-х годов с тем, как они изображались в 1980-е и в 1990-е годы, обнаружили, что женские образы стали даже более стереотипными, особенно в отношении их профессий (Milner, Higgs, 2004).
Такая демографическая группа, как пожилые люди, также подвержена стереотипизации в СМИ. Ее представители (особенно женщины) редко становятся героями фильмов и передач (Lauzen, Dozier, 2005; Lemish, Muhlbauer, 2012). В тех случаях, когда пожилые люди появляются в рекламе, их изображение, как правило, стереотипно (Lee et al., 2007; Ylanne, 2015). В фильмах образы пожилых героев носят более негативный характер, чем образы молодых. Они, как правило, предстают в неважных, малоценных ролях и нередко изображаются как люди, лишенные здравого смысла, глупые и эксцентричные.
Вносит массовая коммуникация вклад и в стереотипное восприятие этнических групп. Особенно активно эта проблема исследовалась в США. Многочисленные исследования, проведенные в этой стране, показали, что какой бы временной период ни рассматривался, всегда можно обнаружить этнические группы, чьи массмедийные образы отражают распространенные в обществе стереотипы. Единственно, что объектами медийной стереотипизации становились различные группы: в 1970—1980-е годы это были афроамериканцы, а в 2000-е годы – латиноамериканцы и выходцы из Азии (Tukachinsky et al., 2015).
В конце 1970—1980-е годы афроамериканцы появлялись в СМИ существенно реже, чем белые американцы. Кроме того, отмечались и качественные различия их «массмедийных» портретов (Matabane, 1988). Первых в СМИ изображали либо в окружении других, как правило, небогатых представителей этой же группы, либо в окружении белых американцев. Афроамериканцы, живущие среди белых, выглядели в СМИ успешными, эффективно действующими и ориентированными на карьеру. Расизм редко обсуждался или демонстрировался. Подобная манера показа представителей данной этнической группы оказывала ощутимое воздействие на различные стороны их этнического самосознания (Davis, Gandy, 1999).
Психологические последствия стереотипизацией в СМИ применительно к афроамериканцам были обстоятельно рассмотрены в исследовании, проведенном П. Матабане (Matabane, 1988). Эта работа была ориентирована на проверку культивационной гипотезы Дж. Гербнера применительно к этническому самосознанию. Автор стремился выяснить, влияет ли телевидение на мнения афроамериканцев относительно собственного положения в обществе и в какой мере телевизионному воздействию противостоит опыт их реальной жизни.
Оказалось, что массмедийный дискурс действительно воздействует на мнения афроамериканцев по вопросам расовой интеграции. Те зрители, которые проводили у телевизора более 4 часов в день (по сравнению с теми, кто смотрел телепередачи 2 часа в день), гораздо оптимистичнее смотрели на проблему взаимоотношения белых и черных. По их мнению, «большинство афроамериканцев способно достичь статуса представителя среднего класса», «черные и белые часто вместе растут и учатся», «афроамериканцы в целом не отличаются от белых по манере одеваться, вести себя и стилю жизни», «черные легко могут быть приняты в том окружении, где большинство составляют белые».
Особенно значительно влиял массмедийный дискурс на мнения о расовой интеграции молодых людей (от 18 до 37 лет), лиц с высоким доходом и высшим образованием, женщин, лиц, посещающих церковь, а также тех, кто мало принимал участие в общественных мероприятиях. Наблюдался и обнаруженный ранее феномен «унификации» взглядов по вопросам расовой интеграции: те, кто много смотрели телевизор, вне зависимости от их пола, возраста, образования, дохода и общественной активности обнаружили сходство взглядов на расовые проблемы.
Было зафиксировано и влияние жизненного опыта на этнические установки. Так, на мнения пожилых афроамериканцев (старше 57 лет) массированный просмотр телепередач не оказывал никакого воздействия. Мировоззрение этого поколения складывалось в конце 1960-х годов – время активной борьбы за свои права. Особенности жизненного опыта, по-видимому, сыграли свою роль и в формировании у молодых людей, редко смотрящих телевизор, наиболее критических взглядов в отношении равенства белого и черного населения.
По данным П. Матабане, влияние массовой коммуникации было наиболее выражено в отношении двух групп телезрителей-афроамериканцев. Первую составляли довольно пассивные, избегающие активного включения в социальную жизнь люди. В силу присущей им социальной отгороженности массмедийная реальность, по-видимому, превратилась для них в основной источник эмоций и представлений. Ко второй группе относились активные, ориентированные на достижения, с высоким уровнем образования и дохода афроамериканцы. Усвоив транслируемые идеи расовой интеграции, они стали успешно реализовывать их на практике.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе