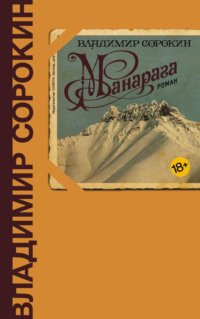Отзывы на книгу «Манарага», страница 4, 84 отзыва
Хотите знать один секрет - постмодернизма больше нет. Сдулся. Время постмодернистских игр вышло из моды. А как же "Манарага"? "Манарага" - отпевальная молитва. "Плач седой и усатой Ярославны".
В 2006 году британский профессор Алан Кирби закопал постмодернизм в землю. Закопал и надпись написал: "The death of postmodernism and beyond".
А что же Сорокин? Сорокин приготовил постный поминальный ужин в традициях своей весьма специфической кухни. Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста! Ну что ж, давайте отведаем. Помянем, так сказать.
В "Манараге" Сорокин от имени некоего Гезы рассказывает историю расцвета и падения необычного поварского сообщества, именующего себя Book’n’grill. Что такое бук-эн-грилл? Что-то, типа, барбекю, только вместо традиционного топлива – древесного угля или угольных брикетов, book'n'grill chef используют бумажные книги, превращая процесс жарки в настоящее театральное действо. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Жадная до зрелищ публика желает потешиться. Вполне себе типичная постмодернистская забава. Но всему своё время! Время Book’n’grill подошло к концу. И на вершине горы Манарага некто по имени Анри (живое воплощение "постпостмодернизма", он же "псевдомодернизм", он же "цифромодернизм", он же "метамодернизм") "вбивает осиновый кол" в сердце несчастного бук-эн-грилля. Всё кончено. Пациент скорее мёртв, чем жив.
Цитата из "обвинительной" речи Анри:
Война давно кончилась. Руины восстановлены. Те, в которых мы делали первые стейки на “Стальных грозах”. Их глотали первые клиенты Кухни – европейцы, вернувшиеся с войны. Отстоявшие Европу. Они были в восторге. Их девочки зачарованно пялились на пылающие страницы. А потом отдавались им в полуразрушенных отелях. Book’n’grill! Новая мода. Гротеск, позволяющий забыть войну.
Как же это похоже на историю постмодернизма, не правда ли?
Это было, Геза. Но прошло. Первые клиенты стали респектабельными людьми. И у них гастрит от гриля. Оглянись на современную клиентуру... Нормальные клиенты ушли.
Да, постмодернизм всем надоел.
Но мир меняется. Мода меняется.
Идеология постмодернизма ещё не до конца изжила себя, но у неё нет будущего. Железный конь идёт на смену крестьянской лошадке. Шутка.
Что ж, настало время прощаться. Спасибо тебе, дорогой постмодернизм, за наше счастливое детство. Выпьем, закусим сорокинской стряпнёй, и будем жить дальше. Спокойно жить.
В чем ему не откажешь – так это в умении молниеносно и с неотвратимостью судьбы брать своего читателя. Ты всего только открыла очередную книгу, не успела, еще и страницы перелистнуть, а уже во власти этого гамаюна. Или кто из птиц лучше всего сказки сказывал? Просится сирин, как мужская персонификация сирены, но одного русской литературе более, чем достаточно. В этот поход за Сорокиным четыре романа подряд не оттого, что ставила себе какую-то высокую цель и уж точно не по причине фанатичной читательской любви, но именно потому, что глотается. Оглянуться не успеваешь, а книга уж прочитана. И вторая, и третья, отчего за четвертую не взяться?
Потому «Манарага» и я в восторге. Помните этот ужас умозрительной ситуации, нарисованный Ведой Винтер перед малышкой Маргарет в «Тринадцатой сказке» Саттерфилд? «Представь, что ты стоишь перед транспортной лентой огромного конвейера, по которой медленно движутся в сторону разверстого жерла топки твои любимые книги. И единственный способ остановить движение – это убить мерзавца, который нажимает на кнопку. Что ты сделаешь?» Девушка содрогается, мысленным взором увидев картину, а безжалостная писательница продолжает: «Еще немного и в печь рухнет «Джейн Эйр» и в мире больше не останется ни одного экземпляра, решайся!» «Я убью» - побелевшими губами шепчет дочь букиниста.
А еще раньше, в «451» Бредбери, женщина, о которой все время вспоминает Гай Монтэг? Та, что чиркает спичкой о перила облитого бензином дома, не желая оставлять свои драгоценные книги умирать в одиночестве? Сквозь детскую потрясенность этой сценой проступало: «Во дает!» И, примеряя к себе: а ты так смогла бы? Точно нет. Ни убить себя, ни убить другого. И дело не в том, что недостаточно люблю книги. Скорее в глубокой убежденности, что бумага – не единственный способ их существования. В убежденности, более давней, чем вошедшие в повсеместный обиход электронные книги. Что написанного пером не вырубишь топором, а рукописи не горят.
Буквально. Что существует некий мир (миры?), в котором герои по-настоящему хороших книг материализуются и живут своей жизнью, влияя оттуда на нас. И что все хорошие тексты наполняют этот мир животворной энергией, независимо от состояния физического носителя, от его наличия или отсутствия. Рукопись уже сыграла свою пренатальную роль, а дальше может быть, может перестать быть. В точности, как все издания: от первого раритетного, ценимого букинистами до самого позднего, включая полулегальные допечатки сверх оговоренного в копирайте тиража. Идеализм? Махровый, но что поделать, таков фундамент моей системы мира.
А потому Геза, жарящий шашлык из осетрины на первом издании «Подростка» не вызывает у меня негодования, заложенного автором в эти первые страницы, как водится у Сорокина, взявшие за сердце? (душу? ум? нутро!) Он просто безумно нравится мне, циник-грамотей, со своим эскалибуром для переворачивания страниц сжигаемой книги и переносным грилем, и умными блошками (ах, умницы из «Теллурии», хочу-хочу-хочу). И мне нравятся его гастрономические рассуждения о литературе. И все происходящее с ним во время гастролей.
Внезапно ловлю себя на мысли, что страстно хотела бы увидеть, как это происходит: высверк сизо-стального лезвия, страницы, гриль. Должно быть невероятно притягательный ритуал. Что до «Ады (шепотом) – туда ей и дорога, не обессудьте, Владимир Георгиевич, но ведь муторное же чтиво, со всеми ее антитеррами и ванвинами. А Прилепин, за что вы его так сурово? Это ведь вы его имели в виду с Ванкьей? Или там солянка сборная из нескольких младых-незнакомых Положа руку на сердце – это чудесно. А напишите еще про Варю и Колобка. Страсть, как люблю у вас такие истории.
Что же на этот раз приготовил нам лучший повар современной литературы? Сегодня в меню — стейк из мраморной говядины на Достоевском, молодые кальмары на Платонове, стейк из морского черта на Зощенко, а на десерт магнолия в карамели на Агеевском «Романе с кокаином». Потекли слюнки, признавайтесь? А ведь это еще не весь список ожидающей вас вкуснятинки.
Как верно заметил в своей рецензии Лев Данилкин, «Манарага» могла бы стать главой в «Теллурии», но строгая стройность романа о божественном теллуре (если вы помните в «Теллурии» ровно 50 глав) не была нарушена, а «Манарага» сформировалась в отдельный роман. Перед нами все тот же мир после Нового Средневековья, уже почти оправившийся после разрушительной войны. Бумажные книги здесь больше не издают, они хранятся в музеях, а вся литература перешла в цифру. Здесь процветает необычная, подпольная и очень опасная профессия — book’n’grill chef. Представители этого славного цеха готовят свои блюда исключительно на гриле, в качестве дров используя бумажные книги. Наш герой специализируется на русской классике. Хотели бы отведать осетринки на «Идиоте»? Нет? А если подумать? А на первоиздании?
Толстосумы со всего мира (кстати, весьма и весьма колоритные персонажи) готовы выложить немалые деньги за подобное удовольствие. А причем же тут гора на Северном Урале? Ууу, братцы, в этом сакральном месте будет вершиться История.
«Но мир меняется. Мода меняется» ©.
Многие почитатели творчества маэстро Сорокина, закрывая последнюю страницу «Манараги», разочарованно вздыхали, мол, не тот уже Владимир Георгиевич, исписался, горит не так ярко, нет больше русского постмодерна, был да весь кончился... Я же знакома с Сорокиным не так давно, но не заметить отличие поздней «Манараги» от ранней «Нормы» невозможно. Да, он стал другим, более спокойным, но его филигранная проза и изысканные стилизации никуда не ушли! Тут их сколько угодно — и рассказец от Толстого из норвежской глубинки, и кусочек текста от нового Ницше с лисьей головой и даже шпилька в адрес Захара Прилепина.
Умеет все-таки Сорокин делать людям похорошо, умеет. Это было очень вкусное чтение, жаль порция в этот раз оказалась совсем небольшой.
Случайная цитата: — Почем «Степь»? — беру и открываю книгу 1908 года издания. Как от нее пахнет, боже мой! Я люблю раскрыть полено, втянуть носом запах освинцованных страниц. Навсегда ушедший мир... «Осенние сумерки Чехова, Чайковского и Левитана...», как писал поэт и тут же подсказывает блоха. Все-таки жаль, что не принято жарить на поэзии: я бы с удовольствием отгрохал классный банкет на раннем Пастернаке.
На IX церемонии награждения победителей литературной премии «НОС» («Новая словесность»), которая состоялась в начале февраля, победу одержал Владимир Сорокин с романом «Манарага». Он же получил приз зрительских симпатий по результатам голосования в Интернете. Но при внимательном рассмотрении книга Сорокина оказывается не столь хороша.
Новый (относительно – вышел в свет в 2017 г.) роман Сорокина «Манарага», в общем-то, ожиданий не обманывает. В нем есть многое, чтобы удовлетворить любящего Сорокина читателя: тут и пост-апокалиптический мир, с его старыми ужасами и новыми радостями, тут и народившийся глобальный человек, на деле не сильно изменившийся.
Пара слов о фабуле романа. Главный герой книги – «бук-н-гриллер» (повар) Геза. В мире будущего возникает тайный гастрономическо-литературный культ: готовить пищу на открытом огне от сгорающих книг. Делается это в присутствии заказчика. Кощунственным бизнесом занимается целая международная мафия бук-н-гриллеров. Всё это дело, разумеется, дико секретно, нелегально и потому стоит весьма дорого: блюда, приготовленные на горящих книгах, доступны лишь элите общества будущего. С развитием сюжета Геза готовит разным людям несколько блюд на различных книгах, таким образом мы имеем несколько последовательных новелл. В конце книги следует авантюрно-криминальная развязка. Вот, вкратце, основная канва романа.
Думается, вначале Владимир Сорокин хотел «поразить» читателей просто кощунственной картиной сгорающих под жареной колбасой книг. Подбрасываемая читателю историческая аллюзия должна была быть понятна даже среднему читателю: это нацистские костры из запрещенной литературы, оголтелые штурмовики, бросающие в огонь бессмертные произведения Генриха Манна и Зигмунда Фрейда. Но Сорокин быстро сообразил, что поджарка бифштекса из коровы на книжке будет выглядеть по нынешним временам просто смешно, а ничуть не кощунственно. После геноцидов Камбоджи и Руанды читателя не проймешь даже человеческим филе, изготовленным на книгах ли, на дровах ли, неважно. Люди сегодня сталкиваются с обесцениванием бумажных книг ежедневно. Вот молодая пара унаследовала квартирку от дедушки-библиомана, а старую библиотеку – вынесла поближе к мусорным контейнерам. Фашисты ли они после этого? И лежат тома Толстого и Тургенева в мусоре, и задумчиво листает их бомж, бывший интеллигентный человек... Ибо квартира в столицах – это ценность, да еще какая, а бумажная книга в современном мире – никак нет.
Поэтому Сорокин сильно усложняет свою схему и изобретает целую мафию бук-н-гриллеров -- преступных поваров будущего. Еду жарят и парят уже не просто на книгах, а токмо на раритетах: редких первых изданиях, похищенных преступниками у коллекционеров, из библиотек и музеев мира.
Бук-н-гриллер Геза Яснодворский – «русский» повар, это Сорокин подчеркивает особо. Потому что блюда для своих клиентов он жарит и парит («читает», на жаргоне) исключительно на русской литературе: книгах Толстого, Булгакова, Бабеля. Такова его нелегальная специализация. Герой романа и сам по происхождению практически «русский», оговаривает писатель: родился Геза в Будапеште в семье белорусского еврея и польской татарки. Как следует понимать эту мысль Сорокина, после череды внешних и гражданских войн просто русских, с менее сложным составом генов, в будущем мире практически не осталось.
Конечно, в романе присутствует и характерная для Сорокина фантастика. Так, Гезу учат, развлекают и предупреждают об опасности «умные блохи» -- так называются внутримозговые чипы. Но это, пожалуй, и всё из последних предвидений Сорокина о технологиях будущего мира. Скучно, девушки! Вообще, создается впечатление, что 62-летний писатель, несколько лет назад выстреливший действительно мощным романом «Теллурия», после взятого им тогда рекордного веса несколько устал. «Манарага» написана далеко не в полную силу, а сам роман в его деталях можно сравнить с эклектичной аркой императора Константина в Риме IV века н. э. (Строение античности характерно именно тем, что состоит из «сполий» – выломанных из более ранних памятников элементов. Использование сполий не только экономило время и финансы, но и компенсировало недостаточную опытность каменотёсов, говорит нам энциклопедия. Ничего не поделаешь, упадок выглядит именно так). С «опытностью каменотёса» у Владимира Георгиевича по-прежнему все более или менее в порядке, но вот свои силы на «Манараге» он явно экономил. Поэтому сполии, то бишь заимствования у самого себя, торчат из текста там и тут. Бук-н-гриллер – это тот же «повар в законе» из ранней сорокинской пьесы «Щи», великаны и зооморфы прибрели в «Манарагу» из «Теллурии» и «Метели», а описания приготовления пищи явно позаимствованы из сборника «Пир».
Если уж сам Сорокин вновь написал на так любимую им тему кулинарии, то гастрономические сравнения будут уместны и в критике. Так, «Манарага» напоминает шашлык, где кусками мяса, кружками лука и помидоров служат чуть ли не все предыдущие книги Сорокина. Этакая сборка старых идей на шампуре нового романа. Причем сам шашлычок-то явно не доведен до степени готовности. Не были ли на этот раз слегка сырыми дровишки?
Завершая о «Манараге», скажем пару слов и о самом писателе Владимире Сорокине. Является ли причиной относительной слабости нового романа лишь возраст и усталость автора? Думается, что нет. Возможно, тут дело в другом: живущий ныне в Берлине Сорокин заболел нехорошей для писателя болезнью – вкусил от яблока политики. А где начинается политика, там, и это хорошо известно, кончается большая литература, а рождается пристрастная публицистика и откровенная пропаганда. Кстати, последние опубликованные рассказы Сорокина именно об этом.
Как сказал русско-американский писатель Владимир Набоков, четкой границей между словосочетаниями «русская литература» и «студент привез литературу» («литературой» большевистские агитаторы называли листовки и прочую печатную агитацию) пролегли кавычки. И, увы, кавычки эти писатель Владимир Сорокин уже расставил.
Действие нового романа Владимира Сорокина происходит в мире Нового средневековья, так вкусно описанного в «Теллурии». Европа пережившая исламское нашествие, распалось на калейдоскоп мелких государств, где высокие технологии переплетаются с архаикой. В этой послевоенной Европе появляется новое элитарное увлечение – приготовление пищи на огне от сжигаемой книги, book’n’grill. Мода эта вне закона, так как бумажные книги, от которых человечество отказалось в пользу голограмм, инфоимплантов-«блох» и прочих «умниц», представляют историческую ценность. Вокруг book’n’grill сложился черный рынок, всем заправляет Кухня – корпорация книжный поваров, нечто среднее между мафией и масонской ложей. Не всякая книга годится для приготовления пищи – главный герой с отвращением отмахивается от охапки постсоветской литературы, в которой без труда угадывается пародийный Прилепин. Лучше всего горит мировая классика, впрочем, горят и рукописи. Перед нами мелькают лица заказчиков – трансильванские бандиты, евреи, скитающиеся по морю на яхте, самопальный Лев Толстой из норвежского поместья, зооморф, живущий в горах. Один раз герою бьют морду за испорченный ужин – книга оказалась сырой. Все эти метафоры литературного цеха оживают у Сорокина как всегда весело и ярко. Тема связи «большой жратвы» и «распада литературы» одна из ключевых в его творчестве. Но если раньше автор расправлялся с литературой как заправский мясник, - например, в рассказе «Сonсretные», где герои пожирают само тело текста, разрывая челюстями Моби Дика и капитана Ахава, то теперь это изящное препарирование пресыщенного эстета. Сорокин стал сентиментален, начиная с «Метели» шокирующие детали стали лишь приправой к основному блюду, стройному повествованию, почти в духе русской классики (критик Данилкин даже обвинил его в строительстве новых литературных иерархий, пришедшему на смену их слому, но это, конечно, преувеличение) Образ повара готовящего на книгах – это, конечно, доведенная до логического финала идея литературного посредника, выдвигающегося на первый план в сетевом пространстве. В перенасыщенном пространстве читатель постепенно начинает поглощать не сами книги, а некий продукт их переработки – списки, дайджесты, стоит открыть фейсбук и увидеть зазывные заголовки «10 книг которые вы должны успеть прочесть до обеда», «Почему важно на этой неделе прочесть эти 25 романов». Конечно же, никто не будет читать ни эти 10, ни эти 25. Повар уже приготовил блюдо.
Если честно, я не фанат этого писателя. И, коли вдруг его книги тоже пропадут с полок библиотек и книжных магазинов, не особенно расстроюсь. Уж слишком мрачные (злые, депрессивные) антиутопии он создает. В жизни и так много проблем и чернухи, чтоб еще и в книгах загоняться. С другой стороны, его книги - как бы предупреждение всем нам. Куда мы можем прийти, если и дальше будем двигаться в том же духе. То у России свой особенный путь, ведущий, как оказалось, "назад, в будущее", то история, рассказанная Бредбери в знаменитой "451 по Фаренгейту", оказывается, не настолько фантастика, сколько объективная реальность, которая уже давно происходит и осталось сделать последний шаг - начать делать именно это и именно так. Да, судьба печатной (бумажной) книги выглядит мрачновато. Настолько мрачно, что я, читая "Манарагу", то и дело посматривала на полки со своей домашней библиотекой и уже всерьез задумывалась над тем, чтобы последней моей волей было - устроить на моей могиле большой костер их моих книг. ВСЕХ моих книг. И написанных/изданных, и купленных в разные годы и даже принесенных с помойки. Мол, все равно они ни моим дочерям, ни моим внукам, ни тем более посторонним людям уже не будут нужны. А так... пусть лучше умрут вместе со мной, чем их ждет та судьба, что предсказана Сорокиным. Ведь, простите, все к тому идет. Смартфоны, соцсети, "электронка"... даже я, чего греха таить, чаще ЗДЕСЬ высказываю свое мнение о прочитанном, чем беседую о книгах с реальными людьми. Не с кем беседовать. Не с тик-токерами же! У них клиповое мышление. А я видео вот вообще не воспринимаю. Блогер старается, губами шлепает, руками жесты делает, даже мимикой что-то изображает и книжкой перед экраном трясет, а я... а я закрываю его видео, даже не дав себе труда звук включить и до конца первой минуты досмотреть. Не могу. Клипы - это не мое. О чем бы там ни вещалось. Так что будущее своих книг - и домашних библиотек - я вижу очень отчетливо. Радуют две вещи: 1) до полного исполнения предсказанного я все равно не доживу, и 2)есть небольшой шанс, что эта антиутопия только на БУМАГЕ и останется и все человечество вовремя поймет, что нельзя так больше жить. И шелест страниц не заменит ничто.
Легкомысленный человек подобен ослу, решившему пересечь пустыню вместе с верблюдом.
Эта книга оказалась увлекательной и очень современной фантасмогорией, которая посвящена в том числе и политике, творчеству, революции, смене поколений, технологий, книжных носителей и главным образом литературе. Автор придумал очень оригинальный и остроумный сюжет, в котором аллегорическим образом связал кухню и литературу. И конечно сама Кухня,полено, книги и рукописи играют определенную социальную и политическую роль старых формаций и инноваций в мире, который видоизменяется у нас на глазах, и меняется совсем не в лучшую сторону, но в каждом изменении, в каждой детали Сорокин находит абсолютно русские корни. Это Блоха, без который не один из нас не может вспомнить кто такой Ленин? И в конце очень здорово, дословно показано, как легко изменить поведение этой блохи, и как мы бессильны что-либо сделать в подобной ситуации. Как продуманная кем то технология может полностью изменить наше мировозрение. И каждый из нас волей-неволей подстраивается под этот новый, казалось бы светлый и милый вкусу сценарий. Напомнить, как рукописи не горят, и снова собрать за одним бандитским столом всех героев Булгаковского "Мастера и Маргариты". Это сцена весьма предсказуема, но она является важным звеном, она и приводит по событиям к наиболее увлекательной, фантасмагоричной и интересной части всего Сорокинского повествования. Не менее важную роль играет и Ада Набокова. Хотя на протяжении прочтения и складывается ощущение, что выбор многочисленных книг для приготовления блюд и соблюдения ритуалов выбран случайным образом. Но сама выброковка создает определенное классическое настроение. И когда формации сменяют другие, и происходит та самая интеллектуальная революция с помощью которой новоявленное человечество прославляет прекрасную и совершенную Манагару - вот самое вкусно, что ожидает нас за обеденным столом в ожидании главного блюда от шеф повара Сорокина на страницах романа. Западные настроения, классический дух, мистифицированный автором многими Великими чисто русскими авторами. Например, Лев Николаевич. Толстому посвящен очень интересный и знатный кусок повествования. Просто история в истории - роман в романе. Пародийно, карикатурно, но многогранно, и очень оригинально. В итоге балансируя на разных литературных вкраплениях, сравнивая классическую и современную литературу в эпоху времени, когда литература вновь так популярна и становится некоторым культом, как будто бы видит это и главный герой, и сам автор, мы вновь видим свет в конце туннеля, который является ровно возможно противоположным явлением, но благодаря современным визуальным эффектам все на всё согласны, и никто и ничто ничего уже не изменит.
С точки зрения морали, настроения, и сюжета произведение спорное, как и любое произведение подобных современных русских писателей, но роман написан тонко, оригинально, логично и весьма злободневно. А может быть и своевременно. Этого у последней книги Сорокина при совершенно любом раскладе никак не отнять!
Оценивать как то по другому роман практически невозможно. Сорокин пишет тоньше и интереснее Пелевина. По крайней мере данный роман "Манарага" написан в разы лучше, чем последняя слабая работа Пелевина про Лампу Муфасаила и прочих масонов. Буду продолжать знакомство с прозой Сорокина. Пока всё складывается очень даже неплохо.
Безусловно, холод играл в русской культуре важную роль. К нему я так и не смог привыкнуть. По мне, лучше плюс тридцать, чем минус. Я ненавижу снег, красоте которого молились русские поэты, не нахожу ничего красивого в этих застывших кристаллах H2O, а вой метели, описанной бородатыми русскими классиками, вызывает у меня лишь одно желание - закрыться от него в теплом помещении, развести огонь в камельке и выпить хорошего итальянского вина....
После такой современной литературы очень тянет вернуться именно к русской классике. Обновляешь список чтения и перепрочтения.
Современная литература живет только в пространстве голограмм, ей бумага не нужна. А на голограмме стейк не зажаришь. Поэтому мы и не читаем современной прозы. Хотя после войны многие почувствовали желание высказаться, стали писателями. Наболело. Это естественно после таких потрясений. Причем, как правило, писать начинали люди, физически покалеченные войной. В прессе говорили о новой волне. Циничная бумага окрестила ее волной калек. Наш утес - Кухню - это волна не поколебала, никто даже и не пытался заговорить о желании почитать новенькое. Мы держим марку.
В. Сорокин играет в текст, пародируя сам себя, но при этом создаёт всё же новое произведение — роман "Манарага". Главный герой — совсем не герой, его история борьбы предрешена, а книги перестают быть духовной пищей. Под конец яркая реализация метафоры, отвечающая на все вопросы, заданные в произведении. Отличный стиль, выдержанный слог, чарующие нотки (само)иронии — можно смело наслаждаться литературным эстетам!
Это как раз тот самый Сорокин, который в одном интервью рассказывает про Набокова, главных антогонистов нынешней современной культуры — Чужого и Хищника и рассказах Толстого. Ничего удивительного что появился наконец легкий экшн из трех любимых компонентов — боевик, литература и новое средневековье. Единственное что опечалило — не все аллюзии мне удалось прочитать. Перечитаю.
Вторая встреча с Сорокиным прошла для меня удачнее первой. Более известный День опричника напрягал стилизацией под древнерусскую речь, сюжет особой оригинальностью не отличался, на мой взгляд, да и перебор сатиры там тоже был налицо.
Что касается Манараги , то здесь всё здорово. Фабула прекрасная, главный герой очень любопытный, даже начиная с имени, язык легкий и приятный, без всяких стилистических выкрутасов. Ещё из плюсов хочется выделить умеренный интеллектуальный юмор и, конечно, понятные всем отсылки к классическим литературным произведениям. Особенно встреча с персонажами Мастера и Маргариты порадовала!
Ещё очень большую интригу создавало для меня название книги. Всё оказалось довольно просто, но оригинально . Дальше будет самая сложная часть – рассказ о сюжете. Воспользуюсь нетипичным для себя приёмом и вставлю в рецензию часть аннотации от издателя, лучше всё равно не скажу:
: В романе “Манарага” Владимир Сорокин задает неожиданный вектор размышлениям об отношениях человечества с печатным словом. Необычная профессия главного героя — подпольщика, романтика, мастера своего дела — заставляет нас по-новому взглянуть на книгу. Роман Сорокина можно прочесть как эпитафию бумажной литературе — и как гимн ее вечной жизни.
Вот для меня это, скорее, эпитафия. Изначально я рассчитывал прочитать нечто вроде вариации на сюжет 451 градус по Фаренгейту. Однако у Сорокина, на мой взгляд, всё получилось более беспросветно. .И по жанру Манарага для меня, прежде всего, антиутопия, хотя там куча всего смешано. Старик Рэй хоть какую-то надежду читателю оставил, в отличие от Владимира Георгиевича. А теперь важная оговорка : если финал Манараги мы должны воспринимать как гимн вечной жизни бумажной книги, то я этот посыл не понял и не увидел. Вообще считаю финал романа чересчур размытым, за что и снизил оценку на полбалла.
Ещё пара интересных примечаний перед выводами . Несмотря на всю трагичность профессии главного героя, мне было интересно и даже забавно наблюдать за его деятельностью. Вспоминается известное выражение: бесконечно можно смотреть на воду, огонь и на то, как работает мастер своего дела. Последняя часть, безусловно, относится к Гёза.
Также меня очень заинтересовал сериал, который смотрела мать главного героя . Вот ведь парадокс – нам рассказали весь сюжет довольно подробно, но я бы всё равно ознакомился с фильмом полностью. Надо спросить у Яндекса, существует ли он на самом деле. Очень сомнительно, конечно .
Выводы: Манарагу я могу назвать нашим ответом Брэдбери , который получился довольно интересным. После этой книги я решил, что однозначно буду продолжать знакомство с Сорокиным . Следующим, скорее всего, прочту Сахарный кремль, хотя это роман в рассказах, а я не слишком дружу с малой формой . И всё же лучше рассказы, чем Норма, которую я не хочу начинать из чувства брезгливости, зная отзывы читавших.…
Наташе спасибо за замечательный подарок. Даже символично, что эту книгу я читал именно на бумаге. Вообще я положительно отношусь и к электронному формату, и к аудио, но, учитывая, что для меня книга по-прежнему лучший подарок, бумажная литература в моём мире не умрёт никогда!
Благодарю за внимание и принимаю в комментах советы о том, какие романы автора обязательно читать дальше.
Начислим
+11
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе