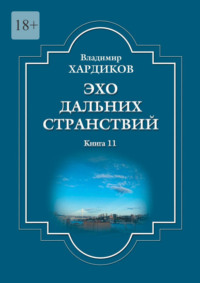Читать книгу: «Эхо дальних странствий. Книга 11»
Корректор Сергей Ким
© Владимир Хардиков, 2025
ISBN 978-5-0068-5294-5 (т. 11)
ISBN 978-5-4498-8644-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
От автора вместо предисловия
Морская тема безгранична, как весь Мировой океан, и попытки покончить с ней заранее обречены на неудачу, особенно если ты связан десятилетиями совместного сосуществования. Именно сосуществования, ибо, как правило, широко распространённые романтические штампы о любви к морю – это всего лишь придуманное людьми искусства, наблюдавшими за морем со знаменитых пляжей или из кают пассажирских круизных лайнеров. Но тема очень перспективна и многообразна, и обойти её никак не получится, отсюда столько загадочности и мужественности. Поверьте, в этих бесконечных романтичных, душещипательных песнях или книгах нет ни капли правды, они являются всего лишь ширмой, за которой скрываются серые будни. Море – прежде всего тяжёлый труд, и оно совершенно безразлично к твоим заботам и переживаниям. С ним всегда нужно обращаться на «вы», то есть знать его повадки и поведение в различных уголках Мирового океана, «запанибратства» оно не прощает. Только тогда можно говорить о мирном сосуществовании «систем с различным социально-общественным строем», утрируя многолетние земные заклинания классиков позднего марксизма-ленинизма. Более того, повторяемые десятилетиями признания о морской душе стали своего рода «скрепой», не поддающейся малейшим сомнениям. Она превратилась в почти сакральный догмат, утверждения которого не подлежат обсуждениям, а о достоверности никто не задумывается. Отдельной темой являются разговоры о ностальгии, многократно преувеличенной, скрытой пеленой туманной неизвестности, а само красивое слово стало сильнейшим магнитом, притягивающим к себе все слои населения, независимо от возраста. Оно вобрало в себя часть общечеловеческой культуры и понимается неотделимо от неё. Честно говоря, не приходилось встречаться со вчерашними мореходами, любящими порассуждать на эту тему. Говорить о ней в их кругу не принято по всеобщему молчаливому убеждению: ты же не ребёнок-мечтатель, а если и был подвержен ностальгии, то по своему родному очагу. Море же являлось лишь твоим рабочим местом, где зарабатывал средства для обеспечения жизни своей семьи. Проза жизни гораздо менее привлекательна нарисованной авторами приключенческого жанра и фантастами. Мечтателей поскорее вернуться на своё рабочее место с каждым годом по мере взросления становилось всё меньше и меньше, ибо прояснялось: настоящая жизнь проходит на берегу среди людей, а не в полном опасностей море. Разве что иногда во сне, как в ретроспективе, увидишь произвольно выхваченные эпизоды из морского прошлого, когда в самый жуткий момент просыпаешься с колотящимся сердцем и помутневшей головой, радуясь, что это всего лишь сон. Люди в подавляющей массе консервативны, «летунов» среди них относительно немного, и они быстро привыкают к условиям своей жизни, не задумываясь, что изначальное приобретение профессии спустя годы в корне меняет понимание и осознание сделанного выбора. Казалось бы, что может заставить шахтёра ежедневно спускаться в забой на глубину в десятки, а то и сотни метров и в полной темноте мрачной преисподней долбить уголь, гробя своё здоровье и подвергаясь постоянному риску быть погребённым заживо случившимся обвалом или взрывом прорвавшегося метана. Или тех же рыбаков, уходящих на своих малых судёнышках в студёные штормовые моря, вымётывать и выбирать сети, в любую минуту рискуя быть смытыми за борт очередным ледяным валом, прокатывающимся через палубу. Конечно, это работа и совсем не плохие деньги, но по правде говоря, если уменьшить финансовую составляющую даже в половину, количество работающих сократится ненамного. Они будут по-прежнему спускаться в шахты и искать косяки минтая и других промысловых рыб, а если им предложат занятие на берегу с гораздо лучшими условиями, то большинство никогда на это не согласится.
За десятки тысяч лет своего выживания среди природы с её необъяснимыми катаклизмами враждебного окружающего мира у людей выработался ген привыкания к условиям жизни. В противном случае человек не имел шансов выжить в жестоком и опасном мире, не имея какого-либо преимущества перед более сильными и кровожадными видами хищных животных. Он-то во многом определяет поведение человека. За прошедшие десятки лет многое изменилось и средства массовой информации завладели умами сотен миллионов людей. Был бы только заказ, а потом придворные летописцы изобразят всё как надо и в лучшем виде: «Чего ещё желаете?» Для творческих людей сыграть на чувствах многомиллионной паствы – дело привычное и даже необходимое, от успешности которого зависят их узнаваемость и процветание. Таким образом и волки сыты, и овцы целы. Правда, овцы изрядно общипанные, но им не привыкать, а волки по своей хищной сути никогда сытыми не будут. Одно дело – привычная поговорка, а второе – реальное состояние, когда все усилия направлены на выживание, не оставляя времени на глубокие раздумья о смысле жизни. Да и не стоят того эти копания, себе же хуже будет. С другой стороны, ждать, когда придёт «мессия» и наступит «Царство Божие», дело неблагодарное – может, пройдёт ещё тысяча лет, а может, и сотня, что никак не устраивает ныне живущих, поэтому как быть и что делать, каждый должен решать сам. У сказок про белого бычка всего лишь один недостаток – они никогда не сбываются, потому так и называются. Как сказал французский поэт Пьер-Жан Беранже сотни две лет тому назад: «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой!» Про безумца он сильно сказал, а вот с золотыми снами как-то до сих пор не получается – не сбываются, хотя на нашем веку безумцев видели немало, то ли ещё будет! Как часто приходится слышать: «Поживём – увидим!», хотя само по себе банальное, ничего не значащее выражение, если его перевести на доступный русский язык, звучит несколько по-иному: «Моя хата с краю – ничего не знаю!» Не что иное, как стремление спрятаться и затеряться среди миллионов таких же аморфных и индифферентных соотечественников, терпеливо ожидающих «манны небесной». И это при том, что долгое время в гимне страны, «Интернационале», на протяжении 22 лет его существования в этом качестве с 1922 по 1944 год, наличествовала фраза: «Никто не даст нам избавления – ни бог, ни царь, и ни герой, – добьёмся мы освобождения своею собственной рукой!» Добились, от одной зависимости шарахнулись в ещё большую, иную, совсем не предсказуемую! Кстати, бытующее мнение о всеобщем крепостном праве в Российской империи до 1861 года во многом не верно. Крепостных крестьян было всего порядка 30% от их общего количества в стране. Лишь в год высадки союзных войск на побережье Нормандии гимн заменили на современный – уж слишком вызывающе звучали его слова, когда помощь союзников была крайне необходима. Особенно дерзкой была строфа: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим: кто был ничем, тот станет всем!» После этого «Интернационал» остался главной песней коммунистической партии, которая через несколько десятков лет приказала долго жить, оставшись лишь в истории как напоминание о неудавшемся эксперименте.
Ради справедливости стоит отметить: пришедший на смену гимн тоже оказался «калифом на час», вначале пришлось убирать из текста имена вождей номер один и два, Ленина и Сталина, а потом и вовсе менять содержание, сохранив мелодию. Таким образом, гимн страны на протяжении всего лишь сотни лет, ничтожно малый по историческим масштабам отрезок времени, сменили или изменили пять раз, что в принципе одно и то же, – совсем уж ни в какие ворота не лезет. Говорит лишь о метаниях государства из стороны в сторону. Как бы его ни пришлось менять в шестой раз: слишком уж настораживают слова: «Братских народов союз вековой!». С братским союзом что-то не очень-то получается. Жаль лишь, штатного специалиста по гимнам Михалкова-старшего уже нет, может, его сын поможет, заменит отца в очередной правке текста? У него многое на этом поприще получается.
Остаётся только процитировать основателя советского государства Ленина: «Верной дорогой идёте, товарищи!» – из краеугольного труда вождя «Государство и революция». Людям свойственно мечтать о лучшей участи, что помогает преодолевать все жизненные напасти: «Пока живу – надеюсь!»
Что касается настоящей книги, то причастным к морскому флоту или же интересующимся самим решать, читать иль не читать! Чисто добровольное волеизлияние! Конспектировать не обязательно, как брежневское наследие: «Целина», «Возрождение» и «Малая земля», это всего лишь шутка на посошок. Таковы вышеупомянутые, несколько затянувшиеся размышления, ставшие основой для этой книги.
Автор благодарит всех принявших участие в создании этой книги: капитанов дальнего плавания Александра Евзютина, Анатолия Байдикова, Вячеслава Корчуна, Владимира Рогулина, Алексея Васильева, Александра Найдёнова, Игоря Полумордвинова и Александра Невежкина, а также Владимира Женихайлова-младшего, брата недавно ушедшего Вячеслава Женихайлова. Здоровья и долгих лет активной жизни им!
С пожеланиями на лучшее,В. Хардиков
Из воспоминаний капитана дальнего плавания Вячеслава Владимировича Корчуна
А он и в самом деле вёз патроны

Корчун В. В.
Развитие советских северов получило громадный импульс в 30-е годы прошлого столетия, когда в районах вечной мерзлоты были найдены огромные запасы золота, серебра, вольфрама, олова и многих других просто металлов и их редкоземельных родственников. А позднее и вовсе урановая руда, из которой, по слухам, была сделана первая советская атомная бомба. В те времена резко вырос поток заключённых, как криминальных, так и политических, и вскоре им нашли давно искомое применение, то есть страна получила бесплатную рабочую силу, которую использовала с максимальной жестокостью, не обращая внимания на неслыханную смертность заключённых, ибо их потенциал был поистине безграничен. Они-то и явились самыми неприхотливыми открывателями и тружениками многочисленных шахт и рудников. Вечную мерзлоту, да ещё с каменным грунтом, не брало никакое кайло, и единственным эффективным средством борьбы с ней являлась мощная взрывчатка. Вот и пошли караваны судов с очень опасным грузом в Магаданский порт, тогда ещё бухту Нагаева. В качестве шифровки в телефонных переговорах взрывчатку называли щебёнкой, наверное, глупее придумать ничего не могли, это покруче секрета Полишинеля, какой же болван не задумается, зачем на Чукотке щебёнка, когда она сама наполовину состоит из базальтов, самых распространенных горных пород, словно специально предназначенных для изготовления щебёнки. Но на этот нонсенс никто внимания не обращал, и слово настольно привилось, что стало нарицательным, повторяемым безо всякого умысла или подтекста.
Во время войны военное положение было естественным, мобилизующим народ, не позволяющим расслабляться, да и контролировалось оно будь здоров, не дай бог совершить какую-либо промашку, и ты уже в местах не столь отдалённых, навсегда останешься с местными горемыками и долго не заживёшься. Хотя с наших северов дальше уже некуда ссылать, а морозами за 50 тоже не удивишь. С окончанием войны с чисто моральной точки зрения люди почувствовали какую-то внутреннюю разрядку, когда не нужно было выматывать последние силы во имя победы. Да и строгости понемногу мягчели, что позволяло до определённого уровня расслабляться даже работникам опасных производств. Человеку свойственно привыкать даже к постоянным опасностям, тем самым нарушая необходимые правила собственной безопасности, даже если от них зависит собственная жизнь и окружающих тебя людей. Невольно вспоминаются, казалось бы, и вовсе несусветные случаи, имевшие место во время выгрузки бочек с бензином на необорудованные берега Чукотки. Самодеятельные грузчики широкого профиля из состава экипажа, истощённые постоянным физическим и психологическим напряжением, сидели на бочках с бензином на барже, идущей к берегу, и спокойно курили, не задумываясь о возможных последствиях. До такого безразличного, апатичного состояния доводит людей тяжелая беспросветная работа, снижая до минимума чувство опасности или вовсе исключая один из самых важных врожденных рефлексов организма – самосохранение.
Произошедшее смягчение требовательности после окончания войны вскоре дало свои результаты, откликнувшись чудовищными бедствиями с гибелью множества ни в чём не повинных людей. В конце июня 1946 года в Находке, тогда ещё не имевшей статуса города, у причала на мысе Астафьева, грузился различными грузами пароход «Дальстрой» – флагман Дальстроевского ГУЛАГА. Погрузку осуществляли заключённые находящегося неподалеку пересыльного пункта, откуда зеков отправляли в Магадан – столицу Колымского края. Немалую часть грузов составляла взрывчатка: аммонал, аммиачная селитра и порошкообразный алюминий, которые вместе представляют гремучую смесь. Начальство всячески подгоняло, и груз валили кулём, не соблюдая никаких условий укладки. На требования судового персонала никто не реагировал, попробуй скажи что-либо против – тут же обвинят в бойкотировании грузовых операций или ещё чего пожёстче, можешь оказаться уже в совершенно другой компании направляющихся на Колыму в глубоком трюме своего же парохода. По неизвестной причине в первом трюме начался быстро распространявшийся пожар, перекинувшийся на второй, и бороться с ним было бесполезным делом, подвергая смертельной опасности всю аварийную партию. Экипаж покинул судно, и сразу раздался небывалый по мощности взрыв, в результате которого погибло более сотни человек и намного больше получили ранения. В радиусе километра всё напоминало выжженную пустыню, словно после ядерной бомбардировки: уничтожены здания, склады, лагерь заключённых. Пятитонный якорь парохода нашли в расстоянии более километра от очага взрыва, а два 15-тонных котла в полукилометре.
После этого случая лично Сталин дал указание отправлять заключённых на Колыму через Ванинский порт.
Но на этом катастрофы не кончились: в декабре 1947 года на рейде Нагаевской бухты Магадана выгружался наполненный под завязку взрывчатыми веществами пароход «Генерал Ватутин», когда на нём произошёл сильнейший взрыв, на который сдетонировала взрывчатка на пароходе «Выборг», стоявшем у причала, отчего тот сразу затонул. Последствия были ужасающими, и как бы власти ни хотели их скрыть, но это не иголка в стогу сена. После этих катастроф были приняты беспрецедентные меры безопасности, более строгие, чем в условиях военного положения, и слава богу, продолжения не последовало. Как-никак, помимо громадных материальных потерь, от этого зависело освоение и развитие жизненно важных районов страны с содержанием заполярных кладовых. Поток заключённых не ослабевал, и их тоже нужно было «трудоустраивать», ибо конвейер и так работал на пределе своих возможностей (как посадочный, так и транспортный).
Летом 1992 года теплоход «Николай Долинский», судно типа река – море, построенный на навашинской верфи недалеко от Горького (ныне Нижнего Новгорода), вернувшего себе историческое название, погрузился взрывчаткой у причала Мучке в Советской гавани, рядом с портом Ванино, на горнорудные предприятия южной Чукотки, которая хотя и южная, но соперничать с северным Причерноморьем никак не может. Пароход удовлетворял всем требованиям, предъявляемым к перевозкам взрывчатых веществ. На борту аммонал, грамонал, охотничьи патроны и сопутствующие грузы для шахтёрских и рудничных предприятий. Судно не имело ледового класса, и вход в Арктику для него был закрыт, но во время летней навигации его использовали для рейсов на южную Чукотку для перевозок упомянутой «щебёнки», потребность в которой не уменьшалась год от года. Да и пароход был оборудован для перевозки взрывчатых веществ, а таких в пароходстве было раз-два и обчёлся. Первым портом выгрузки назначили столичный чукотский порт и город Анадырь. Патроны погрузили в контейнеры чисто советского изобретения для перевозки небольших партий грузов под известным всем псевдонимом «коричневая чума» из-за их неприглядной окраски того же оттенка.
Незадолго до этого судно работало на линии «порты Приморья – Япония» и являлось одним из избранных «домашних» на пике востребованности подержанных автомобилей японского автопрома. В порт-пункте Пластун на севере Приморья происходила погрузка круглого леса, или, как иногда ёрничали, «деревянных дров», а обратно грузили «железные дрова», означающие подержанные авто. Образно говоря, судно стало настоящим «дровавозом», хотя по классификации кадровиков было настоящим «золотым». Пароход с небольшой осадкой был самой настоящей находкой для небольших порт-пунктов с их малыми глубинами на рейде и у ветхих причалов, в основном ориентировался на погрузку в северных портах Приморского края, где Пластун являлся едва ли не главным. Общение с немногочисленным населением приобрело устойчивый характер, и члены экипажа сплавляли через местных жителей бэушные изделия японской промышленности, чтобы как-то улучшить материальное положение своих семей – инфляция не предоставляла возможности для сносного существования, а рубль с каждым днём худел и превращался в фантики. Один из мотористов продал бэушный японский мопед местным обитателям, в чём не было ничего необычного, этим занимался не только он, торговля бывшими в употреблениями изделиями Страны восходящего солнца процветала на фоне пустых прилавков Страны Советов. Обычная торговая операция, на которой можно поставить точку, но не тут-то было: на следующий приход на борт заявились двое покупателей с претензией на нечестную сделку, кто бы об этом говорил, ибо транспортное средство, по их словам, оказалось неисправным, хотя при продаже было опробовано и нареканий не вызывало. У причала обоих правокачетелей ожидал третий в отечественных «жигулях» с работающим двигателем, что выглядело подозрительным. «Пострадавшие» требовали вернуть им уплаченную сумму: обычный трюк вымогателей, т. е. откровенного рэкета, когда нужно каким-то приёмом подцепить на крючок кого-нибудь из экипажа, не особенно храброго и уверенного в себе, – тогда можно уже постоянно разводить его под предлогами нанесённого морального и прочих надуманных ущербов. А сумма отступных, дабы сойти с крючка и разойтись с вымогателями, постоянно растёт и становится неподъёмной, и увязший в паутине, сплетённой вымогателями, становится дойной коровой, работающей на преступников. Тогда попавшему в западню остаётся только списываться с «золотого» парохода и затеряться в кадровых коридорах, но это не дает 100-процентной гарантии о том, что от него отстанут. Правда, с японскими рейсами ему предстоит проститься навсегда, а для того времени это покруче любого ограбления.
В итоге долгого спора и торговли, как на арабском базаре, моторист достал портмоне, чтобы расплатиться с продолжающими «наезжать» деятелями, которые, увидев пачку долларов в бумажнике, приготовленных для покупки автомобиля, потеряли всякую осторожность и приступили к агрессивным действиям по экспроприации всех имеющихся накоплений моториста. Соблазн был велик, как и непреднамеренная провокация со стороны моториста. Тут уже он забыл о своём природном спокойствии и нежелании вступать в открытое противостояние с «джентльменами удачи» и начал активно противодействовать наглому грабежу, да ещё на судне в собственной каюте. Страх лишиться своих кровных придал ему мужества, и он отстаивал собственный суверенитет на пределе физических возможностей, уже не опасаясь за последствия и возможность быть избитым. На его счастье, в соседней каюте спокойно отдыхали соплаватели после трудов праведных отнюдь не за чашкой чая и, заслышав звуки борьбы, поспешили на помощь, уже подогретые к активной деятельности. Их вмешательство оказалось своевременным и эффективным, не хуже, чем у опытных оперативников. Грабителей быстро повязали, не забыв и приложиться в назидание, чем быстро сбили всю наигранную местечковую спесь. Вызвали милицию, а до её приезда поместили спелёнатых неудачливых мазуриков в столовую команды под присмотром. Третий подельник, находившийся в машине, успел сбежать. По всей видимости, нападавшие только осваивали своё ремесло, и алчность, охватившая их при виде зелёных долларов, помутила разум, чувство опасности и самосохранения уступило место обыкновенной жадности, сгубившей не одного «фраера». Понаслышавшись о «подвигах» братьев по классу, они сразу же взяли в карьер, нисколько не анализируя ситуацию. Всё-таки маленький Пластун далеко не Находка и тем более Владивосток, где можно затеряться и обрубить концы, а в их посёлке всё на виду, и если дойдёт до «горячего», то ловить им нечего, разве убежать в тайгу, но там свои хозяева и авторитеты в меховых шубах. На этом история с бандитами вроде бы и закончилась, но, как оказалось позднее, имела совсем нелицеприятное продолжение, которое в определённых условиях могло привести к печальным результатам. Но обо всём по порядку.
В уже знакомом нам летнем Анадыре, все причалы которого расположены вдоль берега одноимённой реки, выгружали часть всего чукотского груза и, пользуясь стоянкой судна, когда совсем не качает, дневальная затеяла стирку давно потерявшего изначальные яркие оттенки чехла дивана и неожиданно в складках грубой ткани обнаружила стеклянную банку из-под кофе. Банка была не простая: из крышки торчали два тонких проводка. Тут же находился боцман, которому она передала свою находку, попросив выкинуть за борт, где быстрое течение реки сразу бы унесло стекляшку в Анадырский лиман, навстречу Берингову морю. «Дракон» послушно понёс ненужную тару к мусорному ящику в кормовой части судна. Как обычно, по утрам в хорошую погоду на корме прогуливался судовой люд, свободный от вахт и работ, нечасто приходится ощущать под ногами твёрдую почву, когда не нужно исполнять незамысловатые пируэты, дабы не потерять равновесие и не растянуться на стальной палубе, потирая ушибленные части тела. На этот раз таких оказалось двое: старший механик и радист. Стармех, увидев у боцмана обычную кофейную банку почему-то с торчащими проводками, чисто интуитивно заинтересовался находкой и забрал её у боцмана. Вполне вероятно, он унаследовал качества исследователя и экспериментатора ещё с раннего детства, они-то и проявились в совсем не подходящий момент, который и стал спусковым крючком к дальнейшим событиям. Осторожно, как заправский сапёр, открутил крышку, а саму банку отставил в сторону и спросил, есть ли у кого зажигалка. Далеко ходить не пришлось, она оказалась у стоящего рядом радиста – заядлого курильщика. «Дед» взял зажигалку и поднёс вылетевшее пламя к одному проводку, который оказался фитилём и сразу занялся, дальше продолжал тлеть самостоятельно, без пламени, оставляя едва заметную дымку и быстро продвигаясь по длине к крышке банки, к которой тянулись проводки. Видимо, только тогда до старшего механика дошло: фитиль – не что иное, как настоящий бикфордов шнур, который запросто к пустой банке не подсоединят, ведь он горит, вернее тлеет, без доступа воздуха и даже в воде, да и не продается в магазинах. Не на шутку озаботившись, стармех начал тушить его о швартовный кнехт, судорожно напрягая усилия, но фитиль не поддавался, и тлеющий светлячок продолжал всё ближе продвигаться к краю крышки. Единственно верным решением в таком случае являлось отрезание тлеющего кусочка, но впопыхах было не до этого, да и поздно. Прогремел взрыв, и стармех лишился трех пальцев на руке, в какой-то степени ему ещё и повезло – самодельная мина оказалась не такой уж мощной, иначе не сносить бы ему головы. Чисто интуитивно отставленная в сторону грязная банка содержала внутри ещё какую-то смесь, вероятно, порох, не сдетонировала и спасла «деду» жизнь. Взрывчатка находилась лишь в отвёрнутой крышке. Порох очень лёгок, и создавалось впечатление, что банка совершенно пуста. В нашем случае единственным правильным решением была просьба дневальной выбросить банку за борт, и если бы боцман это сделал, то у «деда» пальцы были целы, да и множество людей не занималось бы столь оглушительной суетой, как говорят в таких случаях, «концы в воду», и вся недолга. Но любопытство старшего механика сделало его инвалидом и вызвало немалый ажиотаж в поисках террористов. Недаром бытует английская поговорка: Curiosity killed a cat… – любопытство погубило кошку. Вне всяких сомнений, произошедший инцидент прежде всего рассматривался не как обычное хулиганство потерявших голову вымогателей, а как террористический акт, ставивший целью взорвать всё судно с экипажем и вызвать немалое потрясение в обществе в обстановке вседозволенности, творящейся в стране. Хотя это слишком сложно для провинциальных рэкетиров, вероятнее всего хотевших показать свою беспредельную значимость – «какие мы страшные», не что иное, как запугивание. Но на фоне случившегося прежде всего страшно то, что отъявленные и отвязанные, не отягощенные интеллектом мерзавцы, опьянённые своей вседозволенностью, могли творить всё что угодно, не представляя последствий. Не иначе чем обезьяны с гранатами.
По правилам порта при обработке судов с опасными грузами погрузочно-разгрузочные операции должны осуществляться на рейде, но так уж случилось – личные связи зачастую значат намного больше, чем строжайшие постановления, запреты и указания, к которым быстро привыкают. Если же не происходит ничего угрожающего, касающегося их неисполнения, то частенько и вовсе забывают об их существовании, всякий раз действуя по прихоти дежурного диспетчера. Ну, а если он встал не с той ноги, то усилия могут оказаться бесполезными – последует ссылка на обязательное выполнение постановления по порту. По сути дела, «куда хочу – туда и ворочу». А тут ещё свою роль сыграло знакомство «чифа», старшего помощника, с главным диспетчером порта, и без лишних вопросов судно оказалось у причала, к чему впоследствии будет много вопросов. Получается, как в той поговорке: «не надо искать на свою попу приключений», всё верно, но кто об этом мог подумать, «дорога в ад выстлана благими намерениями». Слава богу, времена изменились, и отправка на Колыму уже не представлялась избавлением от неизбежного расстрела, но в любом случае хорошего было мало.
Каюта доктора находилась поблизости от места происшествия, но судовой «лепила», переходя на лагерный язык, – по-другому его назвать язык не поворачивается, – не очень-то жаждал заниматься покалеченным «дедом», хотя в этом и было его предназначение. Содержал каюту в чистоте, и для него являлось главным не запачкать ежедневно поддерживаемую чистоту кровью – вроде бы примета плохая. Стоило больших трудов призвать его к выполнению прямых обязанностей по оказанию первой помощи пострадавшему под угрозой списания с судна и отправки в распоряжение «Водздрава». Да и впечатление создалось: тот ли он, за кого себя выдает? На какие только выдумки не пускались проходимцы всех мастей, чтобы попасть в Японию за машинами, и все средства для них были хороши.
Вскоре все представители силовых структур налетели на судно, словно пчёлы на мёд: милиция, ФСБ и какие-то иные неизвестные представители секретных ведомств. Все озаботились происхождением банки со взрывчаткой, очень уж похоже на терроризм – самое страшное преступление, которое возможно в тогдашних политико-социальных условиях, напоминающее тот же бикфордов шнур, чтобы вызвать ещё большее напряжение в готовой взорваться стране. В сохранившихся фрагментах крышки – взорвалась только она-обнаружили остатки взрывчатого вещества вместе с кусочками металла. Всех волновало происхождение взрывчатки. Существующая, всех устраивающая версия о принадлежности её к грузу оказалась несостоятельной – никакого отношения к нему она не имела, что свидетельствовало о заранее намеченном плане. Хотя кто знает, вполне могло быть и простое совпадение с беспределом, творившимся в стране, но в любом случае уповать на случайность было нельзя. Слишком велика могла быть цена ошибки.
Случившееся на борту чрезвычайное происшествие было освещено в ежедневной всесоюзной телевизионной программе «Время» с подтекстом, что если бы инцидент произошёл на баке, где находились контейнеры с патронами и ещё кое-что покруче, а в трюмах мощная взрывчатка, то чукотская столица была бы стёрта с карты России, 2400 тонн взрывчатки не оставили бы камня на камне от и без того голой тундры с небольшими рощицами хвойных деревьев в защищённых от жестоких ветров распадках. Находящаяся в трюмах взрывчатка сдетонировала и разнесла бы пароход на атомы. По судну долго ходили самые различные слухи: от вмешательства инопланетян до банального вымогательства, и целью взрыва являлось запугивание экипажа. Некоторые и вовсе договаривались до абсурда: жена капитана Кудлая в разговоре с женой старшего механика высказала мнение, что «дед» намеревался погубить весь экипаж. Кто ей разрешил распространять ничем не подкрепленные сплетни – неизвестно, они лишь порождают взаимное недоверие и подозрительность и по своей сути разлагают экипаж. Да и не её это дело – лезть со своими бредовыми вымыслами во внутреннюю жизнь судового коллектива, не иначе вообразила себя Раисой Горбачёвой, шла бы лучше к своим ученикам младших классов заниматься профессиональным делом или в администраторы какой-либо гостиницы, где она имела опыт, о котором не жалела, но никому и не рассказывала – гордиться было нечем. Нужно помнить русскую пословицу: «Всяк сверчок знай свой шесток», судя по всему, она о ней и не слыхивала. Находящийся в эксплуатации пароход с заграничными рейсами – не местный рынок, где толкуют словоохотливые кумушки, разнося сплетни на всю округу. Но молчание для неё было хуже самой изощрённой пытки, всё-таки учительница если начнёт говорить, то остановить её не просто.
Трудно сказать, чем закончилось расследование засекреченного случая, но не вызывает сомнения: до двоих пластунских рэкетиров наверняка добрались и трясли их за милую душу. На фоне случившегося они и выглядели основными подозреваемыми после совершённой откровенной наглой выходки, свидетельствовавшей об их сомнительном умственном развитии. Совершенно ясно: настоящие профессионалы так делать не будут, зачем им так подставляться, оставляя столь очевидный след, да и цель совсем не оправдывала средства. Что касается серьёзных иностранных выгодоприобретателей, то инцидент являлся лишь маловероятной версией: страна и без того находилась в критическом состоянии, и никто не был заинтересован в углублении эскалации такого масштаба. Надеяться, что пронесёт, было бесполезно и неоправданно, страна с неконтролируемым количеством ядерных боеголовок представляла угрозу всему человечеству. Само устройство было примитивно изготовленным, явно самодельное. Достать взрывчатку и бикфордов шнур в то время не представляло особого труда, хотя, естественно, ни о какой свободной продаже речи быть не могло. Приморский край был буквально нашпигован военными частями самых разных назначений и складами с оружием и амуницией, а заведующие всем этим имуществом прапорщики и мичманы распродавали содержимое направо и налево, каждому нуждающемуся. Впрочем, этим занимались не только они, но и старшие офицеры, и вопрос с поиском компонентов для изготовления адской машины не стоял. На военных складах случались нередкие пожары по тем или иным причинам, и под эту лавочку списывалось всё оставшееся имущество и вооружение.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе