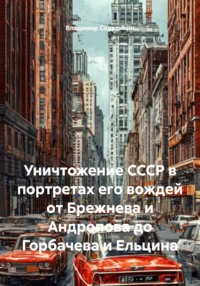Читать книгу: «Уничтожение СССР в портретах его вождей от Брежнева и Андропова до Горбачева и Ельцина», страница 2
Когда другие руководители пытались образумить Брежнева и донести до него, что его слишком доброе отношение к Западу чревато большими неприятностями, он только обижался.
– Я очень люблю встречаться с американскими президентами и целоваться с ними! – старчески бухтел генсек. – Почему вы хотите запретить мне это?!
Когда ему докладывали о кознях Запада в отношении СССР, он закрывал уши. Даже обычно покорный министр иностранных дел Андрей Громыко однажды не выдержал и попробовал повлиять на внешнюю политику страны.
– Леонид Ильич, тебе не кажется, что целоваться с товарищами из слаборазвитых африканских стран гораздо приятней, чем с политиками из капиталистического мира? – хитро заметил он.
– Целоваться с неграми очень приятно! – моментально оживился Брежнев. – Но целоваться с политиками из США или Великобритании тоже очень интересно. Потом это совершенно разные вещи. Негры целуются очень сильно, так, что губы потом болят и зубы сводит, а англичане или французы целуются нежно по касательной, оставляя после себя приятное послевкусие во рту. Короче, моя цель, чтобы наша внешняя политика была как можно более разнообразной и многосторонней!
– Да, но…
– Или ты, Андрюша, хочешь, чтобы я вообще спать перестал?
– Спать? – не понял Громыко.
– После хорошего поцелуя я иногда могу уснуть почти без снотворного! А ты, видимо, хочешь, чтобы я не слезал с таблеток и, в конце концов, окочурился?!
– Что ты? Что ты? – испуганно несколько раз повторил Громыко и больше никогда к этому вопросу не возвращался.
– Борьба за мир во всем мире основа всей нашей геополитики! – всегда стоял на своем Брежнев, не обращая внимание ни на какие логические доводы.
В результате получилось, что болезнь Брежнева привела к кризису, как внутреннюю, так и внешнею политику СССР.
Чем же и почему он болел?
В детстве и молодости Брежнев был очень крепким и здоровым человеком. Но напряжение первых пятилеток, Великая Отечественная война и тяжелые послевоенные годы, когда Брежнев руководил работами по восстановлению Запорожской и Днепропетровской областей, подточили силы могучего организма. Леонид Ильич отдал всего себя работе, часто не спал неделями и, конечно, все это не могло не отразиться на его здоровье.
Главной проблемой Брежнева было, что он «сбил» себе сон и уснуть теперь мог только с помощью снотворного.
В 1952 году Брежнев пережил первый инфаркт (это случилось на фоне перевода из спокойной Молдавии в бурлящую политическими страстями Москву).
Второй инфаркт случился в июне 1957 года прямо во время попытки снятия Хрущева (Брежнев очень переживал за своего патрона и даже сбежал с больничной койки, чтобы поддержать его).
В 1972-1973 годах в узком кругу самых высоких руководителей СССР стали ходить разговоры, что Брежнев сдает. Если в пятидесятые и шестидесятые годы он подсел на снотворное, то теперь его уже не удовлетворяли обычные таблетки, и он перешел к сильнодействующим транквилизаторам, которые в среде наркоманов именуются «колеса».
Доставал он их самыми разными путями.
Главным поставщиком «колес» являлась кремлевская медсестра Коровякова. Правда, осведомленные люди уверены, что она была только ширмой, за которой скрывался глава кремлевской медицины академик Чазов.
Дело в том, что Чазов предполагал, что Брежнев рано или поздно загнется, а он может оказаться за решеткой. Поэтому на людях он постоянно возмущался, что кто-то пичкает Брежнева таблетками, а действовал тайно и чужими руками.
Однако даже у Чазова не было столько снотворного, сколько хотел Брежнев. Кремлевский медик старался, как мог, добывал даже не прошедшие испытания новинки советской фармакологии, но генсеку все было мало.
Брежнев, как масштабно мыслящий государственный человек, решил организовать несколько альтернативных каналов поставок.
По его просьбе таблетки стали доставлять некоторые члены Политбюро (особенно старался Андропов), другие руководители СССР и дружественных социалистических стран.
Но и этого мало!
Брежнев перешел к раскрутке на предмет «колес» посетителей своего кремлевского кабинета. Особенно он любил поговорить на эту тему с дипломатами, разведчиками или командированными в страны Запада чиновниками.
Разговор с командированным Брежнев начинал издалека, расспрашивал о его проблемах, терпеливо выслушивал жалобы на жизнь, обещал помочь и, наконец, переходил к главному.
– Последние несколько дней что-то не могу уснуть! – жаловался он. – И как назло, у нас в Кремле закончилось снотворное. Что делать? Ума не приложу! Может быть, вы мне из-за границы привезете? Я тут набросал списочек!
Брежнев передавал толстую тетрадь всю исписанную мелким убористым почерком. Командировочный был вынужден согласиться. Впоследствии некоторые из них все-таки попадались на таможне за провоз наркотиков, но большинство осуществляло свою миссию успешно.
Удивительно, но при таком образе жизни наш герой продолжал довольно сносно управлять страной вплоть до середины семидесятых годов.
Только бесконечно так продолжаться не могло.
Первый звоночек прозвенел летом 1974 года, когда Брежнева обнаружили на даче в астеническом состоянии.
Уже не звоночек, а целый гром раздался в декабре того же 1974 года во Владивостоке. Брежнев, нацеловавшись вдоволь с американским президентом Фордом, проводил его и отключился прямо в аэропорту.
Тем не менее, когда на следующей день его откачали, он отправился целоваться в Монголию (больно уж хотел попробовать и это удовольствие).
После монгольских поцелуев его привезли в Москву уже в критическом состоянии.
С этого момента на протяжении 1975-1982 годов (около восьми лет) Брежнев почти все время болел. Краткие периоды ремиссии сменялись долгими месяцами больницы и послебольничного отдыха.
Несмотря на критическое состояние здоровья, Брежнев нисколько не изменил своего образа жизни и продолжал употреблять «колеса» горстями. При этом будучи больным человеком и находясь частенько под кайфом Леонид Ильич стал попадать в анекдотичные ситуации, что с ним раньше никогда не случалось.
Например, он мог по бумаге читать доклад и перепутать страницы, от чего терялся весь смысл, и получалась белиберда. Участвуя в награждении, он мог перепутать фамилии и повесить орден на грудь совершенно постороннему человеку. При этом, если сам Брежнев, будучи здоровым, довольно равнодушно относился к наградам, то заболев, полюбил это дело так, что почти каждый месяц участвовал в награждении самого себя.
Показал себя Леонид Ильич и на международной арене.
Так в начале декабре 1975 года он отправился в Польшу на VII съезд Польской объединенной рабочей партии. Съезд по традиции открывался пением «Интернационала». Брежнев, находясь под кайфом, разошелся так, что стал размашисто дирижировать залом, приведя в изумление поляков и многочисленных коммунистов со всего мира.
Разумеется, другие руководители Советского Союза видели состояние Брежнева и не могли на это не реагировать.
Первая робкая попытка снять Брежнева относится еще к 1966-1967 годам. Ее предприняли ряд бывших руководителей комсомола: член Политбюро и руководитель Комитета партийного контроля Александр Шелепин, председатель КГБ СССР Владимир Семичастный, глава Москвы Николай Егорычев, руководитель Гостелерадио СССР Николай Месяцев и ряд их соратников.
«Комсомольцы» активно обсуждали между собой, что Брежнев не тянет и слишком злоупотребляет снотворным. В своем кругу они мечтали заменить его умным и работоспособным Шелепиным.
Однако, хотя Брежнев и был очень добрым человеком, но размазней он никогда не был. У Леонида Ильича всегда были ушки на макушке. Он крепко держал подчиненных в узде и реагировал на любые козни против него достаточно оперативно, хотя без жестокости.
Прослышав о разговорчиках «комсомольцев», Брежнев провел кадровую чистку: Шелепина сняли с руководителей Комитета партийного контроля и сослали председателем профсоюзов (хотя членом Политбюро он оставался до 1975 года), Семичастного уволили из КГБ и отправили аж в Киев заместителем главы украинского правительства, остальных их соратников направили послами в разные страны. Брежнев вообще широко ввел в практику назначение послами неугодных политических деятелей (даже в этом проявлялся его гуманизм).
В первой половине семидесятых Брежнев, предчувствуя, что здоровье в ближайшее время может дать сбой, решил упредить ситуацию и убрать из Политбюро подозрительных ему лиц. В 1973 году он вывел из Политбюро руководителя Украины Петра Шелеста и руководителя правительства России Геннадия Воронова.
Сделал он это очень мягко в свойственном ему стиле. В мае 1972 года Петра Шелеста сняли с руководства Украиной и перевели в Москву заместителем председателя союзного правительства, что на первый взгляд выглядело повышением. А спустя ровно год с почетом отправили на пенсию. Правда, сам Шелест на пенсии сидеть не захотел и устроился работать по специальности простым конструктором на авиационный завод.
Председателя правительства РСФСР (нынешняя Россия) резкого и умного Геннадия Воронова сначала (1971 год) перевели в руководители Комитета народного контроля, что выглядело, как перемещение по горизонтали, а в мае 1973 году отправили в почетную отставку вместе с Шелестом.
Одновременно с отправкой на пенсию неугодных Брежнев ввел в Политбюро безусловно ему преданных, хотя не менее, а зачастую более возрастных людей. Например, Константина Черненко (о нем речь впереди) и Николая Тихонова (его в 1980 году в возрасте 75 лет назначили Председателем Совета министров СССР).
Тем не менее, несмотря на все принятые меры, когда в конце 1974 года здоровье Брежнева дало серьезный сбой, в высшем руководстве страны снова началось брожение.
Некоторые члены Политбюро осторожно с соблюдением мер конспирации повели между собой разговоры об отправке генсека на пенсию. Ядром оппозиции стали: Председатель президиума Верховного Совета СССР (глава законодательной ветви власти) Николай Подгорный, Первый заместитель председателя Правительства СССР Дмитрий Полянский и, конечно, Председатель профсоюзов Александр Шелепин.
Конечно, никакой заговор не может быть удачным без поддержки КГБ. В 1964 году тогдашний председатель КГБ Владимир Семичастный оказал всемерную поддержку снятию Хрущева.
В этот раз Подгорный, Полянский и Шелепин очень рассчитывали на поддержку председателя КГБ Юрия Андропова. Принципиальный и честный Андропов лучше других знал о состоянии здоровья Брежнева и не мог не понимать, чем такая ситуация чревата для страны.
С Андроповым поговорили, и он дал свое согласие на «мягкий» вариант (почетная отставка).
О том, что случилось дальше, мы поговорим в следующей главе.
Глава вторая. Юрий Владимирович Андропов (1914-1984)
Мать Андропова, Евгения Карловна Флекенштейн, была дочерью богатейшего ювелира Карла Францевича Флекенштейна, магазин которого располагался в центре Москвы в аккурат на Лубянской площади.
Все детство, юность и часть молодости Евгения Флекенштейн провела в Москве, купаясь в роскоши, удовольствиях, шампанском, светских тусовках, поэзии и музыке (последнюю она так любила, что даже из прихоти устроилась работать учительницей музыки в женскую гимназию).
Всем тогда казалось, что маму Андропова ждет обеспеченная купеческая жизнь: она выйдет замуж за какого-нибудь старого миллионера, дождется его смерти и начнет тратить деньги без счета и жить на широкую ногу.
Однако ее жизнь сложилась по-другому. Почему так случилось версий много.
По самой распространенной версии, которую популяризировал сам Юрий Андропов, произошло примерно следующее.
Однажды в 1913 году на одной из светских тусовок Евгения Флекенштейн познакомилась с лихим донским казаком и по совместительству инженером-технологом Владимиром Константиновичем Андроповым. Молодые люди провели вместе несколько веселых деньков, в результате чего Флекенштейн забеременела.
Ее отец был в шоке.
– Я уже подобрал тебе несколько хлипких старичков-миллионеров! – отчитывал он дочь. – А ты, идиотка, залетела от голодранца! Моли теперь бога, чтобы кто-нибудь из моих женихов согласился взять тебя с пузом!
Однако дочь не стала молить бога. Вместо этого, в апреле 1914 года она в тайне от отца обвенчалась с Андроповым.
Уже в июне у них родился сын Гриша (впоследствии ставший Юрием). От этого удара Карл Флекенштейн слег в постель.
– Моя дочка опозорила нашу честную фамилию потомственных ювелиров! – переживал он. –Я выгоняю ее из дома и лишаю наследства!
Супруги переехали жить на станцию Нагутская, где Владимир Андропов стал работать на железной дороге.
Когда наш герой заполнял анкеты, он в разные годы по-разному указывал должность своего отца: рабочий на железной дороге, контролер, телеграфист, начальник железнодорожной станции и т.д.
Побег дочери окончательно подорвал здоровье Флекенштейна, и он тихо умер от горя (1915 год).
Молодая семья Андроповых вынуждена была перебиваться с хлеба на воду. В конце концов, отец семейства, Владимир Андропов, так расстроился от всего, что заболел тифом и тоже умер в диапазоне между 1915 и 1920 годом (Андропов путался в анкетах относительно года смерти своего отца).
В 1921 году Евгения Флекенштейн повторно вышла замуж за машиниста Виктора Федорова, после чего семья переехала в Моздок.
Имеются и другие версии того, что случилось с Флекенштейн.
Например, якобы первым ее первым мужем и отцом Юрия Андропова был некто Владимир Либерман. Он искусно соблазнил Флекенштейн, женился на ней, на следующей день после свадьбы занял у ее отца большую сумму денег и исчез в неизвестном направлении. Тогда отец Флекенштейн бросился спасать честь дочери, нашел какого-то дурачка, Владимира Андропова, женил его на своем чаде и записал на него ребенка.
По другой версии Либерман и Андропов – одно и тоже лицо (якобы Либерман с началом революции на всякий случай сменил фамилию на русскую).
Еще по одной версии никакого Владимира Андропова никогда не существовало (по крайней мере, у нас не имеется свидетельств людей, которые бы знали его).
Фикция-Андропов нужен был только для легализации его сына, который имея фамилию Флекенштейн или даже Либерман вряд ли мог рассчитывать на успешную карьеру в Советском Союзе (разве что в театральной или музыкальной среде).
Остается неизвестным также, когда Евгения Флекенштейн покинула отчий дом и уехала из Москвы. Андропов утверждал, что это случилось еще в начале 1914 года задолго до революции. Однако, например, в справочной книге «Вся Москва» Евгения Карловна указывалась в 1915 и 1916 годах. Получается, что наследница миллионного состояния бежала из Москвы в 1917 году, вероятно, опасаясь расправы со стороны восставших рабочих и крестьян.
Разобравшись кое-как с происхождением нашего героя, попробуем теперь проследить его судьбу дальше (хоть это дело еще более трудное и почти безнадежное).
По официальной биографии с 1921 года он жил вместе с матерью и отчимом в Моздоке, где учился в фабрично-заводской школе (закончил в 1930 году).
Вроде бы в самом факте посещения фабрично-заводской школы нет ничего криминального или предосудительного. Но однажды в конце семидесятых годов местный краевед решил покопаться в детстве Андропова (он собирал информацию для своей книги о выдающихся уроженцах Моздока). Краевед пришел в школу, где учился наш герой, и попросил посмотреть в архиве классные журналы.
Андропову, который был на тот момент председателем КГБ СССР, моментально доложили об интересе к его персоне. Он пришел в неописуемую ярость (подчиненные его таким никогда не видели) и немедленно приказал отбить у любителя истории всякую охоту совать свой нос туда, куда не следует.
Остается только догадываться о такой реакции Андропова на вполне невинные исследования провинциального краеведа. Можно лишь предполагать, какая ужасная тайна скрывается в школьном детстве Андропова.
Автор, например, считает, что в фабрично-заводской школе Андропов никогда не учился. По крайней мере, никаких документов, подтверждающих его обучение (дневники, классные журналы и т.д.), не существуют. На протяжении всей дальнейшей жизни Андропов никогда не встречался со школьными друзьями и не переписывался с ними. Более того, ни один одноклассник никогда не напомнил ему о себе (хотя одноклассники других руководителей государства регулярно досаждали их различными просьбами).
Скорее всего, Андропов вместо посещения фабрично-заводской школы сидел дома, где получил элитарное образование. Дело в том, что его мама вполне могла вывезти из Москвы парочку чемоданов с драгоценностями, спрятать их в надежное место и потихоньку тратить, вкладываясь в образование сына. В двадцатые годы по провинциальным городам России в поисках куска хлеба бродило немало бывших царских учителей гимназий и даже университетских профессоров. Вполне вероятно, что некоторые из них стали домашними учителями Андропова.
Впоследствии знающие нашего героя люди поражались глубиной и обширностью его эрудиции. Он прекрасно разбирался в истории, философии, литературе, искусстве и т.д. Некоторые его приближенные утверждали, что он в совершенстве владел английским языком. Другие вообще говорили, что он полиглот. Однако от большинства знакомых он тщательно скрывал знание иностранных языков.
В 1929 году умерла мама Андропова и навсегда унесла за собой в могилу тайну сокровищ семьи Флекенштейнов.
Андропов был вынужден пойти работать.
В официальной биографической справке, опубликованной в газетах при его избрании Генеральным секретарем, было сказано: «Шестнадцатилетним комсомольцем Ю.В. Андропов был рабочим в г. Моздок Северо-Осетинской АССР» (Юрий Владимирович Андропов//Правда.13.11.1982).
На самом деле, Андропов никогда не был рабочим. Он совсем немного поработал телеграфистом, а потом больше года трудился киномехаником в клубе железнодорожников.
Каждый день по долгу службы он смотрел советские фильмы, через которые постигал окружающую его действительность.
Будучи человеком чрезвычайно амбициозным, он довольно быстро понял, что кратчайший путь для продвижения по карьерной лестнице лежит через комсомольский аппарат. Однако для карьеры в комсомоле в обязательном порядке нужны были рабоче-крестьянское происхождение и безупречная биография.
Начинать карьеру в Моздоке, где знали его семью, Андропову показалось самоубийственным. Там его вполне могли вывести на чистую воду. Он не знал, как ответить на вопросы: кто был его папа, кто была его мама и где он учился.
В 1931 году Андропов переехал в Рыбинск и для начала, чтобы легализоваться, поступил в техникум водного транспорта. Заполняя различные анкеты в Рыбинске, он стал указывать, что его мать была рабоче-крестьянского происхождения, но росла подкидышем в семье торговца (так миллионерша Флекенштейн, как по мановению волшебной палочки, превратилась в несчастную приживалку в семье безымянного «торговца»). Отцом он, естественно, указывал Владимира Андропова, казака и инженера (правда, почему-то иногда писал, что его отца выгнали из института за участие в революционном движении).
Благодаря своим способностям и знаниям Андропов довольно быстро приобрел авторитет и стал стремительно продвигаться вверх по комсомольской линии. В 1936 году он стал секретарем комсомольской организации техникума. В 1937 его назначили заведующим отдела пионеров Рыбинского горкома комсомола. В 1938 году он уже первый секретарь Ярославского обкома комсомола.
Таким образом, примерно за три года простой студент техникума превратился в главного комсомольского начальника Ярославской области. Конечно, такому впечатляющему карьерному взлету способствовал Большой террор, который выкосил множество комсомольского начальства.
Однако надо отдать должное и самому Андропову. Он буквально «горел» на работе; трудился днями и ночами; был чрезвычайно энергичен; досконально прорабатывал и решал любой даже самый малозначительный вопрос; был требователен, но вежлив и корректен с подчиненными; деликатен, прост и мил (но без подхалимажа) с начальством; очень скромен в быту; никогда не брал взяток; был предельно щепетилен и честен и т.д.
Очень сильно в его пользу играло, что он полностью соответствовал образу «настоящего коммуниста», как его изображал советский кинематограф (работа кинооператором не прошла даром).
Начальство не могло на него нарадоваться и, как только освобождалось хорошее местечко под солнцем, на него определяли Андропов.
В 1935 году Андропов женился на Нине Енгалычевой, с которой познакомился, учась в техникуме. В 1936 году у молодых супругов родилась дочь, а в 1940 сын (он назвал их в честь своих родителей Евгенией и Владимиром).
В 1940 году Андропова перевели в Карело-Финскую ССР руководить комсомолом (это был очередной шаг в карьере).
– Вначале я поеду один! – предупредил он жену. – Нужно разведать обстановку, получить квартиру и обустроить семейное гнездышко. Вы с детьми приедете ко мне где-то через месяц. Ты даже не представляешь, как я буду скучать без вас! К счастью, мы расстаемся ненадолго! Жди письма!
Больше жена его никогда не видела. Правда, вскоре действительно пришло письмо, но оно содержало в себе сухое требование о разводе.
Дело в том, что на новом месте жительства Андропов затосковал. Его хандру развеяла некая Татьяна Лебедева. В благодарность он поспешил на ней жениться, и уже в 1941 году у молодоженов родился сын, Игорь.
В войну Андропов остался в Карелии и руководил отправкой на территорию, оккупированную фашистами, диверсионных групп и партизанских отрядов. Он работал превосходно, но, когда ему самому предложили возглавить партизанский отряд «Комсомольцы Карелии» твердо отказался.
– У меня больные почки и трое маленьких детей! – пояснил он свою позицию. – Руководить я еще кое-как могу, а воевать не имею никакой возможности!
После окончания войны Андропов пошел на повышение. Руководитель Карело-Финской ССР Геннадий Куприянов назначил его своим заместителем. Он оценил в Андропове ясный ум, интеллигентность, исполнительность, большой организаторский талант, честность, неподкупность и полное отсутствие обычного для чиновников его уровня подхалимажа по отношению к начальству (Куприянов был человеком простым и подхалимаж не любил).
В свою очередь Андропов стал называть Куприянова своим учителем.
Начальник и подчиненный жили душа в душу, но однажды все изменилось.
Началось с того, что в августе 1948 году умер секретарь ЦК по идеологии Андрей Жданов, выдвиженцем которого был Куприянов. Противостоящая Жданову группировка Маленкова-Берии принялась зачищать его людей. В 1949 году грянуло «Ленинградское дело», в ходе которого были расстреляны ждановские кадры: руководитель Госплана СССР Николай Вознесенский, секретарь ЦК Алексей Кузнецов и т.д.
В 1950 году дошла очередь до Куприянова.
В Петрозаводск зачастили комиссии из Москвы, которые искали компромат на главу Карело-Финской ССР. Результаты их работы никак нельзя было назвать выдающимися (Куприянов был человеком неподкупным и практически не допускал промашек в работе).
В конце концов, нашли какие-то небольшие несостыковки в бухгалтерских документах на петрозаводском рыбном заводе. Но этого комиссии показалось мало, и она стала копаться в прошлом.
Однажды Куприянова вызвали на заседание и объявили, что в руководимом им в годы войны антифашистском подполье были двойные агенты.
– Я не знал всех подпольщиков! – заметил Куприянов. – Непосредственно их проверял мой заместитель товарищ Андропов. Он подробно может рассказать о каждом. Что касается рыбного завода, работу его тоже курировал товарищ Андропов. Он прояснит вам все нюансы в бухгалтерской документации.
Вызвали Андропова.
– Ничего не знаю! – объявил наш герой (он чуял, куда ветер дует). – Никаких подпольщиков я не проверял. Что касается рыбного завода, я не имею к его работе ни малейшего отношения.
– Вы в своем уме, Юрий Владимирович?! – поразился Куприянов.
– Давно работаете с Куприяновым? Что про него скажите? – с интересом посмотрел на Андропова председатель комиссии.
– Признаюсь, что Куприянова я действительно немного знал! – отрапортовал Андропов. – Но встречались мы с ним исключительно по служебной необходимости. Мое мнение о Куприянове, как о руководителе, сформировалось плохое! Наблюдая его в работе, я пришел к выводу, что он ненастоящий коммунист. Я тут подготовил кое-какие документы о его деятельности. Предоставляю их в распоряжение комиссии.
Куприянов как сидел, так и замер с открытым ртом, будто его ударили дубиной по голове. Он моментально забыл кто он и где находится.
Члены комиссии внимательно изучили компромат Андропова, после чего Куприянов был арестован (он так и не пришел в себя, и его вынесли из кабинета на руках).
Конечно, в среде карьеристов такое поведение Андропова удивительным никак не назовешь. Карьерист всегда должен уметь переобуваться на ходу, а при необходимости в полете в воздухе.
Удивительно другое. Андропова никто никогда не считал карьеристом. Наоборот, он имел стойкую репутацию верного и порядочного человека.
Думается, что политический стиль Андропова был оригинален и сильно отличался от поведения заурядных карьеристов. Андропов никогда не подхалимничал и не лебезил перед начальством. При этом он показывал свою абсолютную преданность и не давал ни малейшего повода усомниться в себе. Переобувался он крайне редко, но что называется метко (всего три раза за всю жизнь).
Даже после ареста Куприянова репутация нашего героя нисколько не пострадала. Знающие его люди рассуждали примерно так:
– Видимо, Куприянов действительно где-то проштрафился, если ЦК партии и даже его верный друг, Андропов так считают! Дыма без огня не бывает! Андропов поступил по совести! Он поставил интересы партии выше своих личных отношений с Куприяновым!
Андропов не отправился в тюрьму следом за своим начальником, а, наоборот, пошел на повышение. В 1951 году его перевели в Москву на должность инспектора в отделе партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК.
На тот момент аппаратом ЦК заправлял Георгий Маленков. Андропов попытался войти к нему в доверие, но ему элементарно не хватило времени.
После смерти Сталина (март 1953 года) Маленков ушел руководить правительством, а аппарат ЦК возглавил Хрущев. Он моментально провел чистку сотрудников, чтобы избавиться от людей Маленкова.
Нашего героя сослали служить в Министерство иностранных дел.
Он немного поработал в аппарате МИДа, а уже в октябре 1953 года отбыл в Венгрию, где вскоре занял должность посла.
Обычно назначение государственного деятеля послом означало его политическую смерть. Так должно было случиться и в этот раз. Однако Андропов оказался крепким орешком. Весь свой изворотливый ум он направил на решение задачи, как вернуться в большую политику.
Когда Андропов приехал на новое место службы, венгерское руководство (Матьяш Ракоши и его команда), как и простые венгры, прекрасно относились к Советскому Союзу.
Андропова это не устраивало.
– Посол, который работает в мирной дружественной стране, никому не интересен! – думал он. – Другое дело, когда он работает во враждебной стране, а делает ее дружественной! Тогда посол становится героем!
Потихоньку исподволь в конфиденциальных беседах Андропов стал осторожно подталкивать некоторых товарищей в руководстве Венгрии к действиям против СССР.
– Многие в Москве считают, что держать советские войска на территории Венгрии бессмысленная трата денег! – как бы невзначай уронил Андропов в разговоре с одним из руководителей Венгрии, Имре Надем.
– Вы хотите вывести войска с нашей территории? – вскинул на него глаза Надь.
– Между нами говоря, прогрессивные силы в Москве давно хотят этого, но им мешают сталинисты! – вздохнул Андропов. – Вот если бы вы со своей стороны подтолкнули этот вопрос!
– Как?
– Например, можно устроить митинг! Пусть люди выйдут с лозунгами: «Русские, убирайтесь!». Поймите, пока венгерский народ молчит, дело с мертвой точки не сдвинется.
– Но нам точно за это ничего не будет?
– Наоборот. Именно в вас я вижу нового руководителя Венгрии!
Потихоньку Андропов раскачал некоторых венгерских руководителей, они, в свою очередь, раззадорили интеллигенцию (писателей и журналистов), те студентов, и, наконец, закипел народ.
Видя такое дело, активизировались американская и английская разведки и их подполье. Ситуацию стали подогревать западные радиостанции, широко вещающие на Венгрию. Через австрийскую границу на подпитку протестующих пошел транспорт НАТО с оружием и деньгами.
В двадцатых числах октября 1956 года венгры взбесились. Они стали захватывать государственные учреждения, убивать милиционеров, сотрудников государственной безопасности и советских солдат.
Имре Надь встал во главе восстания. Он действительно, как обещал Андропов, возглавил правительство Венгрии, правда, ненадолго.
Уже в начале ноября в Будапешт вошла Советская армия, которая быстро провела терапию и привела венгров в чувство. Наивного Имре Надя расстреляли. Венгрию возглавил креатура Андропова Янош Кадар (вначале он тоже участвовал в восстании, но почти сразу остепенился).
Сам Андропов прошел буквально по лезвию ножа. Венгры стреляли в окно его кабинета, но не попали. На нервной почве тяжело заболела его жена (она так никогда и не оправилась от шока). Наш герой получил первый инфаркт.
Однако, сыграв на грани фола, Андропов выиграл в политической борьбе и мог праздновать триумф. Хрущев, который раньше в упор его не видел, во время венгерских событий был с ним постоянно на связи. Никиту Сергеевича покорили выдержка, спокойствие, решительность и мужественность Андропова.
Результат не замедлил себя ждать. Уже в следующем 1957 году Андропова перевели в Москву и назначили начальником отдела Центрального комитета по связям с коммунистическими партиями социалистических стран.
С этого момента и в течении семи лет Андропов был верным «хрущевцем».
Никите Сергеевичу, как когда-то Геннадию Куприянову, очень нравились деловые качества Андропова, его ум, простота, а также полное отсутствие тяги к роскоши, подношениям, восхвалениям и т.д.
Если среднестатистический высокопоставленный чиновник любил, когда «в знак уважения» ему дарили ценные подарки и пели осанну, Андропов был к этому абсолютно равнодушен. Подарки он отсылал в детские дома или передавал в музеи, а, когда его начинали восхвалять, он спокойно перебивал и возвращал хвалителя к делу.
Однажды Андропову преподнесли его собственный портрет. Он поморщился, но промолчал. Но когда ему стали дарить портреты регулярно, Андропов не выдержал и приказал помощникам выбросить их все на помойку.
В ноябре 1962 года Хрущев назначил Андропова секретарем ЦК (одним из своих заместителей). В апреле 1964 года он доверил Андропову выступить на заседании, посвященном очередной годовщине со дня рождения Ленина (это был знак высокого доверия).
Начислим
+5
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе