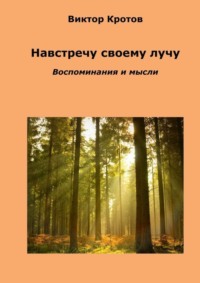Читать книгу: «Навстречу своему лучу. Воспоминания и мысли», страница 18
Целинный отряд
Летом после первого курса мы должны были выбрать себе вид трудовой практики. Можно было помогать в приёмной комиссии или поехать в один из студенческих строительных отрядов. Некоторые из них работали недалеко от Москвы, но я без колебаний выбрал самый дальний – целинный отряд, уезжавший на всё лето (так что часть экзаменов надо было сдать досрочно).
На организационном собрании было весело. Организаторами были те, кто ехал на целину второй или третий раз (командир отряда – четвёртый). Они выступали с зажигательными речами. Пока говорил очередной выступавший, я сочинял рифмованное резюме речи, кто-то писал его на листе ватмана фломастером, и под аплодисменты оратору мы выставляли ватман на всеобщее обозрение. Все смеялись.
Весело мы ехали и в поезде до Целинограда (теперь это Астана), да и на самой целине не скучали. От Целинограда мы отправились на грузовиках к месту работ, где заранее побывали наши квартирьеры, – в совхоз «Черняховский».
В первый рабочий день нас привезли в голую степь и сказали, что вот здесь мы должны построить кошару (овчарню). Этим мы, в основном, и занимались, изредка отвлекаясь на другие строительно-ремонтные работы. Начали с рытья траншей и закладки фундамента. Камень для него, а потом и для стен, надо было самим добывать на каменистых участках степи. Мы выковыривали бут (необработанный камень) ломом из земли, грузили в самосвалы и везли на стройку, мешали цемент, ставили опалубку и бросали в неё бут, заливая цементом. Устанавливали опорные столбы для крыши, а потом мастерили и саму крышу.
Работали мы «световой день» – поднимались рано утром и уезжали со стройки лишь когда трудно было различить гвоздь в руке. Мне приходилось трудновато, но физически терпимо. Больше тяготило само долгое занятие физическим трудом: думать в это время не очень-то получалось. Чтобы как-то структурировать долгий день, я брал с собой шоколадную конфету (до сих пор помню – «Каракум» местного производства, у неё в начинке похрустывали какие-то крупинки) и откусывал каждый час по кусочку, так, чтобы растянуть до конца работы.
Вечером мы возвращались вымотанными и грязными. Это не мешало группе парней, к которой принадлежал и я, устраивать в раздевалке песенную пантомиму:
– Вьюга смешала (крутили руками, имитируя работу бетономешалки)…
– Землю (все тыкали пальцем в пол)…
– С небом (воздевали руки вверх)…
– Тёмное небо (каждый показывал на что-нибудь тёмное)…
– С белым снегом (показывали на белое, найти белое что-то было труднее)…
Зачинщиком выступал Женя Отачкин119, самый колоритный из наших целинников. Коренастый, бородатый, закончивший до мехмата два или три курса мореходного училища, весельчак, циник, матерщинник, он умел и любил работать, мог вселить кураж в любую затею. Энергия из него била фонтаном, хотя какая-то более животная, чем этого хотелось.
Научился я на целине не только строить, но ещё водить грузовик и даже трактор. Трактор меня поразил своей массой, ощущаемой физически при его движении, особенно при поворотах. Вождение грузовика, на первый взгляд, не слишком отличалось от управления легковушкой, но на второй взгляд…
Юрист-старшекурсник по прозвищу Тигра, работавший в стройотряде шофёром и позволявший мне порою садиться за руль, как-то, когда мы ездили за бутом, сказал:
– Туда ещё три грузовика едут. Если не будешь первым, больше водить не дам.
Ох, я и газанул! Разогнался вовсю, а потом наехал на россыпь булыжников, и машину стало заносить влево. Я резко крутанул руль вправо и нечаянно ещё надавил на газ. Грузовик подбросило так, что мы крепко стукнулись головами о крышу кабины. Он накренился, встал на два колеса, но всё-таки не перевернулся, устоял.
Мы остановились. Юрист вытер лоб, глянул на меня и вздохнул:
– Можешь отмечать второй день рождения. Наше счастье, что мы пустые ехали, не с бутом.
На этом моя шофёрская практика на целине закончилась.
Случилась однажды неожиданная поездка – на зону. Мы и до этого знали, что где-то неподалёку есть лагерь, поскольку изредка наши грузовики останавливали и досматривали люди с автоматами в поисках кого—то сбежавшего. А тут вдруг оказалось, что у нас на объекте кончается цемент, что поставят его только через несколько дней. Единственное средство избежать простоя (снижающего заработок) – ехать самим за цементом на зону, куда пришло несколько вагонов со стройматериалами. Отправились вчетвером. На зоне мы оказались сначала у начальника лагеря, который нас строго проинструктировал: мол, здесь сидят за особо тяжкие преступления, так что необходимо быть начеку, ничего зэкам не давать, ничего от них не брать и т. д.
Когда мы подошли к вагону с цементом, то обнаружили неподалёку от него нескольких качков, лениво сидящих в теньке. Разговорились. В основном, они рассказывали о себе. Причём из их историй следовало, что все они сидят по чистому недоразумению. Наши попытки заняться погрузкой парни пресекали, уверяли, что всё будет в порядке. И впрямь, наговорившись, они велели нам сидеть, а сами, взяв лопаты, с такой скоростью загрузили нам машину, что мы и вдесятером не управились бы так быстро.
Здесь, в казахской степи, я первый раз выругался матом. Матерщина вокруг была обычным делом. Местное руководство, казалось, и не понимало обращений, не обрамлённых соответствующими словами, но для общения с начальниками у нас был командир, который умел говорить на их языке.
Работая на добыче бута из земли, я поддел изрядный камень, но лом выскользнул из-под него, и камень опустился на большой палец ноги. Больно было так, что перехватило дыхание, а когда оно вернулось, я услышал, как из меня извергаются слова, которые слышал до этого только от других, и… испытал облегчение. «Вот зачем люди матерятся», – подумалось мне. Позже ноготь почернел и слез, так что повод был не пустячный.
Потом я понял, к счастью, что связь – ложная. От любых других воплей тоже стало бы легче, просто прорвалось то, чего наслушался. Наверное, на этот крючок многие попадаются.
Печально вспомнить и прощальный «бешбармак», который постепенно превратился в лихую пьянку (всё лето у нас был «сухой закон»). Беш-бармак (мясное блюдо) там тоже был, однако водки было куда больше. Впрочем, и целинников было немало. Наш стройотряд проявил свою сплочённость, справившись с поставленной выпивкой и требуя добавки. Под харизматическим руководством Отачкина самые боевые скандировали:
– Иван Иваныч, ящик водки! Иван Иваныч, ящик водки!..
Председатель совхоза обречённо отправился будить заведующую продмагом, чтобы действительно вытащить требуемый ящик. Что было дальше, не знаю: решив, что с меня достаточно, вместе с менее сплочённой частью отряда ушёл встречать рассвет…
Рассвет в казахской степи был хорош, но его я видел лишь однажды, в последнюю ночь. Зато закаты… Степной закат, казалось, занимал большую часть мира. Оставался не заполнен оттенками красного только твой наблюдательный пятачок, которым становилась вся окружающая степь. Каждый закат имел свою динамику, своё действо. Его можно было слушать взглядом – слушать, как вселенскую симфонию. Как мне под эту музыку думалось!..
И песни… О, целинные песни! Лирические и блатные, народные и эстрадные, известных бардов и неизвестных… Песни, сочинённые предыдущими целинниками, да и нами тоже. Например, на мотив «Когда фонарики качаются ночные…»:
…Мне руки-ноги поломало серым бутом,
И рукавицы я свои давно порвал.
Машину накидал,
Об отдыхе мечтал,
А вдалеке гудит уж новый самосвал…
Миша Самбурский120, невысокий мягкий паренёк, который вёл нашу фотолетопись, ещё собирал тексты всех песен, что мы пели. Потом, в Москве, сделал несколько машинописных песенных сборников, и они пользовались большим успехом.
Ездил я на целину и на следующее лето. Правда, сначала месяц путешествовал по Средней Азии. В этот раз мы занимались строительством жилых домиков, но дух отрядной жизни был тот же.
Возвращение со второй целины было знаменательно для меня тем, что на обратном пути пробежала искорка между мной и Таней Зиновьевой – весёлой и заводной гитаристкой нашего отряда.
Потом, когда поехать на целину у меня уже не получалось, я всё равно продолжал активно общаться с целинниками. Мехматский отряд развивался, обрёл имя «Республика Тын» («тын» по-казахски – непаханая земля), узаконил знамя, под которым и мы когда-то ездили, герб (человечек с мастерком и в плавках из листа Мёбиуса, стоящий на земном шаре) и гимн. Как автору этого гимна (на мотив морской песни «Покрепче, парень, вяжи узлы», любимой Отачкиным) мне довелось остаться в истории целинного отряда мехмата. Но куда больше он остался в истории моей жизни.
Трудовая вольница
И в первой бригаде, и ещё в большей степени на целине, я столкнулся со странным ощущением. С одной стороны, приходилось как следует вкалывать. Если на целине это хотя бы можно было мотивировать заработком (правда, мы не очень-то представляли, сколько заработаем, да и мало для кого это служило основным стимулом), то на овощехранилище и денег-то никаких не давали. С другой стороны, рабочая жизнь сопровождалась замечательным чувством свободы в те немногие часы, которые оставались от трудового процесса.
Работа по-своему – физически, материально – оправдывала твоё существование на белом свете и вселяла какую-то особую освобождённость от повседневных проблем. У кого-то свобода выражалась в увлечениях, прогулках при луне и поцелуях (у нас после целины появились супружеские пары), у кого-то – в песнях возле костра (к этому и я был причастен), у кого-то – в зарабатывании денег. Мне – думалось. Я иногда писал письма, вёл урывками записную книжку, немного читал, но важнее всего было само клокотание мыслей.
Работать с мыслями я ещё не умел, так что и у них была вольница. Прилетали и улетали.
И ещё одну степень свободы дала мне целина. Я научился работать. Овладел основными рабоче-строительными навыками, умел орудовать топором, класть шифер, ставить опалубку, готовить цементный раствор и всякое другое. Привык к этой тягости, переходящей в радость, к этой особой упряжи нрава. Почувствовал и поэзию трудовой самоотдачи, и растворение личности в общем деле… Это была витаминизация свободой созидать – на всю жизнь.
Полуразрешённая культура
Почти во всё время моей учёбы на мехмате у нас был довольно либеральный партком, который смотрел сквозь пальцы на различные наши культурные мероприятия, поэтому можно было порою делать то, чего не дозволялось в других местах.
Иногда, например, у нас устраивали необычные для советских времён выставки. Запомнилась выставка Николая Недбайло, рисовавшего в наивной манере (портреты большеглазых девушек и т.п.), никак не соответствовавшей идеологии соцреализма. Понравились картины Николая Фоменко, полные топологических озарений. Сейчас он академик (известный широкой публике своим переиначиванием мировой истории), а тогда заканчивал или только что закончил мехмат.
Многое организовывал факультетский КИВ (Клуб интересных встреч, в работе которого я активно участвовал), созданный и вдохновляемый худощавым, с курчавой шевелюрой, Валентином Гефтером.
Самым ярким событием, по-моему, стал первый в СССР вечер памяти Мандельштама в 1965 году121. Он проходил в аудитории 16—10, спускавшейся крутым амфитеатром к длинному преподавательскому столу и забитой в тот день до предела. Сидели на лесенках и даже на подоконниках вверху. Естественный ажиотаж: на этот вечер собрался цвет свободной литературы. Вёл его Илья Эренбург. Выступали Варлам Шаламов, Арсений Тарковский и многие другие, кого не так-то просто было увидеть и услышать. Мне довелось встречать и провожать гостей. Помню свой трепет, когда я ехал в лифте с Эренбургом и даже беседовал с ним. И он благодарил нас за этот вечер!..
На вечере была Надежда Яковлевна Мандельштам. Она сидела в середине аудитории, теребила подаренный ей букетик цветов. Когда Эренбург сообщил, что она здесь, и все устроили овацию, она встала и, отказавшись спуститься вниз, негромко сказала:
– Спасибо. Не обращайте внимания на меня, пожалуйста. Я ещё не привыкла к почестям. И Осип Эмильевич писал: «Я к величаньям не привык…».
Это тихое и гордое «ещё» нас всех тронуло.
Поразило выступление Шаламова. Он читал «Шерри-бренди» – рассказ, посвящённый смерти Мандельштама в лагере, сам по себе трагичный и вызывающий, но особенно волнующий в исполнении автора, высокого, корявого, с какой-то изломанной жестикуляцией, нервно переживающего каждую свою фразу.
В середине рассказа Эренбургу пришла записка, он её прочитал и молча сунул в карман. Потом я узнал, что кто-то из нашего партийного начальства забеспокоился и просил Илью Григорьевича «тактично прервать это выступление». Он тактично… этого не сделал. А в заключение высказал надежду, что этот вечер поможет приблизить издание книги поэта.
Читали стихи Мандельштама. Какой-то студент Щукинского училища был приглашён специально для этого, но читал плохо, без понимания, а в одном стихотворении вообще забыл последнюю строфу.
– Я качался в далёком саду… На простой деревянной качели… – стали подсказывать из зала.
Так что слова одного из выступавших о том, что «Мандельштам – поэт широко известный в узком кругу литераторов», звучали эффектно, но были не очень справедливы.
Год спустя, когда умерла Анна Ахматова, на мехмате прошёл вечер её памяти – первый в стране, ведь советская власть до сих пор относилась к ней не очень одобрительно и как бы не заметила её ухода.
Думаю, всё это было результатом активности Вали Гефтера, как и выпуск альманаха «Гамма». Альманах носил более или менее литературный характер, но словесное творчество тогда было либо просоветским, либо… считалось неприемлемым (неважно уже, каким оно было по сути). Наш альманах просоветским не был. В нём имелись произведения с других факультетов и, кажется, даже не из МГУ. Мы решили повесить его не на мехмате, а внизу, в холле между двумя большими аудиториями. Там стоят круглые колонны, и нам пришлось раздобыть листы какого-то пластика, а на них уже прикреплять произведения.
Ничего такого уж антисоветского там не было. Но и советского не было, что считалось ошибочным для лучшего вуза страны. Так что провисел наш настенный альманах лишь один вечер. На следующий день его сняли, а «Голос Америки» (который глушили, но многие ухитрялись его слушать) сообщил, что в Московском университете вышел новый диссидентский журнал. Получалось, как бы печатный…
МГУ нередко становился и площадкой для острых спектаклей. Прежде всего, они шли в университетском театре, находившемся в здании гуманитарных факультетов. Там я смотрел спектакль «Карьера Артуро Уи»122 Бертольда Брехта (с великолепной сценой, когда одинокий человек марширует на сцене, скандируя «Что я могу сделать один?», – а потом к нему присоединяются ещё один, и ещё, и уже вся сцена полна народом, сотрясающим её и скандирующим ту же фразу). Ещё запомнился спектакль «Хочу быть честным»123 Владимира Войновича (вроде бы советский спектакль, но побуждающий переосмыслить всё, что происходит вокруг). Оба спектакля ставил Марк Захаров, тогда ещё не очень известный.
У нас, в главном здании, особое впечатление произвёл на меня выездной спектакль театра на Таганке «Добрый человек из Сезуана»124 по Брехту.
Играли Высоцкий и Славина. Спектакль меня заворожил количеством песен (там были и песни на слова Марины Цветаевой, в те времена практически запрещённой), а также игрой актёров, молодых и азартных.
Высоцкий тогда был мне совершенно не известен (хотя, как выяснилось позже, я распевал со всеми на целине некоторые из его песен, считая их народными). Но после этого спектакля я готов был идти на любое представление, в каком бы он ни участвовал. Мне удалось позже побывать на его спектаклях в театре на Таганке. И – самое печальное – на генеральной репетиции спектакля, посвящённого его памяти.
Хочется сказать немного и о музыке. Таня Зиновьева, с которой у меня со второго курса завязались особые отношения, занималась в Фортепьянном классе МГУ, и я часто оказывался там, на репетициях и концертах, в качестве благодарного слушателя. Руководила классом Ундина Михайловна Дубова-Сергеева – обаятельная и энергичная. Вдохновенный педагог, она создала этот класс ещё в тридцатые годы и вела его полвека! Занимались там студенты и выпускники университета. Для меня их исполнительское мастерство было настоящим откровением. Непрофессиональные музыканты, многие не только играли на впечатляющем уровне, но и поражали своим особенно непосредственным отношением к музыке, которое профессионалу сохранить трудно. До сих пор помню игру Димы Гальцова, Саши Дубянского, Наташи Зимяниной…
В классе Ундины Михайловны когда-то занималась Наталья Решетовская, первая (а тогда и единственная) жена Солженицына. Она уже не выступала, но с Ундиной Михайловной поддерживала добрые отношения. В частности, приносила последние работы Александра Исаевича. Иногда Ундина Михайловна, зная моё пристрастие к литературе, давала почитать их мне, буквально на день. «В круге первом» я читал в авторской машинописи, с рабочими замечаниями Солженицына на полях, и это делало книгу особенно достоверной.
Круги общения
Нашу первую бригаду разнесло по всем трём отделениям мехмата, а целинники были вообще с разных курсов, – поэтому ниточки общения проникали для меня по всему факультету. Это не значит, разумеется, что я был знаком со всеми на факультете, но воспринимал его как единую среду общения. Хотя, если возможен общий эпитет для всех мехматян, то это слово «разные».
Но всё-таки попробую описать несколько основных кругов общения (точнее говоря, линий).
Один круг составляли наши одноклассники – вернее, уже первая бригада – со всякими дополнениями. Своими стали и Саша Лукшин, массивный, громко смеющийся, и его приятель-одноклассник Саша Денисов, худой, высокий и тоже умевший бурно веселиться. Лукшин позже женился на Лене Белкиной из нашего класса, так что мы вроде как все и породнились. Всё это были, в основном, москвичи.
Другим кругом стали для меня целинники. Здесь многие были иногородними, жили в общежитии, и я проводил там немало времени. Как и все, дружил с Валерой Ященко (не дружить с ним было невозможно, таким он был доброжелательным и улыбчивым) и его будущей женой Верой Портянниковой, высокой и стремительной. Временами вёл дискуссии с Валерой Лезнером (позже – Деснянским), нашим энергичным целинным командиром. Саша Тизик, с небрежно расслабленными повадками, приохотил меня к игре в «го». Даже когда он закончил мехмат (на пару лет раньше меня), мы с ним пытались играть по переписке (не было ещё электронной почты, всё на бумаге). Но го – это не шахматы, и одну-единственную переписочную партию мы так и не доиграли.
Была ещё Заочная математическая школа, о ней чуть ниже. Был Клуб интересных встреч, о нём чуть выше. Любопытно, что все эти круги, хотя и существовали внутри мехмата, никак не определялись математическими интересами. Тяги к профессиональному, цеховому общению у меня не было. Не воспринимал я как компанию ни свою изначальную сто шестую группу, ни однокашников по кафедре вероятностей, где я учился после выбора специализации.
Может быть, вообще в студенческие годы для общения важнее не то, чему вместе учишься, а какие-то другие человеческие особенности?.. Или мне уже не хватало интереса к математике, чтобы он был объединяющим элементом?..
Научный атеизм в религиозной интерпретации
На мехмате, как и повсюду при советской власти, студенты обязаны были изучать «общественные дисциплины». Если попадался догматичный преподаватель, это становилось довольно противным занятием. Но бывали исключения. По-моему, на мехмате они возникали чаще, чем на других факультетах.
Повезло нам, например, с историей философии (может быть, название курса было и другим, более идеологическим, но содержание его было именно таким). Помню только фамилию преподавательницы: Киселёва. По тогдашнему долгу службы она раскрывала нам порочную сущность идеалистического мышления, но по свойству характера терпимо, даже поощрительно, относилась к самостоятельным взглядам на философию. В сессию я с азартом рассказывал о своём любимце Сократе и о мудрости его взглядов на жизнь, но никаких пагубных для зачётки последствий не возникло.
Когда надо было сдавать зачёт по научному атеизму (сама мысль об этом вызывала зубную боль), экстравагантный выход придумал Матвей Блехерман. Компанией из трёх человек (третьим был наш однокурсник-поляк) мы отправились к преподавателю и попросили принять у нас экзамен досрочно, причём в нетрадиционной форме. Один из нас будет излагать материал с точки зрения правоверного иудея (эту роль взял на себя Матвей), другой – с позиции буддиста (я тогда много читал восточной философско-религиозной литературы), а третий – будет отвечать, как католик (наш третий компаньон, собственно, и был католиком).
Преподаватель сначала был несколько ошарашен нашим предложением, Но, подумав, согласился – при условии, что мы не будем об этом распространяться.
Пожалеть никому не пришлось. С таким энтузиазмом каждый из нас играл свою роль и с таким интересом мы все задавали друг другу уточняющие вопросы, что научный атеизм остался лишь условным обозначением нашей встречи.
Начислим
+8
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе