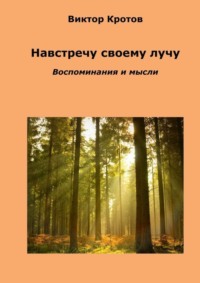Читать книгу: «Навстречу своему лучу. Воспоминания и мысли», страница 17
Врастание в традицию
Пятьдесят второй школе – уже после того, как мы её закончили, – суждено было, как и сороковой, волею чиновников почти раствориться в небытии. В 1993 году ей определили превратиться в гимназию №1415. Но учителя, а вслед за ними и ученики, не захотели отрекаться от своей истории. Настойчиво и последовательно они пишут после номера гимназии: « (школа №52)». Номера меняются, традиция остаётся. Но чтобы её отстоять, врасти в неё, нужна инициатива. И нужно, чтобы она исходила не от чиновников (о, эта чиновничья инициатива! читайте Салтыкова-Щедрина, мало что изменилось), а от нас самих.
Это из гимназии 1415 мне пришла просьба указать одноклассников на фотографии с приглашением на юбилейный вечер. И, хотя я не смог побывать там, но с удовольствием смотрел онлайновую трансляцию встречи учителей и бывших учеников – и гимназии, и пятьдесят второй школы.
Это гимназия 1415 издала сборник общих воспоминаний, где есть и моя страничка с фрагментами из той главы, которую ты, читатель, сейчас читаешь.
Так что, можно сказать, я учился, не зная о том, не просто в пятьдесят второй школе, но и в гимназии четырнадцать-пятнадцать, в которую моей школе предстояло превратиться.
На литературную студию «Росток» ко мне ходила девочка Лиза Левина, чем-то напоминавшая подростковые фото моей мамы. Оказалось, что она как раз из гимназии №1415 (школы №52). Узнав про это, я ощутил себя выпускником какого-то традиционного учебного заведения, вроде Оксфорда. Поколения сменяют друг друга, школа лишь развивается. Пусть пятьдесят второй не восемьсот лет, а всего лишь пятьдесят. Семь-восемь веков промелькнут незаметно.
Все на мехмат!
«Все» – это, конечно, преувеличение. Но преподавательский успех Левитаса был несомненным. Больше половины нашего класса, человек двадцать, решили поступать на мехмат. Несмотря на конкурс в 27 человек на место. Правда, мы имели в виду возможность при неудаче поступить ещё куда-то, ведь в МГУ экзамены пораньше.
Забегая вперёд, скажу, что удалось поступить десяти. Это не значит – десяти лучшим. Тогда ещё не была развита глобальная индустрия финансового смазывания механизма поступления, но действовали законы блата и некоторой идеологической фильтрации. А главное – экзамены во многом были лотереей.
О заключении отца я в анкете не упомянул. Иначе о поступлении можно было бы забыть и документы вообще не подавать.
Задачи на письменном экзамене по математике были мне вполне по силам, кроме одной специальной задачи, предназначенной для поиска гениев. Ведь готовились мы активно, во множестве решая варианты прошлых лет и сборники трудных задач. Однако, свободно справившись с одной из обычных задач, я ошибся в мелочи, в арифметике. Придя домой, перерешал задачи заново и обнаружил, что из-за этого мне светит лишь тройка, а значит шансов поступить у меня практически не остаётся. Я даже написал маме в пионерлагерь письмо, где сообщал, что с механико-математическим не получилось и придётся поступать в какой-нибудь мясо-молочный.
Но всё-таки я пошёл на следующий экзамен – устную математику. Там успешно ответил на билет, и молодой приветливый преподаватель спросил после того, как я решил пару предложенных им дополнительных задачек:
– А что ж ты за письменную работу тройку схлопотал?
– Да у меня свойство такое: в арифметических мелочах ошибаться, – честно отрапортовал я. – Пришёл домой и обнаружил, что ответ другой. Могу даже показать в черновике место, где ошибся.
– Покажи. – У него лежала моя работа, чистовик и черновик (который тоже полагалось сдавать в конце письменного экзамена).
Показал.
– Ну, давай я тебе аналогичную задачу дам.
Аналогичную я решил без ошибки.
– За устный я тебе пять ставлю, а за письменный исправлю тройку на четвёрку, – неожиданно объявил он.
«А так бывает?» – подумал я, но возражать не стал.
Было 14 июля 1964 года. «День взятия Бастилии» – гласила надпись на отрывном календаре. С тех пор у меня вместе с французским народом в этот день праздничное настроение.
Физику я знал слабовато. Мы ожидали вызова у входа в аудиторию, где принимали устный экзамен, и, как положено, волновались. Но когда Миша Горнштейн, знавший физику вдоль и поперёк, вышел с тройкой, волнение перешло в лёгкую панику. Хотя ясно было, что Мишу не знания подвели, а фамилия (известно было, что приём евреев старались жёстко ограничить).
И тут вдруг перед нами возникла Инна Львович. Она училась в «А» на класс старше, поэтому поступила сюда на год раньше, а теперь отрабатывала летнюю практику, помогая экзаменаторам. Инна была девушкой активной, решительной и заботливой.
– Я как раз им бумаги несу. Скажу, что вы хорошие, раз из пятьдесят второй, – ободрила нас она и вошла в аудиторию.
Через несколько минут вышла, ободряюще кивнула и отправилась по дальнейшим бумажным делам.
Наверное, заступничеству Инны Львович (маленькому клановому блату) я был обязан своей пятёркой по физике. Отвечал сносно, но вопросы были уж какие-то подозрительно лёгкие.
Такой поворот событий позволял мне не опасаться даже четвёрки по сочинению. Но тут сработало моё не очень-то осознанное призвание. По сочинению поставили только три пятёрки. Одна из них принадлежала мне. Это был, видимо, улыбчивый сигнал Луча: пусть на мехмат, но с пятёркой по литературе.
Теперь меня не касалась проблема полупроходного балла (с которым кого-то принимали, а кого-то нет), экзаменационные беспокойства завершились. Я стал мехматянином.
Глава 5
Мехмат и философия
(1964—1970)
Этой главы, вернее, охваченных ею событий, вполне хватило бы для биографии. Студенчество, заграница, женитьба, дети, работа в Академии наук, педагогика и философия… Куда же больше? Но получается, что это лишь замыкающая глава первой части. И столько ещё впереди, что иногда кажется, будто прожито несколько жизней.
И вместе с тем – сколько бы в жизнь ни вместилось, она исполнена внутренней цельностью, которую замечаешь далеко не сразу. Мне понадобилось пять лет активной мемуарной работы, чтобы начать улавливать связи, о которых долго я и понятия не имел. Не только о собственной жизни говорю. Каждая судьба, с которой довелось встретиться, удивляет и завораживает своим виртуозным узором событий, знаков и поступков.
Впрочем, вплетать свои поступки в узор происходящего не так-то просто, и сейчас пойдёт речь о периоде, когда я ещё совершенно не умел этого делать. Судьба ко мне была снисходительна. То и дело она давала мне новые возможности, а то и сама вплетала меня в намеченный ею рисунок.
Первая бригада
В те времена студенческие трудовые работы практиковались часто. Но когда нам сказали, что мы поедем работать перед началом первого семестра, не получив ещё и студенческих билетов, у нас, поступивших, возникло некоторое удивление. По-видимому, после трудностей поступления на мехмат само зачисление считалось уже достаточной наградой, и можно было распоряжаться человеком произвольно. Вот нами и распорядились: направили возводить овощехранилище неподалеку от недавно основанного городка физиков Протвино в Серпуховском районе. Денег не платили – это тоже было в порядке вещей.
Первая бригада этого стройотряда была образована на основе готового коллектива – десятка человек из одного нашего класса. Нам лишь добавили ещё четверых, но они быстро были впитаны нами.
Задача нашей бригады состояла в том, чтобы устраивать вокруг стен хранилища песчаные откосы и обкладывать их дёрном. Для поездок за дёрном нам выделяли грузовик. Ездили в кузове, с ветерком, романтично.
Дёрн тоже резали с удовольствием. Тем более что в день дерновых работ мы гоняли обедать в Протвино. Там в столовой были такие вкусные салатики, о которых в нашем студенческом лагере можно было только мечтать. Катаясь на грузовике в Протвино, мы видели какую-то толстую трубу вдоль дороги и для себя объявили её «ускорителем». Наверное, эта была просто теплоцентраль.
Жили мы в каких-то больших бараках, но быт нас, естественно, не очень заботил. Костры, песни (даже свой гимн сочинили), дискуссии на всевозможные темы…
Однажды речь зашла о нашей основной работе – создании насыпи вдоль стен хранилища. Сложность состояла в том, что дожди то и дело размывали насыпанный песок и приходилось снова и снова засыпать промоины. Мы стали обсуждать, кто сколько лопат песка перебросил за день.
– Странно, – скептически заметил Матвей Блехерман. – Обычно трудовые люди хвастаются, кто сколько профилонил, а вы – кто сколько вкалывал…
Рафинированный интеллигентный Матвей был человеком начитанным и остроумным. Мы с ним дружили, позже я бывал у него в гостях; родители его занимались каким-то надомным рукоделием, хотя это была именно интеллигентская семья. Думаю, что дело было в их перпендикулярности советской власти. Каково же было моё удивление, когда на одном из старших курсов я узнал, что Матвей учится на вечернем отделении Высшей партийной школы. Он рассказывал, какие им там читали лекции по всяким философским и социологическим дисциплинам, очень интересная оказалась программа. Только через некоторое время я узнал, что это был чистый розыгрыш.
На пятом курсе Матвей женился на Алле Бродинской из нашего класса. Много лет старался найти приложение своему научному таланту, но потом всё-таки они уехали в США.
Присоединившимся членом первой бригады была Вилена Беляева (имя от «В.И.Ленин», во времена её родителей увлекались таким конструированием). Кругленькая, весёлая, она оправдывала своё имя только в одном: терпеть не могла анекдотов про Ленина.
Вилена мне нравилась, а ей нравилось, что она мне нравится. Поэтому мы платонически симпатизировали друг другу на общем дружеском фоне – весь первый курс. Потом остался только дружеский фон.
Руководителем стройотряда был Борис Брудно117. Высокий, смуглый, горбоносый, пассионарный, на собраниях он простирал вперёд руку и возглашал:
– Парни!.. – со взрывчатым «п».
Конечно, парней было больше, но и девушек было заметное количество. Впрочем, они не обижались.
Как-то он подошёл к нашей бригаде и стал упрекать за медленную работу.
– Чего тут возиться? – восклицал он. – Подумаешь, промоина! Пять лопат песка – и нет её.
– Попробуешь? – с хитрецой поинтересовался кто-то из нас.
– Глядите, – Борис схватил лопату, набрал её с верхом и бросил в промоину.
Песок исчез бесследно.
Мы согнулись от хохота: ясно было, что меньше, чем сотней лопат песка, тут не обойтись. Брудно кидал песок ещё несколько минут, но без видимого результата. Наконец, он крякнул, бросил лопату и ушёл.
Уже после мехмата Брудно заезжал ко мне в гости. Тогда он работал в книгохранилище Ленинки… сантехником. Видимо, готовился уезжать. Тогда зачастую перед эмиграцией человек уходил из научной сферы, чтобы не подводить коллег, которых начальство упрекало за «отъезжантов», заставляя публично осуждать их. Действительно, Борис вскоре уехал в Израиль и там со свойственной ему пассионарностью энергично включился в политическую борьбу.
Бориса привозил ко мне в гости Витя Кислухин (он не был в первой бригаде, но мы с ним сдружились именно на овощехранилище) – рыжеватый и немного неуклюжий. И сейчас мы изредка переписываемся по электронной почте, а иногда он даже приезжает в гости. Увы, он в Америке, специалист по моделированию кровообращения, с ним его жена Татьяна, тоже бывшая мехматянка, а дети остались здесь. Мечтает вернуться, но здесь, в отличие от там, не востребован.
Наша бригада стала переходным мостиком от нашего класса к мехматской компании, к которой присоединялись и другие, но ядром оставалась именно первая бригада. Незаметным цементирующим началом этой компании (как и послешкольной жизни девятого «А») была, пожалуй, Таня Безрученко. Я ей даже оду посвятил к одному из дней рождения. Сейчас понимаю, что Татьяна была ответом на вопрос, которым я задавался ребёнком в пионерлагере: может ли мальчик просто дружить с девочкой? Мы могли.
Альма мехматер
Университет ли является моей альма матер – или конкретно мехмат? Не знаю, можно ли ответить на этот вопрос абстрактно, но моё университетское сознание было довольно мехматоцентричным. Этому способствовало и само расположение факультета: в центральном здании, в самой середине его. Там, где снаружи проходит декоративная коричневая полоска.
От мехмата отсчитывалось всё остальное. Вбок – переход в общежитие, вверх – географический факультет, вниз – геологический. Ещё ниже – университетское руководство, а совсем внизу – две большие аудитории, книжные прилавки, актовый и театральные залы, столовые, БУП (с очередей в библиотеку учебных пособий началась наша учёба), и много чего ещё…
Но самое родное – мехматские этажи, с двенадцатого по шестнадцатый. Длинные коридорные прямоугольники, по которым в перерывах между занятиями прогуливались юные перипатетики118. Попадались среди них экзотические внешности – например, высокий беловолосый парень, всегда улыбающийся своим мыслям, а иногда беззвучно прошёптывающий их. Бродили и трогательные парочки, держась за руки. Широкие мраморные подоконники у больших окон позволяли играть монетками в футбол. Массивные столы в аудиториях стойко переносили напор гоп-допа, у дверей библиотеки грудой лежали небрежно брошенные сумки и портфели тех, кто сидел в читальном зале.
Конечно, я бывал и на других факультетах, и в различных общеуниверситетских владениях, да и некоторые мехматские лекции проходили в аудиториях 01 и 02, расположенных на первом этаже, но всё-таки «альма мехматер» и был моей «альма матер».
Учёба и чтение
Учиться было не очень-то легко, хотя до поры до времени чрезвычайно интересно. Высшую алгебру у нас читал Александр Геннадиевич Курош – высокий, грузный, лысый, страстный. Математический анализ вёл Михаил Александрович Крейнес, внешне противоположный Курошу, но тоже переживающий за каждую формулу, за каждую теорему. Хороших преподавателей было много.
При этом я всё чаще стал прогуливать, уже на первом курсе. Дальше – пуще. Причиной стало моё малоэффективное восприятие лекций со слуха. Куда естественнее для меня было посидеть с конспектом (обычно чужим), с книгами, обдумать всё со своей скоростью усвоения, а не со скоростью лекторского напора.
Сдавать экзамены и зачёты я постепенно приспособился, во многом благодаря конспектам Тани Безрученко, с которой мы учились в одной группе, и других доброжелательных девушек (у них лучше получалось конспектировать, чем у парней, да и лекции они реже пропускали). К экзаменам я старательно делал шпаргалки, структурируя и минимизируя информацию так, что сами шпаргалки, собственно, уже и не очень требовались. Как можно пользоваться чужими шпаргалками, – это для меня было загадочно.
Физика (а потом и механика) оставалась моей ахиллесовой пятой. Особенно это проявилось на семинаре по теоретической механике, который вёл у нас тридцатилетний Владимир Игоревич Арнольд. Уже тогда он был учёным с мировым именем, ещё не академиком, но лауреатом Ленинской премии. Сейчас, когда я пишу, ему как раз вручают вторую (Государственную).
Семинар – это не лекция, здесь надо отвечать, решать, доказывать. Любимым студентом Арнольда в нашей группе был Олег Козлов – парень с мощным нестандартным мышлением (поведение его было тоже необычным; например, однажды, не желая выходить из общежития за едой, он несколько дней жил, питаясь канцелярским казеиновым клеем). С Олегом Арнольд мог дискутировать большую часть занятия, иронически улыбаясь своей постоянной одесской улыбкой.
Но полагалось и других спрашивать. Дошла однажды очередь до меня. Я вышел к доске, надо было разобрать какую-то формулу. Одна буква в ней меня заинтересовала.
– А это что за «J»? – с любопытством спросил я у Арнольда.
– Момент инерции, – с невыразимым удивлением в глазах медленно ответил тот.
– Забыл… Что это такое? – попросил я уточнить.
Арнольд замер в шоке.
– Садитесь, пожалуйста, – тихо сказал он и навсегда перестал меня замечать.
На экзамене я попал к другому преподавателю, вздохнув с облегчением. Ведь Арнольд мог отложить, посмеиваясь, твой билет с подготовленным ответом, закрутить на столе маленький волчок, и, полюбовавшись им, сказать:
– А теперь напишите мне, пожалуйста, уравнения, описывающие его вращение.
С таким «билетом» я бы не справился.
Одновременно с учёбой студенческой всё интенсивнее с каждым годом становилась учёба внестуденческая: чтение.
Читал я и раньше много, но в основном беллетристику. Теперь же чтение шло во все стороны. Случилось два важных открытия.
Первое – что классика означает не архаичность, а прямое общение с автором сквозь время, что этот автор иногда ближе тебе и выразительнее (в смысле понимания насущных для тебя переживаний), чем любой современник. Несколько раньше я стал ощущать это применительно к стихам, теперь обнаружил: то же самое проявляется и в других жанрах. Смеялся в голос, читая Стерна, входил в резонанс с Достоевским, упивался «Дао дэ дзин»…
Второе открытие – что философы прошлого пишут о вещах, очень важных и для сегодняшнего человека, что у них можно учиться понимать жизнь и себя самого. Более того – у них можно научиться самому думать о том, от чего зависит твоя судьба и каждый день твоей жизни. Ошеломительное открытие! Математика, может быть, и «царица наук», но философия – нечто большее. От философии, от твоего мировоззрения зависит смысл любых дел, в том числе занятий математикой.
Чтение стало для меня настолько существенной частью жизни, что я то и дело составлял для себя списки книг, которые надо прочесть, а в гостях при первой возможности начинал изучать содержимое книжных шкафов. Постепенно у меня выработалась некая система: чтение шло по трём направлениям. Первое – в соответствии с составленным списком (то, с чем обязательно надо познакомиться). Второе – по рекомендации друзей и знакомых (особенно когда говорят: «На, прочти!»). Третьим направлением было случайное чтение, когда что-то вдруг подвернулось под руку. Первое позволяло руководствоваться собственным разумением, второе – учитывало разумение окружающих, третье – не давало впасть в чрезмерную зависимость от того или от другого.
И мехматская учеба, и чтение совершали во мне одну и ту же работу: образовывали мышление. Но чтение, кроме этого, формировало меня самого. На пару с жизнью, конечно.
Путь и цель обучения
Что такое система образования и кто её создаёт? Учитывает ли она, прежде всего, интересы специальности или интересы личности? Каковы образовательные цели и насколько получается их достичь? Да и задаётся ли кто-нибудь всерьёз (не чисто прагматически) этими вопросами, или решающее слово остаётся за возвратной частицей? Такая, мол, сложилаСЬ традиция…
Читателю нечего бояться, я не собираюсь здесь пытаться ответить на эти вопросы (главным из которых, по-моему, является вопрос об интересах личности). Будем считать их риторическими. Но для тех, кто согласится, что они имеют всё-таки практический смысл, выскажу своё свидетельство и некоторые соображения.
Сейчас, когда я оглядываюсь не только на студенческие годы, но и на десятилетия после них, мехмат представляется мне мощной щёткой, как следует прочистившей моё мышление. Математика в различных вариациях демонстрировала мне мощь и границы логического рассуждения, парадоксальный симбиоз строгости и образности доказательств, свободу обращения с конечными и бесконечными категориями…
Знакомясь с судьбами мехматян (или выпускников Физтеха и других «сильных» институтов, где система естественно-научного образования была отшлифована долгим временем и усилием крупных учёных), я отчётливо видел, что такая постановка мышления позволяет потом эффективно проявлять себя в самых разных сферах деятельности, вплоть до чисто гуманитарных.
Отсюда можно сделать вывод, что путь и предмет математического образования успешно действуют сами по себе, безотносительно к очевидной общественной цели: подготовить учёных – математиков, механиков, вычислителей (из таких трёх отделений состоял тогда мехмат).
Кто-то из тех, кто советовал мне выбрать естественное образование, наверное, имел в виду сугубо утилитарный подход к будущей специальности (практичнее быть «физиком», а не «лириком»), но кто-то наверняка подразумевал и качество подготовки к творческой жизни.
Не оставляет меня ощущение, что и Луч, не торопясь снабдить меня указаниями на призвание, способствовал оптимальному образовательному пути. Мало ли что писатель! Прочистить мозги не помешает. А если философией заниматься – так тем более.
Начислим
+8
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе