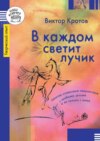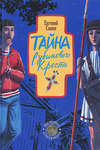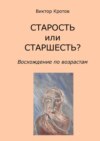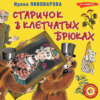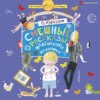Читать книгу: «Государство чувств. Ориентирование во внутреннем мире», страница 4
Часть третья. Главные чувства
Размышления и сны
Чувство дружбы: любовь к ближнему
Дружелюбие и дружеская любовь
Чувство дружбы относится к наиболее естественным, наиболее привычным человеческим чувствам. Но диапазон его велик: от тёплого приятельства до пронзительной страсти. Можно до бесконечности изучать закономерности психической механики дружбы. Можно выделить дружбу-привычку и дружбу-отдушину, дружбу-полезность и дружбу-долг, дружбу-господство и дружбу-рабство… И всё же попробуем сосредоточиться не на психологических подробностях, а на основных чертах этого чувства. В чём же они, эти основные черты?
Наверное, сердцевина чувства дружбы – это любовь, если не бояться обращения к такому пронзительному слову. Надо лишь его уточнить. Любовь дружеская отличается от любви мужчины к женщине и женщины к мужчине отсутствием того особого напряжения, которое существует между полюсами пола. Дружеская любовь отличается от любви милосердия своей определённостью, направленностью именно на этого человека. Чувство дружбы в его наиболее светлых проявлениях – это и есть любовь к ближнему, к тому самому конкретному живому человеку, который рядом с тобой.
Не всегда, конечно, чувство дружбы становится такой любовью. Для нас важно, что оно может ею стать. Что-то приходит к нам само, чем-то мы можем помочь или помешать развитию чувства. И особую роль в этом играют два наших душевных качества: общая расположенность к дружбе (дружелюбие) и глубинная способность к дружеской любви.
Дружелюбие создаёт множество возможностей. Оно заметнее как человеческое свойство. Оно облегчает возникновение дружеского чувства, но не определяет его судьбу. Некоторые люди способны устанавливать симпатическую связь с первого знакомства, но не умеют ни с кем выйти за пределы тёплой приятельской расположенности.
Глубинную способность к дружеской любви обнаружить в себе труднее, но вряд ли она может вовсе отсутствовать в человеческой душе. Разведка и добыча этого драгоценного энергоносителя – важная задача внутреннего ориентирования.
Сон об усилиях милосердия
Комната, куда я вошёл, была заставлена шкафами и столами, но в ней не было ни дивана, ни кровати. Посреди комнаты лежало расшитое покрывало, а на нём страдало существо. Что за существо, откуда оно взялось – это мне было неизвестно. То ли с летающей тарелки, то ли из другого измерения. Существо было тонким и полупрозрачным. Оно мерцало перламутровым светом, и ему было плохо. Заметив меня, существо замерцало немного ярче, но чувствовалось, что из него уходят последние силы.
Помочь мерцающему существу никто, кроме меня, не мог: мы были одни в комнате, в доме, а может быть и в городе. Я рылся в шкафах, находил еду и лекарства, пытался укутать существо одеялами, чтобы его согреть, но всё это было не то. По мерцанию я понимал: не то, – но не мог понять, что же нужно. В доме стояла тишина, улица была пустынна, на чью-то ещё помощь рассчитывать было невозможно. Я притащил таз с водой для увлажнения воздуха, ставил пластинку с музыкой, включал вентилятор, калорифер, ионизатор, задергивал шторы, но всё это было не нужно.
Перепробовав всё, что мог придумать, я сел рядом. Может, его погладить? Я протянул руку, но почувствовал острые покалывания электрических разрядов. Это не была оборона: существо глядело на меня с надеждой и мольбой. А я ничем помочь не мог.
Мной овладело отчаяние.
Я склонился к мерцающему существу – и вдруг заметил, что словно отражаюсь в нем, в его груди: там виднелась моя крошечная фигурка, оцепеневшая в отчаянии. Но вот эта фигурка шевельнулась, встала, взглянула на меня, сидевшего неподвижно, и поманила меня к себе…
И я понял. Это существо просто ждёт меня, моего внутреннего внимания, моей любви – а я пытаюсь отделаться от него какими-то предметами. «Вот я здесь, с тобой», – подумал я, и тёплая волна нахлынула на меня. Существу становилось всё лучше и лучше, а мне – радостнее и светлее. Я заметил, что тело моё стало прозрачнее, и в груди виднелась крошечная фигурка мерцающего существа.
Мы поели, весело перекидываясь мыслями, и выбежали из дома на улицу, которая неожиданно оказалась оживлённой и многолюдной.
К себе или от себя
Во всём разнообразии дружеских чувств можно выделить две основные тональности, две возможных направленности чувства дружбы: к себе и от себя. Что лежит в основе моего чувства дружбы к этому человеку – потребность в собственном душевном удовлетворении или внимание к другу, к другому человеку?
Когда чувство дружбы направлено «к себе», оно удовлетворяет нашу потребность в наперснике, в особых отношениях с кем-то, не так важно с кем, даже потребность в альтруизме (границы которого весьма удобным образом сужены до одного человека) … Основным ориентиром такого чувства остаюсь я сам, мои особенности и мои устремления. При этом я могу быть снисходителен к другу, а могу быть и требователен: он должен не мешать мне дружить с ним.
Чувство дружбы, направленное «от себя», сосредотачивает меня не на своей личности, а на личности друга. Оно становится шансом на освобождение от сковывающей силы эгоцентризма. Требовательность относится уже не к другу, а к себе самому. За друга испытываешь ответственность, а это переживание совсем другой природы. Оно не исключает требовательности к другу, но это лишь часть борьбы за то, чтобы друг был самим собой. В этой борьбе мы можем стать для другого той точкой опоры, которую он не смог найти в себе. Требовательность здесь непременно сочетается с терпимостью, и усилия дружбы оказываются плодотворнее усилий любого иного чувства.
Обе направленности чувства дружбы могут довольно органично сочетаться друг с другом. Если один из этих импульсов становится основным, то возникает – как следствие – и второй. И всё-таки кажется, что наша человеческая задача – в постепенном движении от природно-естественного «к себе» к духовно-естественному «от себя».
Сон про магазин дружб
В зале было на удивление пусто. Никакой очереди нуждающихся в дружбе. Длинными рядами тянулись стойки, на которых, как пальто или костюмы, болтались на вешалках бумажные фигуры в человеческий рост. Лицом каждой фигуры была большая фотография, а вся остальная поверхность была покрыта текстом. Фигуры слегка колебались под медленными потолочными вентиляторами, рождая ощущение безмолвной терпеливой толпы, ожидающей невесть чего.
– Чего изволите?
Это был длинный отутюженный продавец. Лицо его выражало полнейшее равнодушие, а полусогнутая поза – величайшую угодливость. Целлулоидные глаза обежали меня с ног до головы, и продавец понимающе кивнул. Бесшумным скользящим шагом он подплыл к одной из стоек, выбрал несколько вешалок с фигурами и направился к плюшевой шторе, изогнувшись на мгновение в мою сторону:
– Пожалуйте в примерочную.
В комнатке за шторой не было зеркала, зато стояло кресло, в которое я был незамедлительно усажен. Продавец вывесил на дальней стенке одну из фигур. Лицо было приятное. Надписей было много, но я мог прочесть только две верхних, наиболее крупных: «НАДЁЖЕН» и «ОСТРОУМЕН». Продавец пододвинул мне поднос с биноклями. На каждом бинокле был указан срок: «Через 2 года»; «Через 5 лет»; «Через 10 лет»… Чем больше был срок, тем более мелкие надписи мог я различить на фигуре. Это означало, видимо, что через пять лет я пойму ранимость своего друга, а через десять – его внутреннюю сосредоточенность.
Когда я перебрал все бинокли, продавец подскочил к фигуре и перевернул её на другую сторону, где лицо было искажено гневом, а надписи были сделаны на мрачном фоне, отчего различить их было гораздо труднее. Здесь были обозначены отрицательные качества предлагаемого друга.
Видя, что я не проявляю энтузиазма, продавец заменил фигуру на другую, потом на третью. Замешательство моё становилось всё сильнее. «Извините», – пожав плечами, произнёс продавец, вынул из кармана трубочку с аэрозолем и брызнул мне в лицо. Я почувствовал, что всё во мне замерло, тело стало плоским, лицо застыло… Продавец подхватил меня, прицепил на свободную вешалку и понёс в зал.
Дружба – встреча чувств
Не будем путать чувство дружбы с тем, что называют просто дружбой. Дружба – это сочетание двух чувств, их взаимодействие, их развитие, их общие условия существования. Чувство дружбы – это круг индивидуальных переживаний, порою находящих отклик, порою односторонних, но всегда разворачивающихся в душе одного человека. Наверное, не бывает поэтому идеально симметричной дружбы, да и не может симметрия относиться к её достоинствам. Но если чувство дружбы остаётся совершенно безответным, что-то не так, по-видимому, в нём самом.
Как и любовь, дружба создаёт особое родство между людьми. В нём можно разглядеть большое или малое чудо преображения: чужое переходит в своё, стороннее в близкое, инородное в любимое. И когда это чудо возникает, многое зависит от того, какое мы примем в нём участие.
Чувство дружбы открывает перед человеком один из путей к душевному творчеству. К творчеству – с его удачами и неудачами. Здесь существуют и свои основы мастерства, и приливы вдохновения, и поиски творческого стиля. И, как во всяком творчестве, – выбор между мастерством и ремесленничеством.
Живые лица
Отвлекусь немного от книги, посоветовав то же самое и читателю. Если вспомнить те дружеские чувства, которые испытывал в прошлом, если подумать о тех своих друзьях, с которыми и сейчас связывают живые нити, можно попробовать на вкус, на соответствие жизни те мысли, о которых шла речь.
Вот передо мною встают лица моих друзей. Вот одно из них – родное и привычное. К себе или от себя направлено это моё дружеское чувство? Могу ли я мысленно войти в его обстоятельства жизни, почувствовать его боль и откликнуться на его интересы? Вкладываю ли я в наше общение свои творческие способности или просто позволяю им течь согласно рельефу повседневности?.. Ну-ка, ну-ка, не экономлю ли я здесь свою душу – и не слишком ли многое теряю на этой разорительной экономии?.. А здесь?.. А здесь?..
Без живых лиц, вошедших в мою или в твою судьбу, безжизненны мои или твои размышления. В этом смысле – почаще бы нам отвлекаться от книги!..
Сон про зеркальную дверь
Вокруг возвышались осанистые сосны с высокими кронами. Под ногами пружинил хвойный ковер. Мы шли с Альтером вперёд, зная куда надо идти, но не зная зачем. Альтер, мой лучший друг, шёл рядом, и нам обоим дышалось легко. Сосновый бор перешёл в смешанный лес. Нас вела тропинка, с которой уже нельзя было свернуть, – так плотны были заросли, подступающие справа и слева. Вдруг Альтер схватил меня за руку – и вовремя. Тропинку перегораживала высокая зеркальная дверь.
В зеркале отражались деревья, трава и небо, но не было наших с Альтером отражений. Сделай я ещё шаг, я ударился бы об эту дверь со всей энергией беспечного путника.
Но Альтер, остановив меня, шагнул вперед, приоткрыл дверь и исчез за ней. Я подождал в растерянности, надеясь, что он тут же вернётся. Потом решился – и тоже вошёл.
В нескольких шагах от себя я увидел Альтера. Он был не один: рядом стояли два других человека. Их лица вызвали во мне смятение. Один из них был похож на Альтера. Точнее, Альтер был похож на него: это был, так сказать, Альтер-Альтер. Его лицо было не столь обаятельно, но оно было глубже и значительнее. На лице Альтера-Альтера отражались такие переживания, которых я и не подозревал в своём друге. Казалось, каждый час прожитой жизни оставил на этом лице свой отпечаток.
Лицо второго незнакомца тоже было мне знакомо. Это было моё лицо. Моё – и не моё. Мой двойник выглядел веселее и легкомысленнее, он с любопытством оглядывался по сторонам, но мне он напоминал фотографию, снятую с большого расстояния, на которой узнаёшь общие черты, – лицо, в которое невозможно вглядеться. Он обратился с какой-то малозначащей фразой к Альтеру, к моему Альтеру, с которым мы шли до сих пор рядом, и тот что-то ответил ему, как будто кроме них двоих здесь никого не было.
«Кажется, эти двое лучше знакомы, чем мы с тобой», – сказал мне Альтер-Альтер. – «Может, нам удастся это поправить?..» И мы пошли дальше по тропинке, и вглядывались друг в друга больше, чем говорили.
Островки общения: мимолетность или постоянство
Глубина чувства дружбы не определяется одной лишь житейской близостью. Да и самые близкие дружеские отношения подобны цепочке островков, разделённых большим или малым пространством-временем. Они не только разделены, но и связаны воедино – связаны неким душевным сотрудничеством, составляющим внутренний смысл дружеской любви. Может быть, дело скорее не в том, насколько наполнена жизнь этим чувством, а в том, насколько она им освещена.
Чувство дружбы редко подчиняет себе все остальные чувства человека – разве что на какой-то особый период, требующий сосредоточенности на судьбе друга. Гораздо чаще оно соединяется с тем или иным другим чувством, а иногда его блики вспыхивают даже в кратком смутном переживании. Мы узнаём его и в чувстве любви, и в родственных чувствах, и в милосердии к больному, и в симпатии к случайному попутчику.
На взлёте, в лучших своих проявлениях, чувство дружбы становится подлинной любовью к ближнему – к человеку, близкому по судьбе и по душевному выбору. Становится не только душевным, но и духовным переживанием, связывающим одну личность с другой. И если я знаю вкус этого чувства, я могу заметить и поддержать его во всяком общении, во всяких человеческих отношениях, даже в самых мимолетных, а тем более в постоянных.
Чувство родства: законы асимметрии
У каждого своё лицо
Таинственные ощущения кровного родства, берущие начало в области подсознательного. Бытовое родство, сложенное из кирпичиков совместной жизни. Семейная родственность, внимательная даже к самой дальней родне. Родство душ, одухотворяющее и преображающее биологические инстинкты…
Если говорить о человеке вообще, чувство родства имеет множество разновидностей. Если ограничиться собственным внутренним миром, каждое из таких чувств имеет свой особый характер, каждое можно назвать по имени, и имён этих не так уж много.
Может быть, в этом и состоит первое наше умение в деле внутреннего ориентирования – не увлекаясь обобщениями, обратить внимание на каждое из реальных своих чувств. Чувство родства, какие бы загадки ни скрывало оно в себе, всегда реально. Это моё отношение именно к этому человеку, играющему вполне определённую роль в моей жизни.
Чувство родства – будь то чувство к матери или к деду, к сестре или к сыну – учит нас тому, что наше чувство к человеку не может быть таким же, как чувство ответное. Взаимность чувств не означает их сходства. Искать симметрию, жаждать, добиваться её, требуя от другого человека то, что тебе причитается, – или стремиться понять природу собственных переживаний?..
Несимметричные, не подобные одно другому родственные чувства помогают нам освободиться от рыночного подхода – «баш на баш». Каждое из них дано нам, как дан судьбой тот, на кого направлено это чувство. Но каждый из нас всем своим существом определяет судьбу и характер своего чувства.
Не в книге дело
Одно из различий автора с читателем, когда речь идёт о душевном устройстве, – в том, что там, где автор обобщает, читателю предстоит перевести изложение в конкретное русло собственных ситуаций и проблем. Оба должны исполнять свою роль исправно. Если автор собьётся на конкретные случаи, читателю чаще всего остаётся зевнуть: «Нет, это не то, у меня-то совсем иначе». Если же читатель не будет примерять прочитанное к себе, он будет читать вхолостую. Ему останется лишь упражняться в критике прочитанного.
С этим связан перебивчивый ритм этой книги. Автор старается напомнить, что не в книге дело, а во внимании к собственному внутреннему миру. К миру, в котором каждый остается первоисследователем и первооткрывателем.
Сон про генеалогическое древо
Шустрым, как белка, человечком, я карабкался по ветвям и развилкам огромного дерева. Ботинки мои были снабжены острыми коготками, цепко впивающимися в кору, но почти не оставляющими на ней следов. Добравшись до конца очередной ветки, я находил там почку или, скорее, плод, выступающий прямо из древесины. Плод был покрыт глянцевой коричневой, как у жёлудя или каштана, кожурой, но если как следует потереть его ладонью, он становился полупрозрачным. Тогда внутри можно было разглядеть смутный облик и даже строки жизнеописания – порою совсем выцветшие, а порою довольно чёткие.
Мне нравились эти странствия, это разнообразие лиц, эти обрывочные повествования… Но, перебираясь с ветки на ветку, я оступился, соскользнул к стволу дерева и, не сумев удержаться, упал в тёмное глубокое дупло.
Падение оглушило меня, а когда я очнулся, то был уже другим. Я был деревом, древом – тем самым, по которому только что лазил проворным человечком. Я ощущал свет, льющийся на меня сверху, обволакивающий меня воздух и надёжную тёплую землю, в глубину которой уходили мои корни. Живые внутренние соки были моим зрением и моим чувством. Каждая ветвь, каждый корень умел поделиться со мной своей жизнью, хотя иногда наступало время, когда моя перекличка с какой-то из ветвей или с каким-то из корней ослабевала, и я знал, что наша связь пересыхает…
Но вот неизвестно откуда взялся шустрый маленький человечек с острыми коготками на ногах, оставляющими на ветвях моих незаметные болезненные следы, которые мне приходилось напряжённо залечивать. Он был любопытен и проворен, он хотел как можно больше узнать, но не знал, как узнать то, что важнее всего…
Материнский инстинкт и материнская любовь
Самое глубокое из родственных чувств – это обычно материнское чувство. Нет необходимости петь ему дифирамбы. Это чувство, определяющее во многом судьбу человечества. Наш характер, наша индивидуальность – не зависят ли они от того поля материнской любви, в котором мы росли первые годы жизни? Наверное, поэтому в женщину вложен материнский инстинкт, несущий в себе самые благодатные задатки для чувства материнской любви.
Откуда же возникает дефицит не только материнской любви, но даже материнского инстинкта? Не будем здесь говорить о том, в чём виноваты общество или цивилизация. В тысячу раз важнее – нет ли пренебрежения к этому чувству и к питающему его инстинкту в нас самих? К материнскому чувству в себе – для женщины. К материнскому чувству в женщине – для мужчины. Вдыхая пьянящий ветер юности, воспитывая детей, размышляя о жизни, мы можем поддерживать материнское начало, признавать и одухотворять его, а можем и не придавать ему особого значения, позволяя другим ценностям вытеснить его на окраину души.
Перерастая в чувство, материнский инстинкт обретает новые свойства. Забота о детёныше становится любовью к человеку – именно к этому человеку, мал он или уже вырос, с его характером и судьбой. Инстинкт как бы вынуждает к определённому поведению. Материнское чувство ведёт к свободному душевному творчеству. Инстинктивное чутьё по отношению к ребёнку преображается сердечным чувством в тончайшую материнскую интуицию. Важно поддержать душевную расположенность, помочь сознанию откликнуться на призыв подсознания.
Материнская любовь не зависит от качеств ребенка, на которого она направлена. Это бесценно и для самой матери, и для ребёнка, и для человечества в целом. Нам всем необходимо, чтобы мать любила своих детей и хорошими и плохими, и здоровыми и больными, и счастливыми и несчастными. Но это же свойство порою мешает матери сосредоточиться на внутренних душевных особенностях ребёнка, приобретающих для него самого всё большее значение, когда он вырастает. Доля материнского инстинкта при взрослении ребёнка уменьшается, и только подъёмная сила чувства материнской любви позволяет успеть за разворачиванием вселенной новой индивидуальности.
Путь для отцовского чувства
Отцовское чувство чаще всего имеет не столь сильную инстинктивную основу, как материнское. Трудно сказать, хорошо это или плохо: это связано с социальными традициями и с житейскими условиями. Но это означает, что судьба отцовского чувства ещё в большей степени зависит от внутренней установки. И складывается эта установка, по-видимому, задолго до возникновения живого повода для реального чувства. Свою лепту вносят сыновние переживания, но рано или поздно в действие вступают собственные представления будущего отца о жизни, о любви, о судьбе человечества.
Нельзя построить в себе отцовскую любовь к будущему ребенку, но можно проложить для неё путь, и это необходимо делать заранее. А дальше начнётся самое главное (или всё тут – самое главное?..): живое общение с малышом, с сыном или дочерью, про которое трудно написать общими словами. Здесь всё дело в том, чтобы от принципов отношения к ребёнку перейти – нет, перелететь, прорваться! – к отношениям с той неповторимой личностью, которая скрыта в этом твоём ребёнке.
Непростая, парадоксальная притча о блудном сыне в Евангелии намекает нам на возможную силу и своеобразие отцовской любви. Дорасти в своём чувстве до возможности разрушить свои собственные внутренние схемы – это проблема именно отцовской любви, особенно когда речь идет о любви к сыну – ведь сталкиваются две мужские индивидуальности.
Это ещё один пример асимметрии родственных чувств. Но чем больше мы будем углубляться в область таких различий, тем меньше сможем высказать обобщённых суждений. Попробуйте уподобить отцовское чувство к сыну и материнское чувство к дочери – и уподобление это незамедлительно растворится в различающих особенностях. Нам придется обратить внимание на соотношение мужского и женского начала в каждой человеческой душе, будь то мужчина или женщина, и на многое другое… Поэтому нет оснований надеяться (или беспокоиться), что кто-то умный изложит нам все проблемы нашей душевной жизни, а в приложении приведёт их решения. Каждому из нас приходится быть в круге собственной жизни по-своему мудрым.
Начислим
+4
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе