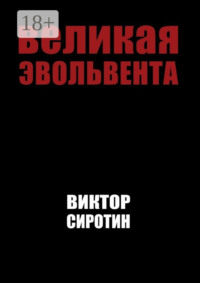Читать книгу: «Великая эвольвента», страница 4
Деспотизм английского короля Генриха VIII также не знал границ. Принудив парламент провозгласить себя (1534), Генрих приравнял к государственной измене отказ присягать «английскому папе», коим он, фактически, стал. В числе «изменников» наиболее именитыми были епископ Рочестерский Джон Фишер, знаменитый гуманист Томас Мор, за три года до того бывший лорд-канцлером Англии, и один из самых могущественных людей в Англии после короля канцлер королевства Кардинал Томас Уолси. Заключённый под стражу (1529), он, видимо от страха, умер в следующем году. Пятая жена Генриха Анна Болейн поплатилась за свои протестантские убеждения, а Томас Кромвель за то, что свёл её с королём. Своё чувство вины перед королевой Геррих выразил в трогательном разрешении не отправлять её на костёр. Оставаясь в рамках милостей своих, он выписал из Калле палача, виртуозно владеющего мечом. Очевидно, из того же милосердия король согласился заменить костёр отсечением головы своего министра. Поклонившись народу и назвав себя «вечным странником в этом мире», Кромвель оставил свою голову на эшафоте. Словом, казни неугодных никого не удивляли ни в Англии, ни в других странах. Но, оставаясь при своих грехах, Генрих умел заинтересовать лучших строителей, музыкантов и художников европейских стран (Гольбена Младшего, например). В результате нищая в плане изящных искусств, но богатая овечьей шерстью и сукном, Англия стала одной из культурных столиц Европы, что значительно повысило её международный авторитет. А убогий в те годы Лондон посредством разумной культурной политики короля стал рядом с главными городами Европы. Жестокость Генриха VIII, замечу, не помешала ему подготовить невеликое островное государство к той роли, которую она со временем стала играть в событиях мировой истории. Главою Церкви Англии направленная на принципиальных противников, а не на уничтожение и замену знати,
Не только «английский папа», но и чешский король Рудольф II, к которому, как мы помним, обращался неуёмный авантюрист-опричник Г. Штаден, – тоже частенько не выходил из депрессии. И было от чего: в начале XVI столетия Чехия пережила тяжёлое поражение от турок, а в середине века её потрясали гражданские и религиозные войны, хуже которых была лишь социальная зависимость от немецкого бюргерства и дома Габсбургов. Тем не менее король не изыскивал «злоумышленников», а находил в себе силы для покровительства науке и искусству. Протеже Тихо Браге и Кеплера, даровитых художников Джузеппе Арчимбольдо, Ганс фон Аахена и других мастеров собрал большую коллекцию художественных ценностей и основал крупнейшую в стране библиотеку. Потому период правления Рудольфа II считается золотым веком чешской культуры, который подчёркивал бурный экономический подъём. Этого не скажешь про Ивана IV.

IV
Российский цезарепапизм.
Внести наибольшую ясность в масштабе ущерба от деспотий может, пожалуй, фактор плотности и состава жителей государств. Сравним эти данные.
Городское население «животноводческой» Англии в то время составляло около 10%, аграрной Швеции ещё меньше,а Московской Руси лишь 2%. Следовательно, урон, нанесённый элите и государственной власти Московии трагичен для неё в большей мере. Есть и другая мера оценки. История всякого государства изобилует шпионами и убийцами, засланными враждебными станами для устранения наиболее действенных политических фигур. В той же Золотой Орде ханы казнили десятки влия-ельных и непокорных русских князей, – Тогда как «благоверный царь всея Руси» Иван IV казнил столько родовитых дворян, что Страна замерла, а царский двор едва не обезлюдел. Царь подверг террору не только московское и новгородское дворянство, но верхи приказной бюрократии и горожан, – то есть В таком раскладе террор был политической бессмыслицей. 21 но за весь «ордынский период» Руси! те слои, которые составляли опору государственности.
Суммируя политический, военный, социальный и экономический урон, нанесённый России Иваном IV, с уверенностью можно утверждать: никакие иностранные диверсии, ни одна «разведка мира» не нанесли России больше вреда, нежели сам царь, систематически уничтоживший русскую политическую элиту!
Нам ещё предстоит вернуться к положению дел в Московской Руси и её окраинам в XVI в. Сейчас же, обозначив лейтмотив последующего анализа, сделаем важный для развития темы вывод: На фоне экономического и военного ослабления государства интенсивное расширение границ на восток следует признать пирровой победой Московской Руси с неясными (в то время) для неё последствиями. насчитывая в середине XVI в. около 6—7 млн. человек и в историческое одночасье став гигантской Страной, – Московское Государство, попросту не в состоянии была духовно, культурно и экономически ассимилировать бесчисленные племена дальних ареалов.
Дальнейшее процессы «великого переселения народов» были предсказуемы: по пути, проторенному «ближним кочевьем», в сердцевину России устремилось «дальнее». Началось то, что со всей определённостью можно назвать Но, если «юго-восточный фронт» был сравнительно тихим, то есть, не сопровождался громами пушек и ружейной стрельбой, то «западный» был реальностью. Отмечу исключительно важное для России возвращение исконных русских земель, некогда оттяпанных польскими и литовскими магнатами. Объявив войну Речи Посполитой и выиграв её (1654—1667), Россия вернула почти всю территорию Древней Руси до этнических польских границ. Новый расклад сил предсказуемо обусловил трения с Швецией в 1656—1658 гг. и Турцией, заставив беспокоиться завсегда неугомонную и ревнивую в земельных притязаниях Англию. Тем не менее, Русь предпочитала деликатные формы общения с Западной Европой. В особенности первого «государя всея Руси» , когда расширением Востока на Запад. со времён Ивана III Страна стала одним из субъектов мировой политики.
Но, в стремлении стать ещё и объектом экономических отношений, допетровская Русь подобно сказочной избе неуклюже пыталась обернуться к Европе «передом». Тот же Иван IV предоставил английским купцам торговые квоты, о которых русские купцы и промышленники не смели и мечтать! Причём, в обмен на свободную торговлю в Англии, английская «сестра» не постеснялась выторговать у «брата» монополию на торговлю английской Московской компании (Muscovy Company) со всей Россией, Грозный дал королеве в 1587 г. такую привилегию, хотя было ясно, что это приведёт к упадку оптовой торговли России. Не смотря на убытки монополия английских купцов сохранялась аж до 1649 года! Английская кампания утеряла её лишь с головой Карла I… Запретив привилегии англичанам, которые «своего короля Карлуса убили до смерти», царь Алексей Михайлович (прозванный Тишайшим) ясно выказал своё отношение к цареубийцам, коим, по факту, был английский парламент и его выкормыш – «Верховный суд справедливости». В дальнейшем Петр Великий ещё резче развернул «избу» к «свету» Европы. Причём, так, что едва не свернул её с настила отечественного уклада. Хотя, будем справедливы, – энергичные действия царя Петра имели под собой немалые основания. что закрыло доступ в неё всем иностранным купцам.
Ко времени царствования Петра Великого сложилась уникальная ситуация.
На колоссальной территории, превосходящей все существовавшие до того Империи – от Александра Великого до Чингисхана, – был создан не имевший в мировой истории прецедент, когда тело Страны, с одной стороны «плескалось» в водах Тихого океана, с другой – упиралось в жёсткий «потолок» западных государств, непреклонных в своей многовековой неприязни к «восточным варварам». Попытки цивилизовать «медвежьи углы» Российской державы с помощью «монгольской грубости и прусского педантизма» (М. Бакунин), оказались неуспешными не в последнюю очередь из-за растворения в ней племён и народов, которые вовсе и не считали себя растворёнными. Неладно скроенное, некрепко сшитое и ещё хуже организованное сожительство народов в числе прочих причин обусловило вековечную спотыкаемость политической жизни России, разросшейся в гигантскую Империю. Пётр, как никто ясно узрел плотный частокол из трудноразрешимых «туземных» проблем, способных подорвать государственное устройство Страны – и устрашился… В геополитическом плане Россия стояла перед угрозой быть намертво зажатой в тиски между туземным Востоком и высокоорганизованным, расчётливым и беспринципным в следовании своим интересам Западом.
В качестве Запад не был ясен русскому боярству, а народ и вовсе не имел о нём никакого представления. Да и недосуг ему было. С неудовольствием, удивлением и недоумением московиты взирали на миграционные волны, идущее из- за «Камня» через «Урало-Каспийские ворота». В этих обстоятельтвах Петру ничего не оставалось, как, с одной стороны – скрепить державной печатью задолго до него освоенные русскими переселенцами бывшие ханства и прилегающие к ним земельные пространства (формально взяв под контроль необъятные регионы и природные ареалы), с другой – твёрдо намеревался пробить «окно» в Европу. Московской Руси и её окраин очевидно и заставила Петра сосредоточить внимание на Западе. Он ясно видел дилемму: („таёжной“, и всякой другой) феномена цивилизации Размывание самости самозащитное либо России продолжать обособленное от европейского мира бытие и оказаться поглощённой «конно-степной цивилизацией», – либо, выйдя из изоляции, – повернуться лицом к Западу и попытаться найти поддержку в расово близких народах, ввиду ряда благоприятных факторов вышедших на более перспективный путь культурно-исторического развития. (Доп. II)
Пётр предпочёл последнее.
Выбор этот, видно, нелегко дался царю, ибо, ведая о пренебрежении и враждебности к России со стороны «запада», знал он цену потенциальной «дружбе».В то же время, царь, как политический деятель и прирождённый геополитик, отнюдь не был свободен в своём выборе. Объективно, его решение предопределено было реальностью внутриполитического, этнокультурного и экономического порядка. Суть её (скоро отражённую в петровских реформах), можно сформулировать следующим образом: (т. е. заинтересовав собой, создав партнёрские отношения и научившисьчему-нибудь),но Если этого не случится; (культурные, этнические и пр.) 22 в разрыве сможет ли Страна, повернувшись лицом к Западу – адаптировать, и, не причинив ущерба себе, – культур подчинить туземные племена огромных ареалов? если Страна духовно и социально не осилит «дух» степно-таёжного мира, то не разделит ли она его внеисторическое бытие? Не окажется ли европейской цивилизации и степной стихии, что означает распад государства на разно-направленные составляющие?!
Эти вопросы в той или иной форме, наверное, стояли перед Самодержцем. На них, не торопясь и «не слушая» царя, отвечала вся последующая история.
Принимая в расчёт неуклонное техноматериальное развитие Европы, для России недопустимо было привычно-неторопливое житие в «пространстве» бездеятельной созерцательности. Сомневаясь в способности решать назревающие проблемы с опорой лишь на отчинный опыт государственной жизни, Пётр принял решение интегрировать Страну в систему европейских ценностей, Реформы императора взбудоражили общество и усилили духовное противостояние. Между тем, они были призваны обновить сферы государственной жизни, которые находились отнюдь не в бородах и посконных портах. апробированных в историческом бытии и в практической жизни реже дающих сбой. не отрицая и не противостоя сущностям народной жизни,
Начало деятельности Петра показывает твёрдое намерение облагородить «заросший лик» дворянского общества; придать бытию форму, пригодную для новых исторических реалий. В его намерения не входило изменить духовное бытие Страны. Пётр «Не презирал страны родной, /Он знал её предназначенье», – скажет об этом А. Пушкин. Уверенный в своих планах, Пётр, по словам Вольтера, – «на кончике уха» империи (а на самом деле – на финских болотах) закладывает Санкт-Петер-Бурх – новую столицу России. «Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?», – писал Пушкин, с беспокойством вглядываясь в бу- дущее Страны. А тогда Русский царь понимал нелепость односторонней, отгородившейся от мирской жизни «византийской» устремлённости «в небеса», «Надлежит трудиться о пользе и прибытке общем, который Бог нам пред очами кладёт как внутрь, так и вне, отчего облегчён будет народ», – вразумлял он своих соратников. Пётр настойчиво искал «коридоры» в Европу, ибо не хотел, чтобы Россия стала для Запада «порогом». которая на земле несёт гибель государству. Поэтому стремился усовершенствовать бытийную ипостась Страны.
Самодержец неустанно проводил мысль о том, что в заботе о душе не следует забывать о благоустройстве внешнего бытия, – «дабы с нами не так сталось, как с монархией греческою».
Важная стратегическая мысль! Однако, реализуя её, Страны надолго отклонилось о векового уклада. Пройдёт немного времени, и в каменном Питер-граде греческий строительный модуль будет соседствовать с итальянским барокко под гипнотическими взглядами египетских сфинксов, а казарма, увы, надолго станет символом новой столицы. «Петербург воплотил мечты Палладио у полярного круга, замостил болота гранитом, разбросал греческие портики на тысячи вёрст среди северных берёз и елей. К самоедам и чукчам донёс отблеск греческого гения, прокалённого в кузнице русского духа», – скажет о петерской архитектуре философ Георгий Федотов. Словом, не всё происходило по воле, хотению и планам царя, ибо, начавшись с него, – не им продолжилось. Итак, «запад» надолго прописался в бытии нового города. На фоне устроения города рассмотрим принципиальную связь Страны со структурой государства.
Государственность Древней Руси (не путать с её ипостасью, тождественной Стране и Отечеству) изначально несла в себе «единство» общинно-языческого характера, которое, став принципом отношений, не могло обезопасить Киевскую и Московскую Русь от междоусобиц. К тому же, не имея в своей основе экономического содержания и далеко идущих политических целей, усобицы носили условно-политический, или, лучше сказать – «внутрисемейный», а в контексте мировой истории – характер. В то же время усилиями русских иерархов (в первую очередь св. Сергия Радонежского), собравшаяся в кулак была сильна духовным единством с опорой на традиции и обычаи. И преобразовать эту силу в Империю можно было, лишь сохранив (по принципу: Богу – Богово, Кесарю – Кесарево) с опорой на военную мощь. Однако, государственная ипостась, в народном сознании единосущная Стране-Отечеству, не очень убедительно слившись с монастырским архетипом православия, была жёстко подчинена больной воле Иван IV. А в правление Петра I и вовсе разминулась с Русской Церковью. Последняя, В свою очередь великий преобразователь, предприняв решительные шаги для усиления государства, не в состоянии был узреть результаты своей деятельности в их эвольвентном «коварстве». Не мог и не в состоянии был оценить потенциальную опасность проведённых им кардинальных, жёстких и подчас жестоких реформ в Стране, как и фатальных изменений в жизни народа. народной несобытийный Русь, как Страна союзническое, но раздельное единство духовной и имперской власти не особенно озабоченная мирским устроением, – не могла прийти к тому, к чему и не шла.
Увеличенная до гигантских размеров за счёт невозделанных территорий вкупе с туземными народами, Россия до Петра не имела конструктивной внешней политики и пока ещё только осваивала масштабные методы её ведения. В этих обстоятельствах отечественная жизнь России приобретала дискретное развитие с не очень устойчивым законодательством, преходящими политическими лидерами и малозаметными социальными изменениями. Лишь в период правления Екатерины Великой (1762—1796) политическая масштабность получила адекватное выражение. Если ко времени её вхождения на престол в стране насчитывалось 60 светских образовательных учреждений различного ранга, то к концу её царствования их было уже свыше 500. Из 50 губерний 11 были приобретены в годы именно её царствования. Население Страны увеличилось (запомним это, как и то, что ). Сумма государственных доходов выросла с 16 до 68 миллионов рублей. Были построены 144 новых города; издано более 200 законодательных актов. Повышению престижа России в немалой мере способствовали личные контакты императрицы с умнейшими людьми Европы, из которой в Россию хлынул мощный поток переселенцев. с 18 до 36 миллионов человек в 1730 г. в России жило всего 11 миллионов
Пушкин несколько запальчиво назвал деятельность императрицы «непристойно разыгранной фарсой». Но не будем пенять за это великому поэту. Не владея всеми историческими материалами, он мог не знать, что в правление Екатерины II почти вдвое увеличилась армия, в российском флоте число линейных кораблей, не считая других судов, – выросло с 20 до 67. Армией и флотом было одержано 78 блистательных побед, упрочивших международный авторитет России. Слова «Россия» и «русские» произносились с большим уважением прежде всего самой императрицей, всю жизнь стремившейся доказать величие и исключительность народа, которым она волею судьбы руководила.
Казалось, преумножив царство, Екатерина могла быть спокойной относительно будущего России. Но это было не со- всем так. Точнее, – совсем не так…
Положение дел России определяли вызревавшие в её недрах причины и объективные обстоятельства, среди которых наиболее очевидным было «победоносное» увеличение населения. Как можно догадаться, число жителей России не могло за 65 лет более чем утроиться (!) лишь за счёт «семейного» прироста великороссов и других славянских народов. Почему?
Для выяснения этого вопроса вернёмся к Петру I, ибо именно он заложил основы того, что преумножила Екатерина II и её уже «птенцы».
При всей «заточенности на Запад», а потому в дипломатических отношениях не сходился слишком близко ни с одной из них, благодаря чему при нём «русская кровь» не проливалась за чужие интересы. На этом заострял внимание историк А. А. Керсановский в своей «Истории русской армии». Как бы в нази- дание будущим царям и правителям России – Военный теоретик и историк генерал Генрих Леер имел веские основания утверждать, что царь был «великий полководец, который умел всё делать, мог всё делать и хотел всё делать». Пётр I не ставил интересы России в зависимость от иностранных держав, Пётр требовал от своих полководцев умелых побед, одержанных «малой кровью».
Реформируя бытие России, Самодержец намеревался жёстко – раз и навсегда! – изъять из него не свойственные рус- скому человеку, но «географически» привнесённые «степно-таёжную» вытекающую из такового мировосприятия Ибо инертность, созерцательность и небрежность в отношении ко всему «временному».
тяготеющая к «вечному» вялость духа через аморфность характера и духовную лень активно свивала свои «туземные гнёзда» в бытии России. Нерешённые проблемы социальной и гражданской жизни препятствовали развитию в его государственной ипостаси лишая Россию исторических перспектив. Именно эти , сродные заурядному безделию, стопорили бытие России, в котором производящая «вещи» материальная сфера не существет вне духовной и творческой деятельности. Пётр «понял, – писал Бакунин, – что для основания могущественной Империи, способной бороться против рождавшейся централизации западной Европы (Данилевский определял этот исторический феномен более точно – — В. С.), уже недостаточно татарского кнута и византийского богословия. К ним нужно было прибавить ещё то, что называлось в его время цивилизацией запада…». здешнего отечества, государство-необразующие качества германо-романская цивилизация. 23
Российскому государству и в самом деле нужна была с помощью которой можно было организовать Россию в тогдашней её самодержавно-крепостнической ипостаси. Интуитивно чувствуя то, что через столетия в теологическом ключе разъяснил Макс Вэбэр (а именно: развитие промышленности и рост производства в христианской Стране наиболее продуктивны ), Пётр с головой бросился в «индустриализацию» Руси. не ордынско-московская, а исторически перспективная технология власти, при «уяснении» Евангелия «деловыми» конфессиями
Однако чудесное превращение Руси в процветающую Империю не произошло. И не только потому, что «Россия не Голландия» (Н. Карамзин). Пётр I, по образному выражению Пушкина, поднял Россию на дыбы, но и он же Начав реформы по образу и подобию Европы (между тем, вкусившей «запретный плод» утилитарных знаний )царь подчас действовал вслепую. Будучи прав в решении обустроить Россию в Державу, Пётр не сумел, да и не мог обуздать неподвластные ему внеэволюционные процессы, происходившие не только за «Камнем», но уже и в преддверии его… распял Страну на «дыбе» нового исторического развития. не «враз», а по мере исторического развития государств и создания разветвлённых социальных инфраструктур ,
О переборах в волевых решениях императора свидетельствует стиль административных мер, проводимых большей частью по западной кальке. «Честью и достоинством россиян сделалось подражание. – сетовал Н. Карамзин в своих „Записках о древней и новой России“, – Имя русское имеет ли теперь для нас ту силу неисповедиму, которое оно имело прежде?». Выношенные лишь в умозрении, подражательные инициативы были слишком поспешны и внедрялись царём в пику исторически сложившимся реалиям и без учёта потенциально-самостоятельного их развития. Снятые с чужого плеча, реформы Петра стали той самой «одеждой», которую беспощадное время к концу следующего столетия превратило в исторические лохмотья… А пока «державная печать» Петра обуславливала (теперь уже законную) новообразованных, или, принимая во внимание православие, – «русских» с необозримых территорий в срединную, а потом и в головную часть России. И всё же большая часть «ошибок Петра» укладывается в географическое расположение Руси, Там-то – в первозданных и диких регионах – «хвосты» исторической эвольвенты начинали «биться» особенно сильно и непредсказуемо. Наметилось несогласие «молчаливой степи» с навязанной ей новой исторической парадигмой. В «новых кривых», по которым вилась эвольвента, и реализовывала своё «несогласие» необузданная языческая энергия, как будто излучаемая нескончаемыми лесами, степями и далями, давно подчинившими себе тамошние племена и народы… не своей ответную миграцию новообращённых неизбежно обусловившее развитие Страны в направлении «цивилизационных пустот» холодного Севера, снежного Востока, и во всех отношениях жаркого Юга.
В чём ещё были прямые и опосредственные упущения великого монарха?
Упорно проецируя в российские реалии «западное» бытие, Пётр не сумел оценить фактор общества, в разной исторической и культурной среде опирающейся характеристики. К примеру, «верхи» и «низы» Европы, завися от «случайностей» неправедного разделения на общественные слои, всё же являли собой Рядовой «западный» прихожанин, исповедуя (до протестанства) христианскую веру, что и князья и короли, а в повседневной жизни (различие в диалектах не устраняло психологического единства и не нарушало структуру языка). Рознясь социально и имущественно, – и крестьянин и герцог Разные слои общества в бытийном плане исповедовали что было закономерным следствием А и неприятие (во всяком случае, по общей для них шкале нравственности) категорий зла были закреплены законами. единосущности на свои единое историческое целое. единую для всех ходил в тот же храм, говорил на своём родном языке жили в одной политической системе и духовно-культурной среде. единые этические ценности, совместного исторического опыта, коренящегося на схожих критериях справедливости. базовые нормы морали
Слепок маски. Пётр Великий.
Русский прихожанин тоже ходил в те же храмы, что бояре и князья, но после Раскола уже не стоял рядом и не причащался с ними на равных. А при несчастной судьбе став нищим, и вовсе «общался» с дворянами лишь на церковной паперти и ступенях храма. За церковной оградой «верхи» и «низы» русского общества тем паче жили в разных мирах. Великосветская его часть и чиновничество являли собой один мир – ничтожный по числу и в соответствии с заданными функциями узкий и ограниченный. Простой же народ существовал в своём, испокон веков мало меняющемся обиходе, в котором не было места ничему «фряжскому» – не знакомому, да и не желаемому. Что касается языка общения, то дворянское сословие, в ущерб родному, упорно осваивало иноземные языци, таким образом отгораживая себя и от отечественной культуры, и от презираемого ими народа. Последний, оставшийся при своём уме, языке и укладе жизни, с трудом выдерживал усиливающийся напор со стороны в недавние времена приобретённых Россией земель. С одной стороны народ хранил родную речь, с другой – вынужденно (как то было в заброшенной «волынской» юго-западной части России) хоронил себя в диалектах и наречиях, которые по прошествие времени стали языками.
Итак, не одни только войны и «варваризованное обще- житие» были причиной нестабильного существования России. Гражданское бытиё Империи и потенции развития существенно определяли которые, во многом завися от внутренней целостности народа, В первую очередь отнесём к ним из столетия в столетие убывающую Примем во внимание и то, что по- средством Византии Русь духовно и психологически перемостила христианство «Первого Рима» в православие «Третьего». То есть, в известной мере по духу во многом совпадающей с евангельской, факторы духовного и бытийного порядка, не существуют вне восприятия и осознавания себя в мире. соборную психологию до- минирующего в Стране народа. привела в соответствии со своей, племенно-откорректированной аскезой.
Но это именно совпадение. Разница существенна. Ибо в первом случае человек делает выбор, исходящий от его духовной зрелости и привитых ему моральных цензов. Во втором – выбор ограничен тем, что «за человека решает» его мировосприятие, формируемое на основе факторов в первую очередь религиозного и общественного, а потом уже личностного плана. Напрямую связанный с традициями и коллективным соучастием в бытии «план» этот обогащён общинно-родовыми и историко-культурными влияниями (сейчас добавим вмешательство СМИ и возрастающую в своей роли и мощи Сеть). Говоря проще, мирооценка – и чем дальше, тем больше – подвержена В этой связи примем во внимание, что в своей исторической жизни каждый народ делает выбор в соответствии с доступными ему духовными и моральными категориями, формирующими восприятие мира, соответствующее его характеру и кругозору. Нестяжание и рассеянное отношение к богатству и накопительству имело на Руси не столько нравственную, сколько мировоззренческую основу. надличностным влияниям.
Среди обозначивших себя в мировой культуре феноменов особую нишу занимает Характерное тяготением к коллективному поиску истины, оно наиболее явственно прослеживается в нравственном укладе . Этот феномен обогатил исторический путь Страны которое, став характером народа, определило его судьбу. Нестяжание в качестве морального принципа и стремление реализовать прежде всего внутренние свойства не раз являло в исторической жизни народа свою нравственную высоту, но в силу антагонизма с материальными категориями столь же последовательно «уравновешивалось» ущербностью экономических показателей. свойств русского народа весьма тонко раскрыл Ф. М. Достоевский, в своих книгах отмечавший уникальное состояние души русского человека. При таковом состоянии последний, не особенно стремясь реализовать себя в «вещных материях» и в бытовой конкретике, – всего меньше видел себя в достижении преходящих (личных) и сиюминутных интересов. Устойчиво негативное отношение к «соблазнам мира» духовно и психологически вело его к нравственному феномену (всеобъемлющего, «всемирного») мироощущение русского цивилизационного типа. великороссов духовным содержанием, Всечеловечность соборно-согласованного тяготения к истине.
Но, отдавая должное этому стремлению, его немалой этической красоте и нравственным достоинствам, – придётся принять во внимание, что стремление к истине ценно не само по себе, не духовной абстракцией, . То есть, – ценно не метафизически, когда умозрительное «стремление» освящено эфемерной душой и совестью «вообще», а когда оно имеет строительную структуру; Или, точнее, – Так как придаёт им ценность и бытийную устойчивость, поскольку оно непосредственно формирует уклад жизни. Что касается масштабности созидания, то о ней говорят Вне этого императива «всечеловечность», широко, бесполезно и мелко разлившись по социальному и «мировому» бытию, оборачивается инертностью в первую очередь в гражданском бытии, в конечном итоге сводя повседневное существование к стадному послушанию. а когда ему сопутствуют дела когда благие намерения переходят в осмысленную деятельность и прилагаются к здешней реальности. лишь воплощение идей степень и формы соучастия в мироустроении. Именно такого рода «деятельность», ставя под сомнение саму себя, противостоит позитивному развитию организма общества, Страны, государства и духовности, как таковой. когда стремление к истине узнаёт себя в результатах.
Здесь мы близко подошли к тому, что красной нитью проходит через жизнь любого государства, а именно: к религии и идеологии.
Априори существуя независимо друг от друга, они весьма активно формируют духовное и светское мировосприятие, включаются в гражданское бытие народа и таким образом выстраивают систему духовных координат, этических цензов и общественных ценностей. В тех же случаях, когда они пересекаются друг с другом (а именно это и происходит), то порождают комплекс трудных, а подчас неразрешимых противоречий В исторической жизни народов определило, в частности, характер и типы «средневековых христианств», кристаллизовало догматы и предопределило средства решения разногласий внутреннего плана. То же происходит и с идеологией. Но, если религия апеллирует к душе человека, предполагая её спасение, то идеология сопряжена с как раз по причине принципиальной разницы изначальных смыслов и стоящих задач. разное отношение к миру необходимостью исторического и бытийного выживания здесь.
Рассматривая вопрос в таком ключе, невозможно миновать моральные и этические аспекты, по которым выстраивается (духовная), (политическая, социальная и экономическая) составляющая бытие государства – Нельзя упускать и то, что в ряде случаев и внутренние и внешние цензы имеют искусственное происхождение; то есть, – продиктованы «духом времени» и нуждами государства. Система этих отнюдь не равнозначных ценностей формировала принципы жизнеустроения, психологически, а значит и по характеру не во всём схожих народов Западной и Восточной Европы. Из последней выделим Московскую Русь, ставшую Российской Империей. как внутренняя так и внешняя любого!
Начислим
+10
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе