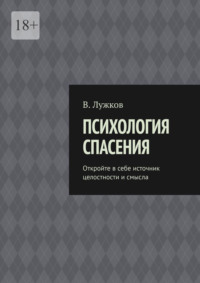Читать книгу: «Психология спасения. Откройте в себе источник целостности и смысла», страница 2
4. О сеятеле
Мф. 13:3 И поучал их много притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять; 4 и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то; 5 иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. 6 Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; 7 иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его; 8 иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать.
Четыре почвы сердца или психология духовной восприимчивости
Евангельская притча о сеятеле (Мф. 13:3—8, Мк. 4:1—9, Лк. 8:4—8) раскрывает перед нами универсальную модель восприятия, усвоения и реализации духовного знания в человеческой душе, описывая типичные паттерны сопротивления, незрелости и, напротив, плодотворной интеграции. Эта притча, будучи рассмотренной через призму святоотеческих толкований, оказывается не просто аллегорией о проповеди, но точной картой внутренней территории человеческого сознания, где разворачивается драма встречи вечного Слова с обусловленной, травмированной и многослойной человеческой психикой.
Психологический контекст притчи задается самой ее структурой: единое семя – Слово Божие – падает на почвы, радикально различающиеся по своей готовности его принять. Это указывает на фундаментальный психологический принцип: результат любого воздействия – воспитательного, терапевтического, духовного – определяется не столько качеством самого воздействия, сколько внутренней предрасположенностью и структурой личности реципиента. Сеятель сеет щедро и повсюду, что символизирует всеобщность и изобилие Божественной благодати, но судьба семени всецело зависит от состояния «земли» – человеческого сердца. Святитель Иоанн Златоуст, обращаясь к этой притче, говорит, что Христос показывает здесь, что Он наперед все соделал с Своей стороны, и что не опустил ничего, что должно было содействовать их спасению. Психологически это можно рассматривать как описание процесса инкультурации любого высокого идеала или смысла в индивидуальное сознание.
Первый тип почвы – «придорожная» – это образ психики, характеризующейся высокой степенью ригидности и непроницаемости. Семя, упавшее при дороге, даже не прорастает; оно сразу же истребляется птицами. Святоотеческая традиция, вслед за самим Христом (Мф. 13:19), видит в этих птицах «лукавого», который похищает слово. Психологически «лукавый» здесь – это совокупность автоматических мыслей, предубеждений и психологических защит, делающих сознание невосприимчивым к новому. Это может быть догматизм мышления, при котором любая новая информация отвергается, если она не вписывается в готовую, часто упрощенную, картину мира. Это может быть цинизм, рожденный предыдущими разочарованиями, или глубокая апатия – «экзистенциальная усталость», когда у человека просто нет психической энергии для того, чтобы откликнуться на призыв. Такая душа «придорожна» – она открыта всем ветрам, всем влияниям, но именно поэтому не имеет собственной глубины, чтобы укоренить в себе что-то серьезное. Семя слова просто не может пробить утоптанную поверхность ее привычных паттернов восприятия.
Вторая почва – «каменистая», где земля «неглубока» – представляет собой тип неустойчивого эмоционального возбуждения, лишенного глубины и устойчивости. Психологически это соответствует состоянию инфантильного энтузиазма. Человек с легкостью и радостью воспринимает слово, оно быстро «всходит» в его сознании, вызывая яркий, но кратковременный эмоциональный подъем. Однако у такой веры «нет корня». Корень в духовной жизни символизирует волевое начало, осознанную преданность и способность к рефлексии. Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет, что каменистая земля – это «душа легкомысленная и малодушная, которая не хочет и не терпит огорчений». Когда неизбежно возникают трудности, гонения или просто рутина («восходит солнце»), такая вера мгновенно «засыхает». Психологически это крах, основанный на несоответствии романтических ожиданий суровой реальности. Человек не готов к труду, к аскезе, к необходимости внутренней борьбы, и его вера, не подкрепленная личным экзистенциальным выбором и усилием, погибает при первом же столкновении с жизнью.
Третья почва – «тернистая» – возможно, является самой коварной и распространенной в современном мире. Здесь семя прорастает, укореняется и даже начинает расти, но его заглушают терния. Христос объясняет, что это заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания (Мк. 4:19). Психологически «терние» – это образ постоянной, рассеянной многозадачности сознания, его захваченности бесчисленными стимулами, обязанностями и тревогами повседневности. В отличие от каменистой почвы, здесь нет открытого отвержения или разочарования. Напротив, человек может сохранять формальную веру, даже посещать храм, но его внутреннее пространство, его ментальная и эмоциональная энергия полностью поглощены «заботами». Это могут быть профессиональные амбиции, погоня за успехом, гипертрофированное беспокойство о материальном благополучии, погружение в бесконечный поток информации и развлечений. Преподобный Исаак Сирин писал, что ум, объятый заботами, не может пребыть в созерцании». Психологически это состояние характеризуется дефицитом внимания – не клиническим, а экзистенциальным. Слово Божие, требующее внутреннего сосредоточения, тишины и размышления, не может пробиться через шум внутренней «суеты», и рост его останавливается. Душа не отрекается от слова открыто, но позволяет ему быть медленно задушенным конкурирующими смыслами и привязанностями.
Наконец, «добрая земля» олицетворяет психологическую структуру, способную к полноценной интеграции и трансформации. Это не идеальная, безгрешная личность, но личность зрелая, рефлексивная и открытая. Три ключевых свойства доброй земли – это, по толкованию святых отцов, слышание, приятие и терпение. Психологически «слышание» – это активное, внимательное восприятие, способность к слушанию без немедленного осуждения или проекции. «Приятие» – это согласие воли, внутреннее «да», которое позволяет слову стать действенным принципом жизни, а не просто объектом интеллектуального согласия. И, наконец, «терпение» – это ключевое качество, отличающее добрую землю от каменистой. Это способность выдерживать фрустрацию, противостоять трудностям и не отказываться от выбранного пути под давлением внешних или внутренних обстоятельств. Именно эта стойкость позволяет слову «принести плод». Разная плодотворность – во сто, шестьдесят и тридцать крат – указывает на индивидуальные различия в степени духовной одаренности, обстоятельствах жизни и приложенных усилиях, но главное – все три приносят плод, то есть достигают цели своего предназначения.
Таким образом, притча о сеятеле предстает как гениальная типология духовной восприимчивости. Она описывает спектр от полной закрытости и ригидности («придорожье») через поверхностный, невротический энтузиазм («каменистая почва») и хроническую рассеянность, захваченность миром («терние») к целостной, зрелой интеграции («добрая земля»). Эта притча является не только диагнозом, но и призывом к самоисследованию и внутреннему деланию. Она побуждает человека стать земледельцем своей души – распахивать глубины своего сердца через покаяние, углублять ее через молитву и размышление, и очищать от «терний» через аскезу и трезвение, чтобы воспринятое Слово могло принести в его жизни не просто временный эмоциональный подъем, а устойчивый, преобразующий весь строй личности плод духа.
5. О горчичном зерне
Мф. 13:31 Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, 32 которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.
Парадоксальная динамика духовного роста
Притча о горчичном зерне (Мф. 13:31—32, Мк. 4:30—32, Лк. 13:18—19) с раскрывает перед нами глубокое учение о законах личностной трансформации, о парадоксальной динамике внутреннего роста и о назначении человеческой души как убежища и источника жизни для окружающего мира. Эта лаконичная притча оказывается не просто иллюстрацией силы веры, а целостной моделью психологии духовного развития, описывающей путь от малого, часто незаметного начала к состоянию мощной, структурированной и плодотворной целостности.
Психологический контекст притчи задается ее центральным образом – контрастом между ничтожно малым семенем и большим деревом. Этот контраст является ключом к пониманию специфики подлинного, а не иллюзорного, роста человеческой личности. В современном мире, одержимом культом немедленных результатов и внешней эффективности, идея незаметного, органичного развития кажется архаичной и неэффективной. Однако притча утверждает, что самые значительные и устойчивые трансформации в душе человека начинаются именно с малого, часто невидимого для постороннего глаза решения, с крошечного акта веры, с едва различимого движения сердца к добру. Святитель Иоанн Златоуст, размышляя об этой притче, подчеркивает, что Христос указывает на начало евангельской проповеди, которая, будучи самой малой и как бы незаметной, распространилась по всей вселенной. Психологически это можно перенести на начало любого глубокого личностного изменения: подлинное обращение, решение изменить свою жизнь, первый шаг в терапии – все это подобно малому зерну, которое не сулит немедленного величественного результата, но содержит в себе весь потенциал будущего преображения.
Горчичное зерно, которое «меньше всех семян», символизирует в святоотеческой традиции либо саму веру, либо первоначальную закваску Евангелия в сердце человека. Блаженный Феофилакт Болгарский пишет, что под горчичным зерном разумеются проповедники Евангелия, которые были вначале малы числом и уничижены. Психологически «зерно» – это любое подлинное, экзистенциально значимое содержание, попадающее в психику: проблеск самосознания, момент искреннего покаяния, акт бескорыстной любви, встреча с подлинным искусством или глубокой мыслью. Его «малость» указывает на его уязвимость. На ранних стадиях духовного или личностного роста новое, хрупкое содержание «Я» легко может быть подавлено мощными структурами эго, защитными механизмами, сиюминутными страстями или грузом прошлых травм. Оно требует бережного отношения, «посева на своем поле», осознанного взращивания в пространстве собственной внутренней ответственности.
Процесс роста зерна – «когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом (Мф. 13:32) – описывает психологический феномен интеграции и структурообразования. Рост здесь – это не просто количественное увеличение, а качественное преобразование. Из малого семени возникает не просто большой куст, а именно дерево – сложная, иерархически организованная система с корнями, стволом и ветвями. Психологически это соответствует формированию зрелой, иерархизированной личности, в центре которой находится не ригидное эго, а то самое «зерно» – усвоенный и ставший стержневым принцип веры, любви или смысла. Такой принцип начинает определять всю архитектонику психической жизни: мысли, чувства, поступки и отношения выстраиваются вокруг этого нового центра, образуя устойчивую и сложную структуру – «дерево». Преподобный Максим Исповедник, говоря о духовном росте, отмечал, что ум, возвысившийся над веществом, делается способным к богопознанию, что подразумевает именно такое качественное изменение внутренней организации. Этот процесс нелинеен и часто сопровождается кризисами, подобно тому как рост дерева невозможен без сопротивления ветрам и непогоде.
Кульминацией притчи является не само по себе величественное дерево, а его функция: так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его (Мф. 13:32). Этот финальный образ раскрывает социальное и экзистенциальное предназначение преображенной личности. Дерево существует не только для себя; оно становится источником тени, защиты и убежища для других. Психологически это описывает переход личности от стадии интроспективного самосовершенствования к стадии служения и порождения жизненного пространства для других. «Птицы небесные» символизируют разнообразные человеческие души, ищущие покоя, смысла, утешения и защиты. Зрелая, внутренне устроенная личность, чье «Я» структурировано вокруг духовного стержня, сама по себе становится таким «убежищем». Ее устойчивость, мудрость, мир и любовь создают психологическое пространство, в котором другие могут найти опору. Святитель Григорий Нисский, толкуя этот образ, видел в нем указание на вселенский характер Церкви, принимающей под свой покров все народы. В личностном плане это означает, что конечная цель глубокого внутреннего роста – не личное спасение как эгоистический проект, а обретение способности быть опорой, источником мира и смысла для своего окружения. Такая личность перестает быть замкнутой системой и становится открытым, плодоносящим ландшафтом духа.
Сравнивая эту притчу с другими, можно увидеть ее уникальный акцент на естественности и органичности духовного процесса. В отличие от притчи о сеятеле, где акцент сделан на качестве почвы, здесь почва предполагается доброй, а фокус смещен на имманентный потенциал самого семени. Это утешительная притча, говорящая о том, что малые, но искренние начала в душе человека не пропадают даром. Они содержат в себе жизненную силу, которая, при условии пребывания в «поле» личной ответственности и свободы, неизбежно разовьется в нечто значительное. Этот закон противостоит как магическому ожиданию мгновенного преображения, так и отчаянию от кажущейся незначительности собственных усилий в духовной жизни.
Таким образом, притча о горчичном зерне предстает как вдохновляющая модель подлинного личностного роста. Она описывает путь от малого, хрупкого, но живого начала через длительный, часто невидимый процесс внутренней структуризации к обретению состояния мощной, устойчивой и щедрой целостности. Эта притча является антидотом против как духовного тщеславия, жаждущего немедленных великих свершений, так и против уныния, не верящего в силу малых, повседневных усилий. Она утверждает, что великое царство человеческого духа строится не из грандиозных, но внешних проектов, а из крошечных, но подлинных семян веры, любви и надежды, посеянных в тайне сердца и взращенных терпением, послушанием Истине и доверием к той невидимой силе роста, которая заложена в самом творении Божием.
6. О злых виноградарях
Мф. 21:33 Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. 34 Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды; 35 виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. 36 Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же. 37 Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего. 38 Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник; пойдем, убьем его и завладеем наследством его. 39 И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. 40 Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? 41 Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. 42 Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших? 43 Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его; 44 и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит.
Психология духовной узурпации
Притча о злых виноградарях (Мф. 21:33—44, Мк. 12:1—12, Лк. 20:9—18) раскрывает перед нами одну из самых трагических и суровых картин духовной патологии, ведущей к полной деградации сознания и экзистенциальной катастрофе. Эта притча является не просто аллегорией истории Израиля, но глубоким исследованием психологии религиозной одержимости, механизмов вытеснения совести и тотального искажения реальности, возникающего при отождествлении себя с инструментом Божьего домостроительства.
Психологическая драма притчи разворачивается вокруг фундаментального искажения отношений между Владельцем виноградника и виноградарями. Изначально эти отношения строятся на принципе доверия и делегирования. Хозяин, обустроив виноградник (символ, согласно пророку Исаии (Ис. 5:1—7), народа Божия), предоставляет его виноградарям, даруя им не только обязанности, но и огромную честь – соучастие в его деле. Психологически это соответствует изначальному замыслу о человеке как свободном со-труднике Бога. Святитель Иоанн Златоуст подчеркивает щедрость Владельца: Что могло быть больше этого благодеяния? Он как бы так говорил: вам отдаю я все, а себе оставляю только владение. Однако именно эта свобода и доверие становятся почвой для патологического развития. Виноградари совершают ключевую психологическую ошибку: они начинают воспринимать вверенное им достояние как свою безраздельную собственность. Здесь в действие вступает механизм присвоения и интроекции, когда внешний дар, требующий благодарного управления, поглощается эго и начинает восприниматься как его неотъемлемая часть. Плоды виноградника, символизирующие духовные дары, праведность, веру, которые должны быть возвращены Богу, виноградари желают присвоить себе.
Это внутреннее присвоение порождает систематическое насилие как форму отрицания зависимости. Посланные слуги – пророки Ветхого Завета – представляют собой голос совести и напоминание об истинном порядке вещей. Их приход вызывает у виноградарей не раскаяние, а ярость, потому что он обнажает ложность их претензий на собственность. Психологически избиение, убийство и побиение камнями пророков – это метафора тотального подавления и вытеснения голоса правды. Каждый акт насилия над посланцем укрепляет виноградарей в их иллюзии, создавая порочный круг: чем больше они грешат, тем ожесточеннее должны защищать свою ложную позицию, что требует нового насилия. Блаженный Феофилакт Болгарский видит в этом усиление злобы и ожесточение сердца. С точки зрения психологии, это процесс моральной десенсибилизации: совесть, постоянно попираемая, постепенно умолкает, и ее место занимает нарциссическая самоуверенность.
Кульминацией этой патологической динамики становится убийство сына. Логика виноградарей: это наследник; пойдем, убьем его и завладеем наследством его (Мф. 21:38) – является апофеозом иррационального и магического мышления. Они полагают, что устранение законного наследника каким-то абсурдным образом сделает их самих владельцами. Это не расчетливый план, а психотический акт, основанный на полном разрыве с реальностью. Психологически сын представляет собой последнее, самое глубокое и личное обращение Бога к человеку – Самого Иисуса Христа. Его убийство символизирует окончательное, тотальное отвержение самой сути Божественной любви и истины. Мотив постыдятся сына моего (Мф. 21:37), который высказывает отец, указывает на последнюю надежду на пробуждение в виноградарях человеческих, стыдливых чувств. Но они оказываются неспособны даже к стыду, что свидетельствует о полной эмоциональной и моральной атрофии. Преподобный Исаак Сирин говорит, что бесстыдство есть знак окамененного сердца. В этом контексте убийство сына есть акт экзистенциального самоубийства виноградарей, ибо они уничтожают единственную возможность своего исцеления и спасения.
Ответ слушателей на вопрос Христа – злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям (Мф. 21:41) – и последующее Его утверждение отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его (Мф. 21:43) вводят в анализ ключевой психологический и духовный закон: неспособность к признанию дара и ответной любви ведет к утрате самого дара. Виноградари не просто наказаны; они лишены миссии, потому что оказались к ней экзистенциально неспособны. Их идентичность была целиком построена на обладании вверенным им, а не на служении. Когда служение становится невозможным, рушится и сама их идентичность. Психологически это можно наблюдать в случаях, когда человек, наделенный властью, талантом или влиянием, начинает использовать их исключительно для самоутверждения, в конечном счете теряя и сам дар, и уважение окружающих.
Завершает притчу образ камня: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла (Мф. 21:42). Этот камень – Христос. Психологически «строители» – это религиозные лидеры, чье сознание оказалось настолько замутнено своими проектами и планами («строительством»), что они не узнали и отвергли краеугольный камень, на котором только и может стоять здание подлинной духовности. Два варианта падения – тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит (Мф. 21:44) – описывают две формы экзистенциального краха при встрече с Христом. «Упасть на камень» – это активное противление, бунт против Него, который заканчивается крушением всех человеческих претензий. «Быть раздавленным упавшим камнем» – это пассивное неприятие, игнорирование, которое, однако, не отменяет объективной реальности Суда, который обрушивается на человека как окончательный приговор. Святитель Григорий Палама, рассуждая о действиях Бога, отмечает, что одно и то же Солнце правды просвещает очицу здравую и помрачает больную. Так и Христос для одних становится основанием спасения, а для других – камнем преткновения, обнажающим всю глубину их внутреннего расстройства.
Таким образом, притча о злых виноградарях предстает как трагическая история о духовной регрессии, движущей силой которой является гордыня, выраженная в отказе признать себя управляющим, а не владельцем. Это путь от доверия к присвоению, от присвоения к насилию над совестью, от насилия к тотальному отвержению любви и, в конечном счете, к утрате самого смысла существования. Притча служит суровым предупреждением против любой формы религиозности, которая превращается в инструмент власти и самоутверждения, подменяя собой смиренное и благодарное служение. Она показывает, что самая страшная опасность подстерегает не явных грешников, а тех, кто, получив величайшие дары, начинает считать их своей заслугой и собственностью, вступая в смертельную борьбу с самим Дарителем.
Начислим
+24
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе