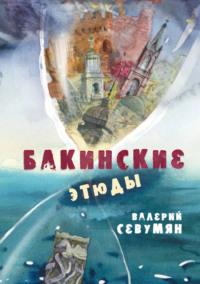Читать книгу: «Бакинские этюды. Сборник рассказов о Баку и бакинцах в царские и в советские времена», страница 20
«Черная роза» Ивана Бунина
…Я жил лишь затем, чтобы писать…
Ив. Бунин
Частенько я проходил мимо этого роскошного дома, расположенного по улице Гоголя, 9. Именно напротив него проживал мой друг, интереснейший собеседник, кандидат медицинских наук, популярный бакинский журналист Владимир Гульянц. А здание это – красивое, большое, помпезное – занимало почти весь квартал и выходило своими сторонами, помимо упомянутой улицы Гоголя, на улицы Толстого и Ази Асланова. Принадлежал этот дом бакинскому нефтепромышленнику Ага Шамси Асадуллаеву. Об этом я впервые узнал со слов Владимира, да и вензель с буквой «А» над входом в здание напоминал об этом, на что я в свое время, в силу своего любопытства, обратил внимание, но еще не знал, что он означает. Построен был этот особняк в 1896 году по проекту архитектора И.В. Эделя и считается одним из лучших творений зодчего. И место, выбранное для строительства здания, очень удачное, тихое и спокойное, и недалеко от улицы Торговой, где жизнь в то время била ключом.
Вспомнил я об этом здании не случайно, а потому, что в этом доме жила внучка Шамси Асадулаева, Умм-Эль-Бану. Девятнадцатилетней девушкой она покинула свой город, ставший для нее чужим с приходом большевиков, и уехала во Францию. В Париже, спустя годы, она стала известной как французская писательница и мемуарист Банин, писавшая свои книги исключительно на французском языке. Некоторые ее произведения, где она рассказывает о своей жизни в Баку и о жизни в эмигрантской среде, переведены на русский язык. Но, пожалуй, не менее интересное для читателя – её воспоминания о встречах в Париже с великим русским писателем Иваном Буниным. Об этом она рассказала в своей повести «Последний поединок Бунина».
Но прежде всего стоит рассказать о самой героине повествования. Родилась Банин в 1905 году в семье бакинского нефтепромышленника Мирзы Асадуллаева – старшего сына Шамси Асадуллаева и дочери другого известного нефтепромышленника Муссы Нагиева. В те неспокойные годы власти спровоцировали в Баку межнациональные столкновения, дабы тем самым подавить революционное настроение в массах. И чтобы уберечь жену от волнений и неприятностей, Мирза отправил ее в деревню, где спустя некоторое время у нее начались роды, которые, к несчастью, оказались тяжелыми. Врача поблизости не оказалось, и жена умерла, но успела дать жизнь дочке, которую в честь матери назвали Умм-Эль-Бану.
Жизнь Умм-Эль-Бану, как и рождение, оказалась не из легких. Хотя она получила хорошее образование и изучила иностранные языки, все круто изменилось с приходом в 1920 году в Баку Советской власти. Ее отец – министр недолговечной Азербайджанской Демократической Республики – был разорен, да к тому же арестован. И пятнадцатилетняя Умм-Эль-Бану решается на отчаянный шаг. Она выходит замуж за нелюбимого, но влиятельного человека, чтобы вытащить отца из тюрьмы, получить загранпаспорт и бежать в Турцию. За границей она рассталась с мужем и уехала в Париж, где к тому времени уже находились ее родные.
В Париже прямая наследница двух бакинских миллионеров начинает жизнь с нуля. (Что это такое, познали потом и многие бакинцы, оставившие по недоброй воле свой город после известных событий и последовавшего после них крушения Советской власти.) Ей довелось быть продавщицей в магазине, секретаршей в каком-то офисе и даже по рекомендации мачехи освоить профессию манекенщицы в доме моды. Банин была неглупа от природы и обладала пытливым умом и очень скоро превратилась в уверенную в себя личность. Она попробовала себя в роли переводчицы (благо немецкий она знала лучше русского, а французский легко освоила в силу своей молодости), а затем по совету французских друзей решила испытать себя в литературе. И что очень важно – во французской литературе, ибо писала она на французском языке. Тогда и обратили на нее внимание известный Андре Мальро, знаменитый Анри де Монтерлан, писатель и главный редактор авторитетного издания «Нового французского обозрения» Жан Полан, где печатала свои эссе Баним, Никос Казандзакис, с которым она спорила о проблемах католицизма, ибо из мусульманки она стала католичкой, немецкий писатель Эрнст Юнгер и, наконец, титан французской литературы, член Французской Академии Тарасов-Тарасян, Анри Труайя, написавший несметное количество книг.
Среди первых из числа французских друзей вошел в жизнь Банин немецкий писатель и философ Эрнст Юнгер. Она еще до войны была поклонницей его творчества и состояла с ним в переписке. После выхода ее первого романа «Нами» в 1945 году (кстати, не имевшего успеха) они встретились. Он был пленен ее литературным стилем, свежим необычным взглядом на обычные жизненные ситуации, а может, и самой необычностью изложенной ей истории. Они подружились на долгие годы, и Банин стала поверенной в его делах, его помощником, переводчиком его статей на французский язык, вдохновителем его творчества, его восточной гурией. Она дружила с Юнгером до конца своей жизни и в итоге посвятила ему несколько книг.
Известна была Банин и среди русских писателей-эмигрантов, таких как Бердяев, М. Цветаева, К. Бальмонт, Тэффи, Мережковский, 3. Гиппиус, Куприн, И. Бунин, Адамович. Но в своих воспоминаниях она особо выделяет Тэффи. Именно Тэффи помогла ей войти в литературные круги Парижа и познакомила со многими русскими писателями. «Мне посчастливилось, – вспоминала Банин, – я была допущена в святая святых эмигрантской литературы благодаря дружбе, которой меня удостоила Тэффи». И еще: «Благодаря литературе я стала другом Тэффи, которую полюбила с первого взгляда. У нее был самый острый и злой язык на свете. К тому же она была умна, и время, что мне удавалось проводить в ее обществе, всегда было полно очарования».
Если имя Тэффи вам мало что говорит, то я ее представлю: Надежда Александровна Тэффи (настоящая фамилия Лохвицкая) до революции была одной из самых популярных писательниц России. Продавались даже духи и конфеты «Тэффи». После октября она эмигрировала во Францию, где ее литературная судьба сложилась удачно. Она была желанным автором всех эмигрантских изданий и стала всеобщей любимицей. Ее читали все, ею восхищались, ее высоко ценили, а Михаил Зощенко считал, что Тэффи владеет особой тайной – «тайной смеющихся слов». Если собрать творчество Тэффи воедино, оно займет не менее десяти томов.
По просьбе Банин Тэффи представила ее великому русскому писателю, лауреату Нобелевской премии по литературе Ивану Бунину. Знакомство состоялась в квартире Тэффи 13 июня 1946 года. Этой встрече и дружбе с писателем она посвятила небольшую повесть с интригующим названием: «Последний поединок Бунина». Сам же Бунин об этих встречах нигде не упоминал. Не писали об этом и его дотошные биографы. Так что доверимся словам Банин и, может, раскроем смысл этой тайны.
Отношения Бунина и Банин действительно были непростые, словно поединок между двумя сложными личностями и характерами. Поединок творческий, психологический, эмоциональный и, наверное, любовный, ибо они испытывали друг к другу чувства более чем дружеские.
«Когда я вошла в комнату Тэффи, – пишет Банин, – Бунин не без труда встал с кресла, предназначенного для почетных гостей. Он стоял прямо… Прямо, словно меч, держал голову. Десять минут беседы – и вот уже тога, предназначенная возвышать Бунина в глазах других, спадает. Он воспламеняется, его голос крепнет, срываются комплименты, от которых веет добрым старым временем. Особенно обыгрывает Бунин мою восточность… Нужно только выбрать между “Розой Исфахана”, “райской гурией”, княжной из “Тысячи и одной ночи” или еще каким-нибудь восточным комплиментом. Через полчаса Бунин уже объявил мне, что я и есть та самая “черная роза”, о которой он мечтал всю жизнь, так как у меня черные волосы и глаза. Чернотой волос я была обязана отличной краске известной фирмы, но не посвящать же было его в эти подробности – глядишь еще, разочаруется. Этот комплимент я приняла, как и остальные, вполне естественно и не была шокирована тем, что он пошлый: достигнув определенной степени известности, писатель может позволить себе даже банальности – считается, что перлы он держит в глубинах своего воображения…»
«Черная роза» оказалась для Бунина крепким орешком. Она умная, начитанная, знающая европейскую литературу, независимая и гордая женщина, к тому же стервозная и язвительная. Он – уточенный эстет, несколько самодовольный эгоист, высокомерный, капризный стареющий красавец, юношески стройный, не по годам жадный к жизни, ядовито наблюдательный и подвижный.
«Должна признаться, – вспоминала Банин, – что мне нравилась его надменность. Она напомнила мне мою первую литературную любовь – князя Андрея Болконского. Кроме того, я была очарована его восхитительной молодостью духа». А Бунин был очарован Банин, ее восточной красотой и называл её «черноокой газелью». Через два дня после их знакомства Бунин подарил Банин свою книгу «Речной трактир», вышедшую в 1945 году небольшим тиражом в Нью-Йорке, с посвящениями на двух языках. На французском: «Мадам Банин от ее покорного слуги Бунина, 15.06.46. Париж» и на русском: «Сердце мужчины выскальзывает из его рук и говорит “прощай”! – слова Саади о человеке, который в плену у любви».
В гостях у Банин он садился в кресло, они пили чай и беседовали о литературе. Их встречи начинались мирно, но завершались, как правило, ссорой. Бунин, например, был недоволен, что она пишет на французском, а не на «родном русском». Но Банин родилась и выросла в Баку, и для нее, скорее всего, родным языком должен был быть азербайджанский. «Я не русская, – отвечала Банин, – и пишу не для одной русской эмиграции. Да, я считаю себя западным человеком… а еще больше – гражданкой мира». И в этом она была права.
«Черноокая газель», или, как еще называл её Бунин: «Черная роза небесных садов Аллаха», относилась к творчеству великого писателя несколько сдержанно, не проявляя особого восторга. Здесь она, скорее всего, лукавила, и, возможно, это была ее игра. Вот она интересуется у него, как он узнал, что ему присуждена Нобелевская премия и как реагировал на это известие. Улыбаясь, Бунин начинает рассказывать, но язвительная Банин подводит черту: «Как все-таки вам повезло с этой премией!»… – «Почему повезло?» – удивляется Бунин… И между ними начинается диалог, причем весьма эмоциональный и волнующий. А вот он рассказывает ей о встрече с Андре Жидом. О том, что контакта у него с этим известным французским писателем, увлекшимся социалистическими идеями, не получилось, что им не о чем было говорить и встреча эта оставила у него неприятный осадок в душе.
«Скажите лучше, – возгорается Банин, – что, поскольку вы шовинист, вы не смогли им заинтересоваться. Вам скучно все нерусское, скучны вам вся Европа, весь мир. Говорить по-французски для вас пытка. Вы живете в этой стране четверть века и не удосужились или не смогли выучить его язык. Французы нервируют вас тем, что они не русские; вы упрекаете Францию в том, что она не ваша святая матушка-Русь. Вы подсознательно считаете их ответственными за вашу эмиграцию и переносите на них все ваши сетования на судьбу. Это специфически эмигрантское мировоззрение…» В то же время Бунин обвиняет ее в том, что она, русская женщина, превращается в иностранку, упрекает ее в том, что она порой не может подобрать подходящее русское слово. Ее, которая родилась в России.
«Я запрещаю вам переодевать меня в русскую, – взрывалась «Черноокая газель». – Слышите, запрещаю! Вы превратили мою родину в колонию, ладно, но мы вовсе не смирились с этим “под сенью ваших дружеских клинков”, как пишет безо всякой иронии ваш великий поэт Лермонтов… Вот бы довелось вам видеть мою бабушку, которая плевалась при виде “русских христианских собак”, вы бы лучше поняли наши мирные чувства к вам. Ни семья моя, ни предки, ни религия, ни народ не были русскими. Мой род со своими Али-бабой, Гюльнарами, Лейлами и прочими вышел из Персии, а вовсе не из Ярославля или Царицина». Однако Бунин пытался убедить ее, что она говорит по-русски как русская и, конечно, ей надо бы писать на этом языке. Но Банин вновь повторяет, что она не русская и пишет не для одной русской эмиграции. И вновь завязывается спор… «Я ненавидела Бунина, – пишет Банин, – и, однако, не увлеклась ли им немножко? Ведь он мне нравился, этот кипучий старик, такой воинственный, такой неукротимый… Он меня увлекал в авантюру, которая давала возможность – мне, лентяйке, – жить полной духовной жизнью, не вставая с дивана…» А на следующий день, после бурных споров, Бунин подарил ей книгу стихов с вложенным в нее письмом. На конверте была надпись: «Дорогая госпожа Банин, Черная роза небесных садов Аллаха, Учитесь писать по-русски! Ив. Бунин, 21.06.46» (слово «госпожа» зачеркнуто. Далее написано: «Это я зачеркнул. Иван Бунин»).
И все же их объединяла любовь к русской литературе, и особенно к Льву Толстому: «Мы говорили о Толстом с одинаковым увлеченьем, с большой любовью за радости, которые он нам доставил». Но такие минуты длились недолго. Стоило Банин похвалить советский фильм об Узбекистане, что ей удалось увидеть накануне, как Бунин тут же помрачнел и спросил: «И вы верите этой пропаганде?» И вот они снова спорят, доказывая друг другу свою правоту. Порой она его сильно огорчала, и он сидел удрученный, утратив свою агрессивность. Тогда она шла за вином и закусками, приготовленными для него. Как-то потеплев после небольшого застолья, он сказал своей черноокой газели: «Ах, что бы мне вас встретить лет на двадцать пораньше!» На что Банин ответила: «Это было бы восхитительно!» А потом добавила: «Мы очень скоро убили бы друг друга или жили бы в аду».
В своем повествовании Умм-Эль-Бану посвятила несколько интересных страниц приезду в 1946 году в Париж известного советского писателя Константина Симонова и его жены, Валентины Серовой. Целью их приезда была встреча с Иваном Буниным.
Надо отметить, что, эмигрировав из России в 1920 году, И. Бунин всегда переживал за ее судьбу, тосковал по России. И даже выражал желание вернуться на Родину. Когда в 1936 году он встретился с А.Н. Толстым, тот сказал ему: «Возвращайся домой. Москва сумеет тебя встретить. Москва ударит в уцелевшие колокола».
Во время Второй мировой войны Бунин пристально следил за событиями в России, искренне радовался победам Красной армии. Он голодал в годы оккупации Франции нацистами, но отказался от сотрудничества с ними. Писатель самоотверженно скрывал у себя дома людей, преследуемых полицией и гестапо. Он презирал тех писателей-эмигрантов, которые печатались в грязных листках и доносили на патриотов. И вместе с тем уже после победы, гордясь героизмом советских солдат, он с резкой критикой обрушивался на поэтов и писателей, которые в своих произведениях восхваляли Октябрьскую революцию. В то же время указ советского правительства 1946 года «О восстановлении в гражданстве СССР поданных бывшей Российской империи…» Бунин назвал «великодушной мерой».
А Москва тем самым пыталась заманить обратно на Родину российских эмигрантов, проживающих во Франции, обещая им сытую жизнь и благополучие. Уехали те, кто поверил пустым посулам, кого мучила ностальгия и кто не представлял свою жизнь без России. Но целилась Москва в основном на именитых людей, и в числе первых там был, естественно, Бунин – всемирно известный писатель, лауреат Нобелевской премии.
Настроение Бунина было отмечено секретными советскими службами, и он получил письмо от советского посла А.Е. Богомолова с пожеланием личной встречи и приглашением на завтрак. Знали, что Бунин большой гастроном и чрезвычайно чувствителен к вниманию, ему оказываемому. А тон самого письма свидетельствовал, что Бунина выделяют из общей эмигрантской среды. В то же время специально в Париж был направлен поэт и секретарь Союза писателей СССР К.М. Симонов с единственной целью – убедить Бунина вернуться на Родину.
В Париже вся русская эмиграция хотела увидеть Симонова – обаятельного, красивого и обходительного человека, известного советского писателя новой формации, побыть на его творческих вечерах. А Симонова интересовал Бунин. В честь него он накрывал столы, приглашал в кафе и в ресторан, на свои вечера, в гости к своим друзьям. В то время Бунин как раз испытывал материальные затруднения – денег не хватало (премия давно была потрачена) да болезни давали о себе знать. И он был польщен таким вниманием к своей персоне. Приглашал свою «черную розу» принять участие в этих мероприятиях, хотел показать ей, как ценят его – известного писателя – в стране Советов, какие сулят привилегии и большие возможности для творчества.
Первая встреча с Симоновыми прошла в парижском зале Дебюсси, который был забит до отказа, но три кресла в первом ряду были предназначены для жены Симонова, Бунина и Банин. Константин Симонов читал со сцены свои стихи и отвечал на вопросы. А на следующий день Симонов собрался в гости к Бунину, в его маленькую квартиру на рю Жак-Оффенбах. И, естественно, не с пустыми руками. Продукты, по словам Симонова, были доставлены ночью из Москвы. И все было красиво представлено. Своего рода сигнал Бунину – вот так будешь питаться у нас!
Принимавшая участие в том вечере Банин сохранила для нас некоторые подробности: «Стол ломился от закусок. Колбасы, копченая севрюга, свежая осетрина, анчоусы, селедки, кетовая и паюсная икра, маринованные грибы, пирожки с капустой и с мясом, пышная кулебяка… Заботливый Симонов заказал даже хлеб и масло, не говоря уж о главном напитке, таком же обязательном на русском столе, как на французской свадьбе шампанское, то есть о водке… Социалистическая водка имела приятный вкус, но была не очень крепкой. Симонов уверял, что в ней сорок градусов, но Бунин – тонкий знаток – проверял ее спичкой. “При царизме, – гудел он, – водка за минуту опрокидывала полк гусар. Неудивительно, что она выдыхается, раз ее производят стахановцы. Этот Стаханов вредный тип, он появился, чтобы мешать людям мирно жить.
Вы заменили опиум религии опиумом труда. Вы что думаете, чем больше люди работают, тем они счастливее?” Он схватил бутылку, долго изучал этикетку, как будто хотел вычитать из нее судьбу русского народа, с укором покачал головой и налил соседям и себе».
По воспоминаниям Банин, жена Симонова, актриса Валентина Серова, как и накануне, была хороша собой и одета с парижской элегантностью. В ней все было прекрасно, кроме шовинизма. Она часто говорила «у вас здесь» с презрительной гримасой, и это было началом поношения Франции. Но Бунин и Тэффи, обычно такие суровые в отношении Франции, защищали ее изо всех сил, по принципу «сам ругаю, а другим не дам». Когда же Симоновы заявили, что их страна достигла больших успехов в области виноделия и французские вина не идут в сравнение с советскими, в клане эмигрантов раздался крик протеста. При этом глаза Бунина хитро блеснули, и он спросил с издевательским тоном: «А что, солнце тоже встало на стахановскую вахту и греет жарче, чем при царизме?» Водка всем развязала языки, а Бунин, по словам Банин, окончательно распустился: «Передайте мне этого буржуазного предрассудка» – говорил он, показывая на икру. Или: «Соцколбаса, пожалуй, не хуже капколбасы»… Симонов вежливо улыбался…
«Вечер кончился слишком быстро, – подводит итог Банин, – как все хорошее в жизни. Лимузин дядюшки Джо привез меня домой».
Жена Бунина, Вера Николаевна, тоже вспоминает о встрече с Симоновым и пишет в своем парижском дневнике: «…Вчера приезжал Симонов, приглашать на завтра на его вечер… Понравился своей искренностью, почти детскостью… Симоновское благополучие меня пугает. Самое большое, станет хорошим беллетристом… Симонов ничем не интересуется. Весь полон собой. Человек он хороший, поэтому это не возмущает, а лишь огорчает. Очень довольна, что провела с ним час. Это самые сильные защитники режима. Они им довольны, как таковым, нужно не изменить его, а улучшить. Ему нет времени думать о тех, кого гонят. Ему слишком хорошо» (11 авг. 46 г.) И еще: «…Третьего дня был у нас московский ужин: водка, селедки, кильки, икра, семга, масло, белый и черный хлеб – все прислано на авионе по просьбе Симонова. Были у нас и Тэффи с Банин (переводчица), которая внесла большое оживление».
После отъезда Симонова «заманивание» Бунина продолжалось. Он узнал, что в московском издательстве готовится том его избранных произведений, поговаривали также о возможном собрании сочинений.
Большая часть эмиграции отнеслась к этим действиям Бунина как к отступничеству, от него отвернулись многие, за исключением очень близкого круга друзей. Но они (как большевистская, так и эмигрантская стороны) не учли самого главного – внутренней независимости Бунина и его верности прежним идеалам. Старания Симонова склонить Бунина к возвращению на родину не дали положительного результата. Бунин не поддался посулам, несмотря на денежные затруднения и нелегкую жизнь эмигранта. Он остался верен своим принципам и убеждениям. Писатель не мог сотрудничать со страной, где преследуют церковь и топчут ценности, которые ему дороги, где ничего не осталось от прежней родины, кроме русского языка. Окончательно отвратило желание писателя вернуться на Родину ждановское постановление в 1946 году о журналах «Звезда» и «Ленинград», растоптавшее Анну Ахматову и Михаила Зощенко. Не поддалась уговорам и Тэффи.
После этих событий Бунин прожил еще семь лет – в нужде и болезнях, но без страха и сожаления. Он умер в Париже, в своей маленькой квартире на улице Оффенбаха. Банин пережила великого писателя на сорок лет. В последние годы своей жизни она вела активную общественную деятельность, знакомилась с творчеством молодых авторов, вела переписку на многих языках и написала свой последний роман «Что мне сказала Мария».
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе