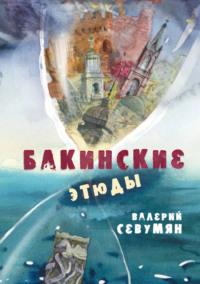Читать книгу: «Бакинские этюды. Сборник рассказов о Баку и бакинцах в царские и в советские времена», страница 17
В течение двух лет все вклады Альфреда Нобеля были изъяты из промышленного производства и стали финансовой основой Нобелевской премии.
Наибольшая часть собственности Альфреда находилась на территории Франции и составляла 7,281 миллиона шведских крон. В Германии находилось имущества на общую сумму 6,152 миллиона крон, а в Англии и Шотландии – на 7,818 млн крон. Имущество из России (Петербург, Баку) тоже принесло приличную сумму – 5,233 миллиона крон, но дела здесь обстояли несколько сложнее. Дело в том, что Альфред владел значительной долей акций Бакинской нефтяной компании, которой управлял его племянник Эмануэль. Продать портфель акций, принадлежащий Альфреду, означало допустить к делу посторонних людей, что не устраивало Эмануэля и могло отразиться на всей семье. К тому же сразу после оглашения завещания начали падать акции бакинской компании. В конечном итоге Эмануэль выкупил акции Альфреда, принадлежавшие «Товариществу братьев Нобель», за 3,48 миллиона крон по курсу, одобренному биржевыми маклерами.
Так в 1900 году на основе условий, оговоренных в завещании, был создан Нобелевский фонд и специальным комитетом был выработан его статус.
Вручение первых Нобелевских премий состоялось 10 декабря 1901 года, и они были присуждены по пяти категориям, указанным Альфредом Нобелем: физике, химии, литературе, физиологии и медицине и за вклад в дело мира. С 1969 года по инициативе Шведского банка стали присуждать премии по экономике. Нобель не назначил премию в области математики, и по этому поводу ходят много легенд. Но как предполагали современники, он не считал математику практической наукой, приносящей конкретную и ощутимую пользу человечеству.
Вот такое столь необычное завещание оставил изобретатель динамита и промышленник Альфред Нобель. А нам остается напомнить, что 10 % основного капитала, из которого ежегодно выплачивается Нобелевская премия, были внесены нефтяной компанией «Товарищество братьев Нобель».

Дом Каспийско-Черноморского общества (бывшая контора Ротшильда). Выполнен по проекту польского архитектора Каземира Скуревича в духе средневековой романтики (1898–1899 гг.)
Дау из Баку
В самом центре Баку, на пересечении улиц Самеда Вургуна и Низами, расположено красивое четырехэтажное здание. Оно хорошо знакомо каждому бакинцу и знаменито тем, что здесь 22 января 1908 года в семье Давида и Любови Ландау родился мальчик, ставший гордостью Баку. Это был один из лучших физиков-теоретиков XX столетия, лауреат Нобелевской и многих других премий, основатель целой научной школы, академик Лев Давидович Ландау. Он был одним из самых гениальных ученых в мировой истории, человек необычайной ясности ума и большой души. Его имя стало символом высочайшего профессионализма в науке, бескомпромиссности и честности.

Начало
Отец Льва Ландау, Давид Львович, был способным инженером-нефтяником, яркой личностью. В молодости он работал в химической лаборатории принадлежавшего Ротшильду завода по рафинированию нефти, прошел все стадии добывания и обработки нефти и дошел до управляющего нефтяными промыслами. Со временем он занял ответственный пост в английской компании «Шелл», которая господствовала на нефтяных промыслах России и Персии. Он жил и работал в Баку и был достаточно богат. Их квартира из шести комнат на углу Торговой и Красноводской улиц (теперь улицы Самеда Вургуна и Низами) находилась на третьем этаже, с балконом, выходившим на обе улицы.
Давиду Ландау было около сорока лет, но он был заядлым холостяком и не собирался жениться. Родители делали разные попытки женить его, но безуспешно. Как-то они попросили его сопровождать кузину Аню в Швейцарию, и он согласился. Аня ехала со своей подругой Любой. Это встреча оказалась роковой для Давида. Он влюбился, но не в Аню, а в Любу. И до самых последних дней ее жизни относился к ней с нежностью и любовью.
Любовь Вениаминовна Гаркави-Ландау была врачом и человеком неординарным: волевой, целеустремленной, решительной. Закончив Еленинский повивальный институт и проработав некоторое время, она в 1899 году поступила в Женский медицинский институт в Петербурге и окончила его. Училась и одновременно работала сотрудником на кафедре физиологии в том же институте.
В 1905 году она переехала из Петербурга в Баку, где в семье Ландау родились Соня и Лёва. Но и после рождения детей, будучи достаточно обеспеченной, Любовь Вениаминовна продолжала работать. Три года она занималась акушерством и гинекологией в больнице в Балаханах (на нефтяных промыслах под Баку, где работал муж), затем там же работала санитарным врачом в женской гимназии. Во время Первой мировой войны, в 1915–1916 годах, она – ординатор в военном лазарете в Баку, а начиная с 1916 года – преподаватель бакинской гимназии. В дальнейшем она преподавала физиологию, анатомию, фармакологию на Курсах сестер и красных фельдшеров при Всеобуче, в Средне-Медицинской школе и Высшем институте народного образования, в Бакинском государственном университете и на Рабфаке. В 20-х годах Любовь Вениаминовна преподавалав Азербайджанском сельхозинституте, который располагался в уютном особняке, окруженный небольшим садом по улице 28 Апреля (там, где в 60-х годах появилась гостиница «Баку»), Одним из слушателей ее лекций был мой отец – студент сельскохозяйственного института. По словам отца, Любовь Вениаминовна была профессором медицины и занималась физиологическими исследованиями. Она преподавала им биологию. Это была неординарная женщина: энергичная, решительная и очень требовательная к студентам.
Давид Львович и Любовь Вениаминовна Ландау стремились дать детям хорошее образование и уделяли этому много внимания: в доме жила гувернантка-француженка, приходили учителя музыки, ритмики и рисования. Соня и Лёва изучали французский и немецкий языки и отлично владели ими, учились игре на фортепьяно. Мама научила Леву читать и писать, а папа занимался с сыном математикой. Когда Леве исполнилось восемь лет, он был определен в бакинскую гимназию, а его мама стала работать в ней преподавателем естествознания. Родители, а позже и преподаватели заметили необыкновенные математические способности Лёвы. Занятия математикой доставляли ему наибольшую радость. Он мог за несколько минут в уме перемножить многозначные числа и дать правильный ответ. Когда ему было девять лет, он уже освоил алгебру, геометрию и тригонометрию, в 11 лет под руководством отца занимался высшей математикой, освоив дифференцирование и интегрирование. Через два года сдал экстерном экзамен по курсу средней школы, и в 14 лет стал студентом Бакинского университета. Гуманитарные науки Льва не привлекали. Его увлечением были точные науки, и он был студентом двух факультетов: физико-математического и химического. Вскоре химию он оставил и продолжил специализироваться по физике.
Спустя два года, в 1924 году, за особые успехи Лев Ландау был переведен в Ленинградский университет. В своем рекомендательном письме в Ленинград декан физико-математического факультета Бакинского университета писал: «Я выражаю твердую уверенность, что ваш университет впоследствии будет вправе гордиться тем, что подготовил выдающегося научного деятеля».
Ленинград тогда был научной столицей страны, в университете работали такие видные физики, как А.Ф. Иоффе, Д.С. Рождественский, Д.А. Рожанский, преподавал голландский физик Пауль Эренфест. Это была замечательная среда для Ландау, и он занимался еще более упорно, чем в Баку. Находясь в компании молодых талантливых студентов-физиков, он получает от них свое знаменитое прозвище Дау. Льву это очень понравилось – кратко и звучно. С тех пор не только в быту, но и для всего научного мира Лев Давидович Ландау стал просто Дау.
Через два года Дау с блеском окончил университет и стал штатным аспирантом Ленинградского физико-технического института, а в дальнейшем – сотрудником этого института, где работал над магнитной теорией электрона и квантовой электродинамикой. К 19 годам он успел написать четыре серьезные научные работы, которые были опубликованы в специальных изданиях.
В 1929 году Льва Ландау на два года отправляют в научную командировку за границу. Он побывал в Германии, Англии, Дании, Нидерландах. Познакомился с основоположниками квантовой механики… За границей Ландау проводил важные исследования магнитных свойств свободных электронов. Эти работы выдвинули Ландау в число ведущих физиков-теоретиков мира. Ему было тогда 22 года.
Профессор Дау
В 1931 году Лев Ландау вернулся в Ленинград. Но вскоре переехал в Харьков – его пригласили возглавить теоретический отдел Украинского физико-технического института. (УФТИ). С 1933 года Дау одновременно заведовал кафедрой теоретической физики на физико-математическом факультете Харьковского механико-машиностроительного института. Через год Академия наук СССР присуждает ему ученую степень доктора физико-математических наук, а в 1935-м он получает звание профессора.
При Ландау УФТИ стал одним из ведущих мировых центров физической науки. Однако профессор Дау проявил себя не только как блестящий физик-теоретик, но и как талантливый педагог, подготовив плеяду молодых одаренных ученых и создав всемирно известную школу физиков-теоретиков. Вот слова о нем профессора С.П. Капицы: «Ландау был, может быть, последним из тех, кто мог объять своими знаниями практически всю существенную физику своего времени». Коллеги и ученики, рассказывая о профессоре, неизменно вспоминают о его искрометном чувстве юмора и стремлении в общении с людьми настраивать собеседника на доверительный лад. А вот мнение академика И.М. Халатникова: «Он притягивал своим бескорыстием, открытостью, в нем никто не видел патриарха, это был простой, очень естественный, доступный, удивительно жадный до жизни человек, с прекрасным чувством юмора». Здесь же, в Харькове, в 1934 году Ландау познакомился со своей будущей женой – Корой Дробанцевой.
В помощь своим ученикам совместно с Евгением Лифшицем Ландау в 1935 году создал и опубликовал серию учебников по курсу теоретической физики. Их содержание авторы пересматривали и обновляли в течение последующих 20 лет. Эти учебники считаются классическими, переведены на многие языки мира и до сих пор считаются для физиков-теоретиков необходимым учебным пособием.
Вспоминает академик Е.М. Лифшиц: «В течение всей своей жизни Лев Давидович мечтал написать книги по физике на всех уровнях – от школьных учебников до курса теоретической физики для специалистов. Фактически при его жизни были закончены почти все тома “Теоретической физики” и первые тома “Курса общей физики” и “Физики для всех”».
Таким образом, наряду со своими многочисленными научными трудами, наиболее важное, что оставил после себя Ландау потомкам, – это десятитомный курс «Теоретическая физика». Ничего похожего история науки не знала, аналогов этому труду не существует и по сей день. Его величие состоит именно в том, что курсом объята вся физика. За этот фундаментальный труд Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшиц были удостоены Ленинской премии.
Арест
В феврале 1937 года Ландау принял приглашение П.Л. Капицы занять должность руководителя теоретического отдела во вновь созданном им знаменитом теперь Институте физических проблем в Москве. Ландау покинул Харьков и переехал в Москву. После его отъезда из Харькова там начался разгром УФТИ органами НКВД.
Капица был доволен: теоретик такого уровня, как Ландау, был ему крайне нужен, и прежде всего для объяснения обнаруженного им парадоксального поведения жидкого гелия при температуре вблизи абсолютного нуля. Ландау занялся этим вопросом и стоял на пороге открытия. Именно за эту работу его удостоят в будущем Нобелевской премии. Но… в ночь на 28 апреля 1938 года ученого арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Германии.
Неизвестно, что сталось бы с Ландау, если не вмешательство влиятельного Капицы. Он стал бороться за Ландау и сообщил об аресте Нильсу Бору. Совместными усилиями они добились освобождения Ландау. Все это заняло много времени, и Ландау провел в тюрьме почти год. Он все время повторял с благодарностью, что Капица спас его от смерти. Одновременно с Ландау в Москве задержали его друга, физика Юрия Румера. Всю первую ночь они в камере вели разговор о математике. Румер провел в заключении десять лет. Ландау каждый месяц отправлял ему деньги из той суммы, которую не отдавал жене, а тратил на свои нужды.
Атомный проект
После освобождения Ландау с головой погрузился в научную работу. Он занимался вопросами низких температур, в том числе сверхпроводимостью и сверхтекучестью. Во время Второй мировой войны Ландау занимался исследованием горения и взрывов, в особенности ударных волн на больших расстояниях от источника. В конце 1940-х – начале 1950-х годов Лев Давидович Ландау руководил группой теоретиков, которые проводили фантастические по сложности расчеты ядерных и термоядерных цепных реакций. Эта работа осуществлялась в рамках проекта создания ядерного оружия. Участвовать в этой работе Ландау не хотел, потому что понимал, что участвует в создании страшного оружия. Но у него не было выхода: отказ ученого такого уровня, да к тому же «шпиона и вредителя на поруках» в реалиях того времени был невозможен.
Академик И.М. Халатников вспоминал: «Он участвовал в спецпроекте, потому что это его защищало. Я думаю, страх… отказаться от участия здесь присутствовал. А уж дальше – то, что Ландау делал, он мог делать только хорошо. Я могу категорически утверждать: сделанное Ландау было в Советском Союзе не под силу больше никому».
Ландау и руководимая им группа внесли значительный вклад, в частности, в «расчетное обоснование» первых образцов атомных и водородных бомб. И результаты испытаний были очень хорошими. Ученых осыпали наградами. Лев Ландау был избран академиком, ему были присуждены три Сталинские премии и звание Героя Социалистического Труда.
Авария
Зимой, 7 января 1962 года, незадолго до своего 54-летия, направляясь в Дубну, чтобы поддержать друга, Лев Ландау попал в автокатастрофу и получил многочисленные травмы. Ученый два месяца не выходил из комы, но выжил благодаря усилиям врачей СССР, Канады, Франции, Чехословакии и мирового научного сообщества.
В конце 1962 года он получил Нобелевскую премию «за работы в области теории конденсированных сред, в особенности – жидкого гелия». Он был единственным в истории лауреатом, которому вручали награду в больнице. Эту премию вручил ученому в Москве посол Швеции. Ландау прожил еще шесть лет, но так и не вернулся к работе. Он не мог оправиться от последствий аварии, а гений его погиб в нем. Незадолго до кончины он сказал: «Я неплохо прожил жизнь. Мне всегда все удавалось».

Мемориальный барельеф, установленный на стене дома, где жил Лев Ландау
«Серебряный шар» Виталия Вульфа
Он с малых лет полюбил театр. Мечтал стать артистом, но получил юридическое образование и стал юристом. Однако профессия юриста не входила в его планы; он любил театр и сохранил эту любовь на всю жизнь. Писал статьи, рецензии, книги о театре и деятелях театра, делал переводы пьес иностранных драматургов, которые ставились на московских сценах. Но успех к нему пришел не сразу. Для этого потребовались годы упорного труда, прежде чем театровед, критик и писатель, автор и ведущий одной из популярных передач российского телевидения «Мой серебряный шар» стал телезвездой, объектом всеобщего поклонения и обожания.
Виталий Яковлевич Вульф родился в Баку в 1930 году. Его отец Яков Сергеевич Вульф был известным в городе адвокатом, а мать Елена Львовна Беленькая преподавала русский язык и литературу. Она закончила филологический факультет Бакинского университета и была любимой ученицей известного поэта Серебряного века Вячеслава Иванова. Он из Баку уехал в Италию, и даже в первое время от него приходили письма.
Семья Вульф проживала в Баку по улице Хагани, 18. Домашняя атмосфера, беседы с отцом и матерью на разные темы формировали в мальчике духовную личность, а гувернантка-немка обучала его иностранным языкам. Еще в ранней молодости Виталий Вульф увлекся театром, брал в библиотеке пьесы и разучивал их. Несколько лет учился музыке. Хотя особых способностей, по собственному признанию, у него не проявилось, но полученные знания помогли ему в будущем.
Среднее образование Вульф получил в одной из лучших бакинских школ № 160. После ее окончания он собирался поступить в ГИТИС, но по настоянию отца, желающего, чтобы сын пошел по его стопам, поступил в 1947 году на юридический факультет Московского государственного университета. При этом юриспруденция его совершенно не интересовала – он почти каждый вечер ходил на спектакли. Помогала ему в этом его тетя – она, втайне от родителей, высылала ему деньги на билеты в театр.
После окончания университета Виталий Вульф трижды пытался поступить в аспирантуру, успешно сдав все экзамены, но получал отказ. Чтобы устроиться по специальности, Вульфу пришлось вернуться к родителям в Баку. Но и здесь, не найдя для себя подходящей должности, он устроился школьным учителем по истории СССР и логике. Два года преподавал в 47 и 36 бакинских школах, затем устроился в бакинскую адвокатуру, а в 1957 году ему удалось поступить в Москве в аспирантуру.
Но прежде чем мы продолжим наше повествование о жизненном пути Вульфа, сделаем небольшое отступление и расскажем о его педагогической деятельности в Баку. И расскажем, не ссылаясь на литературные источники, а, как говорится, с первых рук. Конечно, преподавание в школе не устраивало молодого юриста, и эту работу он воспринимал, как временное трудоустройство, но все же отнесся к ней с должной долей ответственности. Он смог быстро найти контакт со своими учениками, оживить занятия и даже вызвать у них интерес к изучаемому предмету. Все дело в том, что автор этих строк учился в 47 бакинской школе, но его пути с Вульфом, к сожалению, не пересеклись, за исключением нескольких мимолетных встреч. Но некоторым его друзьям повезло больше – они были его учениками и поделились своими воспоминаниями. Итак, предоставляем слово Эдуарду Левашенко, проживающему ныне в Израиле:
«Я хорошо помню Виталия Вульфа. Когда в 1954 году я учился в седьмом классе 47-й бакинской школы, он преподавал нам историю СССР. Это был молодой, интересный и весьма уверенный в себе человек, с необычной походкой, всегда холеный и модно одетый. Носил он пиджак с широкими накладными плечами, узкие брюки и туфли на толстенной каучуковой подошве. В то время наш класс был мужской, но если с нами учились бы и девочки, то многие из них были бы влюблены в своего учителя. Но и нас, мальчишек, он крепко держал своими интересными рассказами и забавными историями, увлекая в другой, неизвестный для нас мир. Но не забывал он и о школьной программе, умело сочетая время, отведенное на то и другое. И еще я очень хорошо помню, что посещаемость наших многих разболтанных арменикендских мальчишек на его уроках была почти стопроцентная, а это говорит о многом. Виталий Вульф преподавал в нашей школе недолго: полтора или максимум два года, и можно только представить, каким тяжелым было для всех нас расставание с прекрасным учителем. Зато потом, спустя многие годы, я с удовольствием смотрел его телевизионную передачу “Мой серебряный шар”, подспудно гордясь своей сопричастностью со знаменитым телеведущим».
Возникали у Виталия Яковлевича в школе и курьезные моменты. Об этом вспоминает его ученик Теймур Байрамов, проживающий в настоящее время в России:
«То, о чем я собираюсь рассказать, срисовано с натуры. И было это где-то, дай Бог памяти, году в одна тысяча девятьсот пятьдесят четвертом. Окраина Баку. Сорок седьмая средняя школа. По ту пору еще мужская. Наш восьмой – «первый» класс. За партами – двадцать восемь вполне хулиганистых молодых людей. Пустой урок… Но вот открывается дверь, и в класс входит директор школы Гайк Гевондович. За ним следом – бочком, бочком – молоденький субтильный субъект, слегка шаркающая походка, да и вся внешность которого не оставляли никаких сомнений – маменькин сыночек из центра города, стиляга… Гайк Гевондович, как и положено в таких случаях, представил новенького.
– Это ваш учитель Виталий Яковлевич Вульф. Прошу любить и жаловать. – И шагнул за дверь…
С этого незаметного для мировой истории факта и началась недолгая преподавательская карьера будущего знаменитого телеведущего.
Вы смотрели по телеку передачу “Мой серебряный шар”? На сцене в кресле вальяжно расположился представительный (куда подевалась юношеская субтильность?) мужчина. Голос ворожит, а лёгкое грассирование ненавязчиво акцентирует аристократичность облика ведущего. Неподражаемая манера доверительного повествования о знаменитостях, чьи имена у всех на слуху, полное погружение в атмосферу незаурядного их бытия…
Ах, Виталий Яковлевич, Виталий Яковлевич, как Вы были выразительны! Как знакомо неповторимы. Какими глазами мы, ваши бывшие ученики, провожали каждый ваш жест. Как впитывали каждое слово… Словно вернулись давние времена, когда отпетые аборигены послевоенного Арменикенда требовали от своего нового учителя интересные истории, которых он знал великое множество… И даже прибегали при этом к насилию…
Очередной урок. Виталий Яковлевич отрезвляет класс настоятельным требованием пройти по программе. Двадцать восемь архаровцев шумно протестуют: даешь что-нибудь интересное. А поскольку педагог стоит на своем, решение его оппонентов категорично и не заставляет себя ждать: староста класса Виталий Густов демонстративно запирает дверь классной комнаты, а ключ забрасывает в запертый шкафчик.
Время между тем движется к концу урока, и незадачливому ментору пора двигаться в следующий класс. А дверь заперта… Цейтнот и цугцванг в одном флаконе: учитель в отчаянье, а класс – в ожидании. В конце концов стороны все же приходят к согласию: Виталий Яковлевич обещает на следующем уроке что-нибудь рассказать помимо обрыдлой школьной программы, а класс согласился освободить невольного заложника мастерства Устного Рассказа.
Повторяю, это было где-то в 1954 году, во времена, когда цунами славы еще не вознесло нашего учителя на вершину всенародного признания. И нам, его воспитанникам, приходилось вот таким варварским способом вызывать будущего Маэстро “на бис”».
Итак, шел 1956 год. После непродолжительной педагогической деятельности Виталий Вульф стал бакинским адвокатом. Природное ораторское искусство очень помогло ему в этом деле, и он даже стал зарабатывать неплохие деньги. Но по настоянию матери он все же поступил в Москве на заочное отделение аспирантуры. Жил на два города. В эти годы он познакомился с легендарной актрисой Марией Бабановой, которая ввела его в театральный мир. «Меня не столько привлекало занятие над диссертацией, – скажет потом Виталий Вульф, – сколько само пребывание в Москве. Интересовал меня только театр».
В 1962 году, после защиты диссертации, Вульф стал кандидатом юридических наук и окончательно переезжает в Москву. Он по-прежнему увлечен театральным искусством и часто посещает спектакли известных московских театров, и особенно любимый театр «Современник». Числится в московской коллегии адвокатов и иногда ведет какие-то дела. У него складываются дружеские отношения со многими театральными деятелями: Олегом Ефремовым, Галиной Волчек, Леонидом Эрманом, Лилей Толмачёвой…
«Я очень долго искал себя, – пишет Виталий Яковлевич в своей книге «Серебряный шар». – Оперы, балеты, драматические спектакли – все занимало воображение. Говорят, что у каждого человека есть своя “линия жизни ”, наверное, она существует, но одни ее осознают раньше, другие позже. Судьба складывается не только из желаний, идей, но и из реальных обстоятельств. Их мне приходилось очень долго и не всегда успешно преодолевать. Только верность тому, что любил с детства, помогла выжить, но привычки тех лет остались позади».
Спустя пять лет, после своего «долгого поиска», Вульф устроился в Институт международного рабочего движения Академии наук СССР, где проработал 30 лет. Здесь он изучал молодежное сознание в западных странах и театральные проблемы, особенно его интересовала история американского театра. Он посетил многие страны, начал издавать статьи в газетах и журналах. Первая его статья увидела свет на страницах журнала «Театр» о движении хиппи – «Вокруг Вудстокского фестиваля». Он также занимался переводами произведений англо-американских драматургов. Было переведено около 40 пьес, и многие из них были поставлены на сценах московских театров.
Приход в театральную профессию дался ему непросто, но автор не боялся трудностей, занимаясь любимым делом. В 1982-м выпустили книгу «От Бродвея немного в сторону, 1970-е годы». Спустя три года издал книгу под названием «А. И. Степанова – актриса Художественного театра». К этому времени Вульф уже обрел статус в профессиональных кругах и сумел завоевать признание, защитил диссертацию и стал доктором исторических наук. В 1989 году его впервые отправили в командировку в США. После этого визита декан театрального факультета Нью-Йоркского университета прислал Вульфу рабочую визу и приглашение читать лекции в их университете. Так в 1992 году Вульф во второй раз отправился в Америку, где два года преподавал курсы: «История русской драматургии», «Чехов и театр», «Сталин и театр», «Театр Теннесси Уильямса».
Когда в 1994 году Виталий Вульф вернулся в Россию, его пригласил на телевидение журналист Владислав Листьев. Театровед согласился и стал автором и ведущим программы «Мой серебряный шар». Героями его передач были деятели культуры, искусства, литературы и политики. Со многими из них автор был знаком лично. В своей авторской программе Виталий Вульф рассказывал, например, о Фаине Раневской, Марине Цветаевой, Олеге Ефремове, Иве Монтане, Рудольфе Нуриеве, Марине Неёловой… Рассказывал также и о политических деятелях – Рузвельте, Черчилле, Шарле де Голле и о многих других. Всего в эфир вышло более 200 выпусков.
Много было нападок от недоброжелателей – мол, кто он такой, чтобы рассказывать о деятелях искусства, не имея театрального образования?! Но популярность его передачи была необыкновенной. Виталий Вульф рассказывал о великих людях, создавая ощущение своей причастности к судьбе того, о ком он говорил. Да и сам он, по собственному признанию, выходя в эфир, получал удовольствие от познания человеческих судеб. «Жизнь не бывает идиллической, – пишет он в своей книге «Серебряный шар», – без мытарств ничего не происходит, просто надо обладать упорством, чтобы не поддаться хулам и похвалам».
Виталий Вульф становится заслуженным деятелем искусств России. Он начал писать колонки «Заметки мэтра» для еженедельника «Век», а в 2001 году вместе с журналисткой Серафимой Чеботарь начал вести рубрику «Кумиры. Легенды» в журнале L’Officiel. В соавторстве они выпустили семь биографических сборников о знаменитостях. Собственным же проектом Вульфа стало произведение «Звезды трудной судьбы», объединившее истории мастеров ушедшей эпохи и современности.
Мой студенческий друг, Валерий Асриян, известный в прошлом спортивный обозреватель, специальный корреспондент ТАСС и РИА «Новости», автор нескольких книг, как-то поделился со мной своим мнением о нашем земляке – бакинце Виталии Вульфе. Привожу его слова по памяти, но смысл сохраняю: «Он был интеллигентным, умным, но немного замкнутым человеком и не любил говорить о себе, но мог всегда поддержать разговор на любую тему. И его было очень интересно слушать. Блестящий рассказчик, эрудит, он великолепно знал историю мирового кино, театра и балета. Но, помимо его энциклопедических знаний, меня удивляла его феноменальная память. Говорят, когда Листьев увидел, как Вульф ведет передачу без подсказки, суфлера и видеоряда, импровизируя на ходу, он был весьма изумлен. Да и передачи свои, что тоже трудно представить, записывал с одного дубля. Как-то у Вульфа поинтересовались: как он может импровизировать по ходу телепередачи? На что он ответил: “Импровизация хороша только тогда, когда ты много знаешь о человеке, чью судьбу исследуешь на экране ”.
Конечно, у него были завистники и даже враги, но было много друзей и множество поклонников. Ведь он более двадцати лет открывал зрителям великие имена в программе “Мой серебряный шар”. И открывал так, как умел только он, словно проживая жизнь знаменитых людей, как свою личную. Он создавал идолов!
Вульф очень любил Россию и был ее патриотом. Когда он читал лекции в американском университете, то получил предложение остаться в США, от чего сразу отказался. Он не мог представить свою жизнь без России».
За свою многолетнюю и плодотворную деятельность в области культуры и искусства Виталий Вульф был не раз награжден орденами «За заслуги перед Отечеством», становился лауреатом национальных премий «ТЭФИ» и «Радиомания», Всероссийского конкурса «За образцовое владение русским языком».
Автор «Серебряного шара» признавался, что успех к нему пришел поздно, что у него был «долгий старт», и, возможно, поэтому, несмотря на пожилой возраст, он не щадил себя и продолжал работать: телепередачи, книги, руководство радиостанцией «Культура» – до последних дней он был постоянно занят работой.
Когда мой материал о Виталии Вульфе был близок к завершению, я получил воспоминания о нем от моего друга, писателя-сатирика, сценариста и драматурга Валерия Егиянца и предлагаю их вашему вниманию:
«В 1955 году, когда я учился в девятом классе бакинской школы, у нас ввели новый предмет “Логика”, а через некоторое время в нашем классе появился молодой, симпатичный и модно одетый человек. Это был Виталий Яковлевич Вульф. Вел он свой предмет необычно, сопровождая живыми примерами и интересными историями. У меня с первых дней с Виталием Яковлевичем сложились хорошие и добрые отношения, которые сохранились на долгие годы.
В начале 60-х годов, когда я переехал в Москву, мы встречались с Виталием Яковлевичем в юридической консультации, где он работал. Он всегда интересовался моей жизнью, делами, планами и желал успехов в работе. Не раз мы виделись в Доме кино и в Международном университете, где я был художественным руководителем студенческого сатирического театра миниатюр. Я всегда прислушивался к его дельным советам, и они помогали мне в работе. Мы часто встречались с ним в знаменитом Доме актера на Тверской, который во времена Юрия Лужкова был сожжен, и на его месте возник торговый дом… В то время я был знаком с коммерсантом Иосифом Грилем, который взялся за издание “Еврейской энциклопедии”, и я дал ему координаты Виталия Вульфа для включения его в это издание…
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе